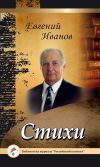Текст книги "Всеволод Иванов. Жизнь неслучайного писателя"

Автор книги: Владимир Яранцев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Глава 4
Сновидный 1920-й
Дальневосточный Иванов. Неизбежный Сорокин
Садясь 13 ноября 1919 г. в поезд, покидавший Омск, Иванов испытывал судьбу. В очередной раз, словно по привычке. Словно не хотел знать, понимать, что Колчак и его армия обречены. В каком состоянии он был тогда, был ли здоров физически и умственно, может быть, уже тогда в него вселился тиф, но не показывал себя, затаившись до поры, на месяц-полтора? А может, это была «болезнь» по имени «Колчак», столь же тяжелая, склоняющая к иллюзиям и галлюцинациям, как брата Палладия, сраженного малярией и в этом состоянии убившего отца? Фото Иванова тех лет нет. И мы не знаем, что было в его глазах, когда он покидал Омск и потом вагон газеты «Вперед», захваченный большевиками. Впрочем, был еще Новониколаевск, где Колчак остановился 21 ноября и задержался там в надежде организовать все же сопротивление 5-й армии красных, дать сражение. Он издал здесь приказ о создании «Верховного совещания» в составе основных силовых министров для «разработки общих указаний по управлению страной для объединения деятельности отдельных ведомств и согласования ее с работой армии». Он не просто «не пожелал ехать дальше Новониколаевска», как вспоминал генерал Д. Филатьев, но даже порывался отправиться назад, «к армии», несмотря на то, что обе колеи были заняты движением на Восток. «Тогда он решил, – пишет Д. Филатьев, – ехать к армии на санях». Как это напоминает отчаянный заплыв на утлой лодке сквозь льды к о. Беннетта на помощь пропавшему барону Толлю в 1903 г., на поиски Земли Санникова! И его еще едва удержали. Если знать, что Колчак и его поезд покинул Новониколаевск только 14 декабря, то получается, что эти три недели героического упрямства адмирала стоили жизни и ему, и многим, ехавшим с ним. Ибо, как свидетельствует тот же мемуарист, «его семь поездов забивали станцию, не позволяли принять лишних семь поездов с беженцами и отставшими управлениями, и эти поезда (…) ежедневно отрезались красными, отправлявшими их пассажиров кого на расстрел, кого на работы в копи. Поезда были сверх предельного состава, и в теплушках было набито по сорок человек с женами и детьми».
Станция Ояш, где Иванов закончил свой колчаковский бег на Восток, была уже за Новониколаевском, но недалеко, в часе езды. О чем он думал, на что надеялся в эти три недели стояния в городе? Разделял ли надежды Колчака на «второй Тобольск», верил ли его стойкости, духу, «саням», на которых он готов был ехать на линию фронта? Или действительно хотел бежать, «спрыгнуть с тамбура, чтобы затеряться среди людей, наводнявших станцию, а затем пробраться к партизанам», да охрана, скорая на расстрел беглецов, не давала, как писал он спустя сорок лет. Тем не менее отметим этот факт трехнедельного пребывания в Новониколаевске, особенно в свете того, что вскоре Иванов туда вернется. Но уже не по своей воле и в другом качестве. Вряд ли у него и его спутников по «типографскому» вагону было тогда веселое настроение. Однако в первой своей автобиографии 1922 г. он описал новониколаевские события до приезда в Татарск с лихостью автора какого-нибудь авантюрного романа, почти весело. Борис Четвериков как активный, впоследствии главный спаситель Иванова от смерти, буквально хохотал, читая эту А-1922, написанную для одного петроградского журнала о том, как белый офицер заставил Иванова поменяться с ним шинелями и за это его чуть не расстреляли на месте, и как «партизан-кержак», который хотел это сделать, потом расхотел, втянутый Ивановым в богословский спор, и когда уже повели на расстрел, его заметил в толпе знакомый наборщик и спас, сказав конвоиру, что он «совсем большевик». При этом Николаев (так звали спасителя) был описан так картинно – «рука на перевязи и на груди красноармейские значки», – что, развеселившись, Четвериков усугубил эту картинность, добавив от себя, что тот был «в буденовке с ярко-красной звездой», чего у Иванова в его А-1922 не было. Самое же интересное, что смеялся и сам Иванов, вернее, «хихикал, покачивая головой и как бы заранее каясь», когда подавал журнал с текстом своей автобиографии и уже известными нам словами о том, что он «тут малость приврал».
В воспоминаниях самого Четверикова есть не менее красочные сценки. Как они задабривали подошедших к вагону партизан мукой и маслом, и о том, как какой-то «пьяный всадник» пытался их вывести на расстрел. Нет в его рассказе о том, как уже в Новониколаевске Иванова повели на расстрел, и про чудесное спасение с участием знакомого наборщика. Вместо этого «военный человек» нехотя («расстрелять бы вас надо…») просто выдал им удостоверения работников печати и отпустил. В других автобиографиях, А-1925 и А-1927, Иванов просто умалчивает о новониколаевском инциденте, сразу переходя к 1921 году. А в «Истории моих книг» отделывается сообщением, что в этом городе заболел «сыпняком» и только уход друзей – Четверикова и «актрисы М. Столицыной» – помогли ему выжить. Кстати, за этой «М. Столицыной» стояла реальная Мария Синицына, его жена, которую, как мы уже знаем, он избегал упоминать. Тот же Четвериков в автобиографическом романе с узнаваемыми за вымышленными фамилиями прототипами указывает на ее любовную связь с художником Спасским, чего Иванов ей так и не простил. Сам Иванов в автобиографиях 1920-х годов почему-то «забывает» упоминать Четверикова, другого своего спасителя, что задело его при чтении той «лихой» автобиографии. Нет, совсем невесело было тогда будущему автору «Партизанских повестей», переход к красным дался ему нелегко. Над ним явно висел страх расстрела. Значит, было, за что? Значит, действительно Иванов чувствовал себя белым, «колчаковцем», слишком далеко зашедшим в симпатиях адмиралу, что даже сам это не осознал как следует?
Напомним, что еще до того, как Иванов «попал к партизанам», была его встреча с поэтом Масловым и они о чем-то некоторое время говорили, как видно из стихотворения поэта-колчаковца «Разговор». Заметим, что и до этой встречи и после нее Иванов не пытался убежать к партизанам, а наоборот, нес «мешок с трудом добытого угля, чтобы согреть наш вагон» – т. е. настраивался на долгий путь! И если бы не этот партизанский отряд, прервавший его движение на Восток, вслед за Колчаком, все могло быть совсем иначе. Его ждала бы смерть от тифа где-нибудь в Красноярске, как это произошло с Масловым, в противном случае пришлось бы искать белых и с ними уходить через Забайкалье в Харбин – общий приют многих русских, выживших в Гражданской войне. Встреча же с красными была для Иванова опасной: его на самом деле должны были расстрелять. И за то, что он напечатал в белых газетах, и за то, что бежал с врагами красных. И за его однофамильца, возглавлявшего Русское бюро печати, активного деятеля колчаковской прессы Всеволода Никаноровича Иванова. Словом, должен был ответить за себя и «за того парня». Не зря в А-1922 его уводят на казнь именно за то, что он «Всеволод Иванов», а Вячеславович он или Никанорович, уже никто бы не стал разбираться. Так что этот эпизод был, полагаем, все-таки подлинно автобиографическим, если он «физически» и душевно боялся, что его примут за того, большевикам лучше известного. И потому судьба Вс. Н. Иванова, добравшегося до Харбина и прожившего там двадцать лет, как-то мистически-фантастически становится вариантом судьбы Вс. В. Иванова, не наткнись передовой отряд ояшинских партизан на их типографскую теплушку.
А как человека Иванова спасли Четвериков и жена М. Синицына. А также уездный Татарск, где он занимался культурной работой и все тем же театром. Да и то, как оказался Иванов в Татарске, – целый «театр». Особенно по версии первой А-1922, где он, возвращаясь из Новониколаевска в Омск «в тифу», не подпускал к себе соседей по вагону, которые «хотят выбросить его», а у него «под подушкой револьвер». «В бреду семь суток лежал я с револьвером и кричал: «Не подходи, убью!» Усмиряли его и ухаживали за ним не друг Борис и жена Маруся, а какие-то «мохноногие мужики», которые учили его: «Дыши, парень, глубже, чтобы пропотеть. Раз вспотеешь – все можно сделать». И ведь так все достоверно, что веришь, не можешь не верить. И револьверу, и мужикам. Хотя надо бы верить Четверикову, который читал и «веселился» над этим «забавным детективом», от души смеясь «револьверу» – это в «полусознании»-то, «в тифозном жару»! И только спустя почти сорок лет, в «Истории моих книг», когда «театр» его жизни подходил к концу, Иванов отдал дань спасителям, правда, иногда меняя их имена: «Дмитрий» вместо «Борис Четвериков» и «актриса М. Столицына» вместо «жена Маруся Синицына». Они, пишет он, «ухаживали за мной чрезвычайно заботливо», «удача, доброта и друзья сопутствовали мне», когда его, Иванова, «тифозного, измученного войной, пассажиры без спора пустили в вагон». Четвериков в своих мемуарах словоохотливее: «Именно я уговорил рабочих не выбрасывать Всеволода и отвести ему и ухаживавшей за ним Марусе один отсек, крайний отсек вагона и изолировать его там (…). Вагон был допотопный, четвертого класса с тройными нарами и несколькими секторами. И вот (…) крайний сектор наглухо заколотили и поместили там Всеволода и Марусю. У них оказался свой выход из вагона, а у всех остальных, отгороженных от тифозного перегородкой с плотно закрытой, забитой внутренней дверью, был второй выход. Пищу и воду доставляли “карантинникам” через их вход с улицы, это было нетрудно, так как наш поезд чаще стоял, чем двигался».
Выздоровление Иванова совпало с долгой стоянкой поезда в Татарске, неслучайно этот малый город или поселок, состоящий из одной улицы, выглядит у обоих мемуаристов настоящим раем. Да и как не выглядеть, если Иванов был дважды на грани смерти – ему грозил сначала расстрел, потом тиф. И вдруг в Татарске базар, «куры, сметана!», «круги замороженного молока!», «караваи хлеба!», «сено!» – вспоминал Четвериков. А Иванову было достаточно «румяного солнца», «сладостно» сверкавшего снега, пусть рядом «грязные, потрескавшиеся, побитые снарядами и обгорелые вагоны» и «штабеля трупов» «на твердом и блестящем снегу». Веры в то, что его «здесь, в Татарске ждут какие-то необыкновенные события, встречи и еще много нежно-кротких людей», ничто уже не могло поколебать. «Ожидание счастья, – продолжает Иванов свои поздние мемуары, – не покидало меня – и, – завершает он абзац, – не обмануло».
Что же это за счастье такое ждало его в Татарске, обычном городке, которых на своем пути «факира», странствующего циркача, типографщика, начинающего писателя и плодовитого балаганного драматурга Иванов видел немало? Не зря он вспомнил своего курганского друга Худякова – именно Курган увенчал его «факирские» странствия и там же началась его литературная деятельность. И, как когда-то с Худяковым в Кургане, с Сорокиным в Омске, в чудном Татарске уже с Четвериковым они не просто дружат, но и творят. Но, в отличие от предыдущих своих товарищей по искусству, этот увлек его другим: «Мы с Четвериковым читаем лекции, участвуем где можно, а тетради с творениями мирно почиют на столах». Он ведь теперь лицо должностное – новое для него состояние – служит в местном, татарском наробразе инструктором школьного подотдела, вдобавок заведуя театральной секцией агитпропа. И в этом, видно, причина того, что, как Иванов пишет Худякову, «нет никакого желания писать», хотя вроде бы и «настроение не грустное». И все-таки: «Не знаю, почему», «так что-то» (28 марта 1920 г.). Зато Четверикову вполне хорошо пишется. Его пьеса «Антанта» оказалась отмеченной первой премией и целый сезон шла в Омском театре. В цитированном письме Худякову Иванов упоминает другую пьесу – «Недавно ставили здесь пьесу Четверикова “Ихтиозавры”. Пьеса имела успех».
Была ли это та же «Антанта», только под иным названием, или другая пьеса, неизвестно, но вряд ли это не задело писательское самолюбие Иванова. Хотя в упомянутом письме он и пишет, что самолюбие это или «самовлюбленность» («в этом ценность наша») «у меня расползается. Исчезает». Он ждет, что появится «что-то новое», что «заставит трепетать те “струны сердца”, выражаясь вульгарно, которых до сего времени у меня не было».
Это был самообман, последствия эйфории, вызванные избавлением от тифа и всего ему предшествовавшего. Так же, как и слова о том, что для него «книга теперь является советчиком в вопросах жизни, а не самоцелью, как было раньше». Такую «самоцельную» свою книгу «Рогульки», вывезенную в подкладке шинели, Иванов все-таки хранил, не выбросил, и в нужный час отправил ее Горькому, чтобы писать в столицах новые и новые книги, еще более «самоцельные». Нет, не мог он, познавший радости и восторги литературного труда, успехи, похвалы самых разных литераторов, наблюдать за успехами других. И сам факт получения премии Четвериковым не мог не возродить в нем писательских амбиций, заставляя преодолеть «учительские» настроения начинающего совработника и функционера: «Учишься сам и учишь других» (из того же письма). Так что скажем спасибо Четверикову еще раз за то, что он спас Иванова не только от тифа, косившего тогда людей десятками и сотнями тысяч, но и от творческого бессилия, грозившего превратить его в провинциального чиновника и массовика-затейника, использовавшего свои былые навыки балаганщика и сочинителя пьес для самодеятельных театров.
Видимо, Четвериков был изначально предназначен свыше для этой роли в судьбе Иванова. Бывший студент Томского университета, его медицинского факультета – вот откуда у него навыки врача, ставшие спасительными для Иванова! – вылечивший его и устроивший в Татарске на работу («взял к себе инструктором Внешкольного подотдела», – вспоминал он), он был знаком, через мать, организатора самодеятельных театральных групп, и с театром, и с современной литературой, особенно с футуризмом. Потому и так легко влился в «Большое сибирское турне» Бурлюка еще в Златоусте, выступая вместе с «отцом русского футуризма», читая их произведения. В Омске, например, декламировал «Мороженое из сирени» И. Северянина. Там-то он, очевидно, и познакомился с Ивановым, которого, однако, Бурлюк почитал больше Четверикова, называя того «мямлей».
Как бы то ни было, а Сорокин, как и Четвериков, оставался для Иванова хорошим литературным раздражителем. Из другого письма Худякову мы узнаем, что Иванов приезжал в Омск – при всей-то «благословенности» Татарска! – и даже «на несколько дней», посещал «своих знакомых». Виделся ли он и с Сорокиным, благоразумно в городе оставшимся? Может, и нет, потому что простились они тогда, в ноябре 1919-го, т. е. совсем недавно, не очень хорошо. Когда Иванов и Четвериков пришли к нему со словами: «Антон Семенович, бежим, иначе Вас расстреляют», он ответил, что «кровавых рассказов я не писал, соблюдал нейтралитет и никуда не поеду». И вот теперь, в победном для красных 1920 г. он имел право написать: «Результаты бегства Иванова и Четверикова более чем печальны». И не только потому, что якобы «около Новониколаевска их начальство село в автомобиль с Ивановым-Риновым и укатило, оставив на произвол судьбы свой поезд» – откуда он, омский домосед, мог об этом знать? – бросив наших героев и других сотрудников газеты на расправу. Но и потому, что не известно, как ныне отнесется к ним советская власть, казнит или милует? А вот добрый Сорокин, конечно, все простил и помог провинившимся. Оказывается, это он посоветовал выписать Иванова и Четверикова Оленичу-Гнененко, который «набирал редакцию для газеты “Рабочий путь”», да еще «гарантируя им безопасность». Что и было сделано. Но «доброта» эта была с подвохом: тут же «благодетель» Сорокин бросает тень на Иванова, который, по его словам, «отдает» пьесу Четверикова «Антанта» «на конкурс», и она «премируется и издается как ивановская, под псевдонимом “Изюмов”». Кроме того, он утверждал, что «Иванов писал трусливые письма, боясь, что ему влетит от Соввласти», уже в 1921 г. Правда, его к тому времени уже не было в Сибири.
Конечно, негодуешь, клянешь этого неуемного скандалиста Сорокина, переносящего на других собственные методы воровства чужих произведений. И в то же время чувствуешь, что есть в этом некая правда. Искаженная, перекошенная в свою пользу, но правда, ее крупицы. Так, о страхе перед разоблачением Иванова, о котором и мы уже писали, просто вопиет его анкета для редакции газеты «Рабочий путь». Напомним, что в ней он был крайне скуп на подробности, немногословен, а порой, и неточен, как в графе о месте рождения, коим здесь значится Семипалатинск. Нет тут, естественно, ни слова об эсеровской партии, с членством в которой он прошел в Курганскую думу, ни о колчаковской газете «Вперед». Вместо них «Союз Сибирских маслодельческих артелей. Редакция» – до революции, «Типография Центросоюза – метранпаж» – во время революции «до поступления на должность данного учреждения» и, конечно, «Р(оссийская) К(оммунистическая) П(артия)» – по партийной принадлежности. Но тем не менее в графе «Ваше отношение к Советской власти» записывает: «Сочув(ствую)». А вот в графе «Где находились на службе или в какой должности до прихода Советских войск» уже явно придумывает: «Татарский отдел Центр (далее неразборчиво. – В. Я.) и типография Центросоюза». И вообще в анкете много «татарского». Помимо «зав. театральной секции Татарского унаробраза (уездного управления народного образования. – В. Я.)» – на вопрос «Какую ответственную должность занимал в партии или советских учреждениях», и «Татарский агитпроп» – на вопрос о нынешней должности. И красноречивое молчание, пробел в графе «Кто вас рекомендовал или рекомендует на настоящую службу». О Сорокине, который «советовал» его принять, Иванов, видно, не знал, – потому что, скорее всего, этого не было, – а А. Оленича-Гнененко не записал, так как это его будущий начальник: зачем лишний раз упоминать?
За такую анкету, попадись она опытному кадровику, Иванова бы немедленно привлекли к ответу. Но, во-первых, власть, ошалевшая, наверное, от такой оглушительной победы над огромной армией Колчака, была не в пример последующим годам мягкой, либеральной к подозрительным людям. Особенно нагляден пример Вяткина, который при Верховном правителе был ярым антикоммунистом, а при советской власти оказался приговоренным только к «общественному презрению» и поражению в избирательных правах на три года. А во-вторых, при редакторе «Рабочего пути» Олениче-Гнененко, весьма хорошо относившемся к Иванову, он мог и на анкету эту смотреть как на формальность. И тут биографа Иванова вновь ждут трудности. Анкету он заполнил, как предполагается, летом 1920 г., в июле-августе. А приехал он в Омск, в редакцию «Рабочего пути», едва ли не зимой. По крайней мере, Оленич-Гнененко вспоминает об этом так: «Поздней осенью я написал ему (Вс. Иванову. – В. Я.) туда (в наробраз Татарска. – В. Я.), предложил заведовать в «Рабочем пути» отделом местной информации (…). Я долго не получал ответа. Однажды, уже зимой (…) отворилась дверь и на пороге появляется, смущенно улыбаясь, Всеволод Вячеславович, приземистый, круглолицый, красный с мороза, он был в пышной белой заячьей шапке с длинными ушами на манер пыжиковой, в коротком желтом полушубке и по-сибирски расшитых цветным гарусом пимах. Ну, прямо-таки деревенский парень из тайги». От мемуариста не ускользнуло, что, усаживаясь на указанное кресло, Иванов со вздохом начал разбирать «кипу лежащих на столе корреспонденций». Да и целых полтора месяца его раздумий над его предложением Оленич-Гнененко тоже отмечает. Не торопился Иванов надевать на себя хомут журналистской работы. Настолько, что разрыв между приглашением и анкетой, написанной летом 1920-го, а потом прибытием в «Рабочий путь» (в лучшем случае в конце октября) возрастает до двух-трех месяцев. Или анкета все-таки была заполнена месяцем-двумя позже, или ошибся мемуарист?
Во всяком случае, в «Рабочий путь» Иванов явно не рвался. Как, в общем-то, и в «Советскую Сибирь», куда, как пишет Оленич-Гнененко, он перешел «с помощью Емельяна Ярославского», «литературным сотрудником». Тут, очевидно, сыграл роль авторитет крупного партийного деятеля, тогдашнего редактора краевой газеты. И опять вопрос о датах. Биографы пишут, что «в июле 1920 г. Всеволод Иванов перебрался из Татарска в Омск и с помощью друзей устроился в типографию газеты “Советская Сибирь”» «вторым выпускающим». Как же быть тогда с анкетой «Рабочего пути», писавшейся в это же время, и приездом Иванова в Омск зимой того же года? Ведь именно из «Рабочего пути» он перешел в «Советскую Сибирь», где, как свидетельствует Оленич-Гнененко, «постоянно он начал печататься», причем под псевдонимом «Изюмов», принадлежавшем Четверикову – еще одна путаница его загадочной биографии. Если прав Оленич-Гнененко, то в «Советскую Сибирь» Иванов мог перейти лишь в ноябре-декабре 1920 г. на освободившуюся после ослабленного тифом и уехавшего в Усть-Каменогорск Анова вакансию. Но и тут Иванов не задержался. Вернувшегося в литературу, его уже тяготили газеты, и Омск, и Сорокин, чей лит. кружок продолжал гудеть и полняться молодежью. Но от гипноза сорокинских слов и дел трудно было защититься. Можно только бежать, как бежал сам Колчак в тех самых «Тридцати трех скандалах». По свидетельству Мартынова, Сорокин читал эти «Скандалы» еще в 1920 г. на лит. кружке – книга была создана только в середине 1920-х. И Иванов, услышь их, убежал бы, не хуже Колчака, от такого страшного человека. А может, и не человека? Ведь мог же он по-шамански заклинать людей. И не могли ли все эти скандалы ему примерещиться, как осторожно предполагают некоторые исследователи творчества Сорокина?
Между Татарском и Омском. «Ряд рассказов и сказок»
Не пригрезилась ли Иванову его жизнь, особенно в этом, особом, 1920 году? С которой он, наверное, уже простился в декабре 1919-го, попав в Новониколаевское ЧК и потом тяжко заболев тифом. И вдруг жизнь к нему вернулась, и он не знал, что с ней делать. И только к концу 1920-го Иванов словно окончательно просыпается и словно в удивлении оглядывается на минувший год: а что в нем было, чем занимался, где и кем работал, куда ездил, с кем общался, пока не оказался литсотрудником «Советской Сибири» под начальством самого Е. Ярославского в отдельной комнате редакционного общежития, где бывали поэт И. Ерошин, матрос Павел Словохотов (запомним это имя!), а также Вяткин с Сорокиным и еще большевики, которые творили историю новой советской Сибири. И это было еще более удивительно, фантастично, больше, чем даже победа большевиков в Октябрьской революции – эта победа над Колчаком и его армией. Так скоротечно: сначала стремительный бросок на Волгу, «на Москву», потом столь же стремительное бегство назад, и вот уже в Омске Советы и недавний политзэк и подпольщик Оленич-Гнененко – редактор новой газеты и приглашает его к себе на работу! Был ведь он сам еще в 1917 г. эсером, а в 1918-м еще только эволюционировал в сторону большевиков через «Автономную группу меньшевиков-интернационалистов». И вот он уже в омском большевистском правительстве, член губернского комитета по всеобщей трудовой повинности и управляющий делами.
А что же сам Иванов? В декабре того страшного 1919 г. он должен был уже прибыть в Татарск. А может, и в январе 1920-го, никто ведь точно не скажет, нигде это не записано. Все было, как в тумане, вернее, в тифу. Только к февралю он более-менее оклемался от тифозного состояния. Тут и печенка помогла, которую нашли в застрявшем на станции эшелоне – целых три вагона. И потом ее долго-долго ели. Весь город ел, в любом виде, вареную и жареную, о чем рассказал в своих воспоминаниях Четвериков. С ней-то, спасибо ей великое, Иванов воскрес к жизни, так что с ходу написал письмо. И не кому-нибудь, а Горькому: «Обитаю в крошечном степном городке». Это он уже отчетливо сознавал. Как и то, что есть огромный Петроград и Москва, куда ему вдруг так сильно захотелось. «Теперь, Алексей Максимович, у меня к Вам большая просьба – помогите мне выбраться в Петербург или Москву». Причем немедленно, сейчас: «Нужно немногое – какую-нибудь бумажку, чтобы меня пускали в вагоны, а то ехать на площадке мне трудно и едва ли доеду. Денег я на дорогу наскребу». Как раз друг и брат по литературе Четвериков устроил его инструктором внешкольного образования в свой подотдел. Хотя Иванов сразу настроился на местную типографию – привычка, профессия! Бывало, приходишь в незнакомый город или поселок, и сразу ищешь типографию, устраиваешься наборщиком; в крайнем случае организовываешь с друзьями «балаган» и прочее факирство. Теперь вместо балагана – советский драмкружок, силами которого поставили «Женитьбу» Гоголя, и он играл Подколесина, а Четвериков – Кочкарева. Четвериков, конечно, был горд: такое дело сделали, вокруг разруха, а они спектакль ставят. А Иванову, тоже по привычке, захотелось написать – какой он к черту Подколесин, навязанный Четвериковым, – он и сам может написать своего Подколесина, как Гоголь. Тогда-то, видимо, и написали они эту «Антанту». Только кто из них писал, точно не помнит: подписано «В. Изюмов», псевдонимом, который он использует в своей газетной работе. Наверное, идею подал он, а писал Четвериков: оба еще боялись пользоваться своими фамилиями – а вдруг «привлекут», как Вяткина. Главное, пьеса, как оперетта, пошла в Омске, отмеченная премией. А кто автор, дело второе. Они с Четвериковым здесь, в Татарске, как одно целое.
Чем же то письмо Горькому заканчивалось? «Теперь путь открыт, – и я решил пробираться во что бы то ни стало». То есть к Вам, Алексей Максимович, в столицу. Ту или другую. Ибо до того, при Колчаке, они, эти «столицы», были где-то далеко, и, казалось, нельзя никогда будет в них попасть, и забудешь о них, «уткнешься в книгу». Хотя тут же писал, что «солдатствовал в колчаковской армии», – значит, не очень рьяно «солдатствовал». И опять про учебу, уже в самом конце: «Не спекулировать же я еду, а учиться». Знал, что для Горького нет слова лучше, чем учеба. Вспоминал, наверное, те, двухлетней давности его письма, где Горький сетовал на его плохую грамотность, настойчиво советуя учиться, читать «писателей-стилистов»: Чехова, Тургенева, особенно Лескова. И поменьше «удальства», и «не грубите очень-то», указывал классик. О чем речь! Теперь, в этом письме нет и следа того ухарства эпохи первых «курганских» рассказов. Он в роли ученика, Горький в роли учителя – не к Сорокину же опять идти, скандалить. Тише воды, ниже травы.
Но ведь и не совсем же он и «ученик». Книгу «Рогульки», оттеснившую первые свои самодельные ученические «книжки», он с этим письмом Горькому послал. Как уже писатель, пусть и начинающий. А главное, страстно желающий им быть. И эти «30 экземпляров» – весь тираж «Рогулек», «напечатанный трудами моих товарищей по типографии», как писал он, больше всего должны были тронуть Горького. Там, в глухой Сибири, таясь от кровавого диктатора Колчака, «солдатствующий», полуголодный юноша пишет рассказы и даже печатает книги, количеством 30 экземпляров. Слезы умиления, скорее всего, текли у Горького, когда он это читал. Но ответного письма Иванов прождал почти целый год. В ноябре не вытерпел и написал еще раз. А пока, до ноября, чем занимался? Он все чаще ездит в Омск, все больше задерживается там, возобновляет знакомства. Подумывая и о тех манящих столицах: а не махнуть ли туда без всяких Горьких, самоволкой? Так и пишет Худякову: «Хотел летом ехать в Москву или Питер, но запугивают голодом, и не знаю, что делать».
Уж не те ли запугивали, кто еще весной послали Иванова закапывать трупы? Об этом он будет молчать до поры до времени, аж до 1925 г., когда напишет рассказ «Как создаются курганы». То ли за давностью лет, то ли по установившейся уже привычке он кое-что изменил в своей биографии. В рассказе он только «проезжал мимо станции Татарка» в Омск, где губисполком выдвинул его «кандидатуру в зав. отделом внешкольного образования». И никакого участия Четверикова, его помощи в устройстве Иванова в наробраз Татарского, как мы твердо знаем, уезда. Потом его убрали с должности, итогда-то и получил наряд на захоронение 8 тысяч трупов с «неограниченными полномочиями». Весной работу выполнил, а летом сделал из братской могилы настоящий курган, так как пришлось уплотнять «треснувшую» могилу, засыпая ее глиной. На холм поставил крест, а исполнитель и рассказчик «вернулся в Омск».
Можно, конечно, вообще не верить в эту страшную историю и ее подробности – к рассказу мы еще вернемся. Можно и верить, как биограф Иванова А. Штырбул. Тем более что там, в рассказе, все выглядит так достоверно: «послетифозный пух вместо волос» на голове героя, «отекшие глаза и тощая монгольская бороденка» зимы 1920 г. А уже весной: «волосы отросли в дикие лохмы, очки треснули, – у меня зябли руки, и я носил огромные перчатки шоферов. Вид я имел страшный». Ну, как не поверить, если все тут соответствует временам радикальных мер военного коммунизма, продразверсток и «неограниченных полномочий» в отсутствие профессиональных кадров работников? Для нас же главное в этом рассказе – атмосфера какого-то полусна-полуяви, инспирированная послетифозным состоянием, боязнью «Чека» и страхом от того, что «чудилось: Колчак не расстрелян, вернулся, огромные эшелоны с солдатами опять идут к Омску». В этой атмосфере полусна-полукошмара и родился этот «секретарь губисполкома», который выделил герою целый вагон с тремя подрывниками, динамитом, секретарем и машинисткой, который и послал его к штабелям трупов со всеми подробностями их мертвецкого вида. Таких штабелей он уже успел навидаться. Особенно в Новониколаевске, где «трупы валялись у насыпей», и их еще добавляли: «поездами привозили с разъездов замерзшими», как писал Иванов в А-1922.
Теме сновидности состояния человека, окруженного такими кошмарами (состояния своего собственного), Иванов посвятил рассказ о той же зиме 1919 г. – «Происшествие на реке Тун». В его центре – сон-утопия о близком будущем человечества, где трупы уничтожаются особым аппаратом, похожим на трость, солдаты воюют с помощью «утюгообразных машин, кончающихся хоботом», есть там огромное здание «в сотню этажей», из которого смотрят «изможденные лица». «Какой странный сон», – думал автобиографический герой, а его товарищ по отряду Хабиев, увидевший этот сон о будущем, заставляет верить в него и героя этого рассказа. И этому герою не по себе от того, что происходит в настоящем, заваленном трупами, овеянном смертью, враждой, одеждой, полной вшами. Тем же 1925 г. датированный, рассказ этот тоже передает чувства автора, а не реальные события.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?