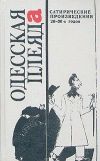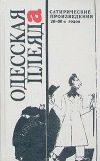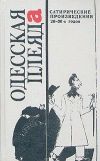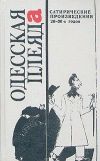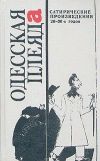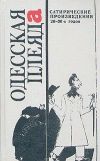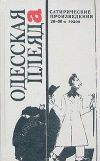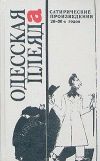Текст книги "Всеволод Иванов. Жизнь неслучайного писателя"

Автор книги: Владимир Яранцев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Но все-таки, что же было с Ивановым в реальности в этом сновидном 1920 г.? Мы как будто убедились в том, что в марте он точно был в Татарске, работал зав. секцией народных домов и клубов. А вот апрель, май, июнь остаются «бесхозными»: предположим, что Иванов продолжил свою деятельность в Татарском уезде, видимо, успешную. Ибо в А-1922 он сообщал: «за открытие школы и избы-читальни в поселке Брусничном подарил мне сход два мамонтовых клыка, найденных в те дни в Урмане», т. е. в тайге. Вряд ли это могло быть зимой. Значит, весной и отчасти летом он был поглощен своими «татарскими» делами. Тем более что писать ему, как мы помним, тогда не хотелось. Остается тот самый спорный месяц июль, когда Иванов якобы переехал в Омск работать «зав. информационным отделом газеты «“Красный (правильно: ‘Рабочий’. – В. Я.) путь” – органа Омского губкома и губбюро РКП(б)», как значится в «Хронике основных политических событий и фактов биографии Всеволода Иванова 1917–1921 гг.». То же написано и в анкете в графе «занимаемая должность», т. е. на момент заполнения анкеты: «Зав. Информационной частью Инф(ормационно) – инст(рукторского) подотдела». Если, конечно, считать июль или август временем переезда Иванова в Омск и начала его работы в газете. Получается, что Иванов был в Татарске практически до зимы, а в Омск, видимо, только наезжал, очевидно, присматривался к обстановке, к возможности переезда туда. И тогда же работал не совсем для «Рабочего пути», а еще и для «Советской Сибири», пока «совсем не перешел туда», и это могло быть только где-то в начале 1921 г. Так выходит, если верить Оленичу-Гнененко, а он был тогда редактором будущего «Рабочего пути» и ответственным секретарем Омского губисполкома. Неужто такой серьезный человек мог на целых полгода ошибиться?
Есть у нас и еще одна безоговорочно точная дата: 25 ноября помечено очередное письмо Иванова Горькому. Удрученный долгим молчанием Горького, он тем не менее вторично просит помочь уехать из Сибири в таких выражениях: «просьба (…) взять меня отсюда в Питер, где я мог бы работать», «желал бы учиться», «то, что я знаю, здесь мало кто знает, а больше, у кого можно было бы учиться – никто», «я мог бы быть полезным в Петербурге, более, чем здесь». Звучало это несколько высокомерно, но в то же время и искренно. Попытка стать сельским провинциальным культработником, «опроститься», учиться самому, чтобы учить других в Татарской тайге, не удалась. А в Омске был нежелательный Сорокин. И навязчивый, как сновидение, Колчак, который никак не уйдет из города, судя по рассказу «Как создаются курганы». И в любой момент мог явиться Иванову. Он, конечно, знал, что его расстреляли. А вдруг нет?
Тут еще майский процесс на Атамановском хуторе – суд над министрами Колчака, широко освещавшийся в газетах. Чрезвычайная следственная комиссия (ЧСК) собрала и передала в суд уйму документов – постановлений, распоряжений, протоколов заседаний, телеграмм и т. д. бывшего правительства: везли из Иркутска пудовыми ящиками! А если среди них были касающиеся газеты «Вперед», Янчевецкого и др. и всплыло бы и его имя? Ясно, что в интересах Иванова было скрываться в глухом медвежьем углу, переждать волну репрессий, и Татарск для этого был подходящим местом. Тем более что характер работы «агитпроповца» и «культурника», «театрала» и «инструктора» предполагал постоянные разъезды, и он мог заехать в такую даль, в такую тайгу, что его там не нашла бы никакая ЧК. Об этом говорят те самые два мамонтовых зуба, которые подарили ему жители поселка Брусничный.
Иванову повезло, что процесс оказался плохо подготовлен. Девяносто процентов накопленных для суда материалов был результатом работы ЧСК, возглавлявшейся «меньшевиком-интернационалистом» К. Поповым. Тем, который руководил допросом Колчака, при этом слишком не придираясь к адмиралу. Совпадение это или нет, но рассказ «Как создаются курганы» написан в том же 1925 г., когда была издана книга «Допрос Колчака» с предисловием К. Попова. Она словно воскресила Верховного правителя, который уже тогда, в 1920-м, казался Иванову живым, ассоциируясь с Омском и горой трупов, нуждавшихся в упокоении. Если он все же читал эти «Допросы» и подумал об «автоматизме» ответов адмирала, его странном спокойствии, с которым он встретил свою смерть, может быть, ему вспомнились разговоры о странных переходах в настроении Колчака, от бурных всплесков гнева к подавленности и отрешенности, которые относили к кокаинизму Верховного правителя.
Ладно бы эти отпетые недоброжелатели адмирала. Но когда об этом пишет Урманов, «брат Кондрат», как Колчак «отыскивает миниатюрную лакированную коробочку; белый порошок покрывает ноготь большого пальца, и пыль влетает в крутой вырез ноздрей. Кокаин действует успокоительно, адмирал откидывается на спинку кресла и на минуту закрывает глаза…» Знал бы «Кондратище» об увлечении Колчака дзэном, буддистской философией, которая говорит о состоянии двойного отрицания: «не не быть» и еще «об особенном состоянии, достигаемом самоуглублением, называемом “джаной”». Только самому близкому человеку – Тимиревой – мог он поведать об этом в начале 1918 г. В описи вещей, которые были в его камере – только «банка вазелина» и «банка сахара»; в списке личных вещей адмирала, переданных в мае 1920 г. в отдел наробраза Иркутска и впрямь есть какая-то «коробочка, лакированная яйцом». Но если бы там был наркотик, уж, наверное, большевики раззвонили бы об этом. Поменьше бы его, погибшего, поминать. Иванов так и делал, стараясь в 1920-м быстрее забыть Колчака. И только его дальневосточный тезка Вс. Н. Иванов писал через восемь лет после гибели Колчака о совести, которой не было «ни в красном, ни в белом стане» и которая «была только в одном адмирале Колчаке».
Иванов хотел скорее забыть все это колчаковство, оставшись в Татарске и занимаясь нардомами и библиотеками, бросив даже писать. И тут этот судебный процесс над колчаковскими министрами. Начальника Иванова Янчевецкого среди других, причастных к издательскому делу, слава Богу, не было. Но было ясно, какое значение придавали большевики печати и тем, кто был тогда по другую сторону баррикад: они достойны казни. А теперь представим, что Иванов к маю 1920-го, когда готовился и прошел суд над колчаковскими министрами (29–30 мая), работал бы в омской газете. Ведь он был бы просто обязан там присутствовать, освещать процесс в печати. Даже в июле, когда, как считается, Иванов был уже в Омске и служил в «Рабочем пути», он, на наш взгляд, не был готов к переезду в Омск. И психологически, и нравственно. Тот «обмерзлый» Колчак бы мерещился. И расстрелянный 23 июня 1920 г. начальник Вс. Н. Иванова А. Клафтон. И бежавший в Китай сам Вс. Н. Иванов, вскоре оказавшийся в Дальневосточной республике (ДВР), в правительстве братьев Меркуловых. Он-то еще на что-то надеялся.
Теперь можно понять, почему, по Оленичу-Гнененко, Иванов так долго тянул с ответом из Татарска и не ехал сразу после приглашения. Ему, инструктору УОНО (уездного отдела народного образования), тихому провинциалу, было спокойно вдали от места, где расстреливали работников колчаковской печати. И все-таки он не выдержал, и в ноябре 1920-го – по нашей версии – приехал в бывшую белую, а теперь красную столицу Сибири и, вздыхая (тоже понятно, почему!), приступил к газетным делам. И охотно, при первой возможности, выезжая из Омска ради тех или иных корреспондентских дел. А потом взял и написал, в особо тяжкую минуту, ноябрьское письмо Горькому, завершавшееся столь эмоционально: «Вы ведь, наверное, не поймете тоски провинциального города. У-ух!..». Знал бы Горький, что стоит за этой тоской и этим протяжным «у-ух!» желание одним разом покончить с прошлым, начать все с нуля. Колчак и все, с ним связанное, были невыносимы. Не зря уже в Петрограде он напишет произведения, где с Колчаком и карателями воюют даже деревенские плотники и в насмешку зовут «Толчаком» – «Партизаны». А в «Бронепоезде 14–69» он переносит действие на Дальний Восток, когда адмирала уже нет. Получив 20 декабря 1920 г. обнадеживающий ответ от Горького: «Здесь (в Петрограде. – В. Я.) Вам будет лучше, и Вы будете лучше», Иванов готов был уехать немедленно. Но не получилось. 16 января 1921 г. он пишет Горькому из Омска: «Не писал потому, что хотел выбраться и уехать своими силами. Но не удалось, и я еще раз обращаюсь к Вашему содействию». Нужна была только одна «бумажка» или телеграмма председателю Сибревкома тов. Смирнову: только он, как самый главный начальник «Советской Сибири», мог решить вопрос с его отъездом, точнее, «откомандированием». Ибо к тому времени, и это можно сказать уже точно, Иванов работал в этой газете выпускающим, и редакция почему-то «не желала» его отпускать. Тревожился ли Иванов по этому поводу?
Был и дополнительный повод: перейдя на работу в «Сов. Сибирь», он получил комнату в общежитии газеты, отдельную – вот радоваться бы! Но его соседями оказались… Лучше бы их не видеть. Ибо рядом жили: Ярославский, секретарь Сиббюро ЦК и редактор «Сов. Сибири», и сам профессор А. Гойхберг, зав. отделом юстиции Сибревкома, председатель того самого суда над колчаковскими министрами и гособвинитель на этом процессе, а также «старый подпольщик», «легендарный матрос» и другие знатные революционеры. Хорошее соседство! Впрочем, может, и наоборот, их присутствие, особенно страшного Гойхберга, и пошло на благо: суд-то уже миновал, и знакомство, пусть и шапочное, могло быть полезным. Тем более что у Иванова появился новый покровитель – сам Ярославский, который, как пишет Г. Петров, «с особенной заботой относился» к Иванову, видя в нем «человека большого таланта и быстро созревающего крупного писателя». Но могли быть у известного партийца и свои виды на этого «крупного писателя», например, сделать его партийным работником в одном ряду с Оленичем-Гнененко и Ф. Березовским, попробовать в разных сферах большевистских дел и начинаний. С кадрами в начале 1920-х гг. ведь было очень плохо. Грамотные люди были нарасхват, а если еще и с образованием, то и вообще их загружали с головой. Например, писатели В. Зазубрин и В. Итин, которые, оказавшись в Канске, имели несколько должностей. Так, Итин был зав. отделами агитации, пропаганды, политпросвещения, заведовал местным отделом РОСТА, был редактором газеты и председателем товарищеского дисциплинарного суда как закончивший три курса юридического факультета Петербургского университета. Да и сам Иванов был «многостаночником»: зав. секциями клубов и театров, инструктором УОНО, работал и в типографии, и журналистом. С этим же, очевидно, связано и сохранение Вяткина, тяжело провинившегося перед советской властью, на свободе. И если бы Иванов ответил, так сказать, взаимностью на «ухаживания» Ярославского, то, может, и вместе с ним оказался бы на судебном процессе над Унгерном в Новониколаевске в 1921 г., где тот выступал гособвинителем. И еще участвовал бы в создании знаменитого впоследствии журнала «Сибирские огни» вместе с Л. Сейфуллиной и В. Правдухиным. Но, как мы знаем, этот город, Новониколаевск, оставил для Иванова слишком недобрую память, чтобы он захотел там жить или работать, в отличие от Зазубрина и Итина. Тем более что он вообще уже мысленно порвал с Сибирью. И не мог уже здесь быть и месяца, недели, одного дня!
Воспоминания Петрова вновь говорят нам, что Иванов жил в Омске и работал в «Сов. Сибири» намного дольше, чем мы полагаем, – с весны 1920 г. Не зная, как совладать с такой настойчивостью мемуаристов, предположим другое: что Иванов умудрялся совмещать работу в Татарске и Омске, так сказать, «вахтовым методом», бывая наездами в городе и сохраняя основными прописку, место работы и должность в Татарске. Это было вполне в духе и стиле той эпохи интеллигентов-«многостаночников», о которых мы сказали. Но почему-то больше доверия воспоминаниям Оленича-Гнененко, который принял Иванова на работу в «Рабочий путь» только поздней осенью 1920 г. И только после этого, только к 1921 г. или в его начале, Иванов начал печататься в «Сов. Сибири», заметим, под псевдонимом «Изюмов». И наконец, с помощью Ярославского перешел туда литературным сотрудником. Хотя Петров пишет, что он работал там и метранпажем, и наборщиком, и «выпускающим – ночным редактором». Возможно, Петров присовокупил себя и свои воспоминания из 1919 г., когда у них в Омске было целое молодежное содружество, включая Анова, Рябова-Бельского, Урманова и др., которому добавляла азарта подпольность. Не зря в этих воспоминаниях есть слова о «жизнерадостном виде, общительном нраве» Иванова, что опять же может быть анахронизмом годичной давности. Но не будем и отрицать мемуариста. Ибо тогда, примерно со второй половины 1920 г., Иванов вновь начал писать, входя в колею прежнего своего писательства, когда он блистал «Рогульками» и еще раньше – рассказами «По Иртышу», «Дед Антон». В наступившей «второй» и окончательной советской власти, сравнительно с «первой», 1918 г., требовалось как-то переварить, художнически переосмыслить новый материал. Вот и Оленич-Гнененко сообщал, что, «работая в отделе (газеты “Рабочий путь”. – В. Я.), Всеволод Вячеславович написал на материалах, рабкоровских и селькоровских заметках, ряд рассказов. Помню, что один из них назывался “Глиняная шуба”».
Был он, однако, чуть ли не единственным рассказом, относившимся к «селькоровским» материалам. Но главное, что должно было смутить того же Оленича-Гнененко, это то, что действие рассказа времен продкомиссаров и продразверсток, т. е. самого что ни на есть современного, происходит в Павлодаре, на реке Иртыш. Далеко от Татарска, и не в Омске, а в родном Иванову городе на границе с «киргизской» степью. А в другом рассказе, «Бруя», написанном уже в Омске в январе 1921 г., действие еще ближе к родным местам: там упоминается «Гринька атаманов» из «Лебяжьева», за которого хочет выдать героиню рассказа его отец. «Лога», рассказ, который тоже мог быть написан еще в Сибири, использует тот же «материал» – казачья станица, Иртыш, голодные «киргизы», просящие хлеба. А уж цикл «Алтайские сказки», датированный 1920 г., совершенно точно написан в Сибири, в Омске и Татарске. О нем Иванов упоминает в письме Горькому 16 января 1921 г.: «Написал ряд рассказов и сказок, причем хотел сейчас “Алтайские сказки” послать Вам, но затеряются, должно быть, лучше уж сам привезу». А эти сказки и вовсе вне времени, к его работе в газете никак не причастны. Наоборот, дают повод думать, что Иванов хочет отстраниться от современности, всех этих комиссаров, продразверсток, «кумыний» и советских венчаний, как в «Бруе». Все это напоминает прошлый, 1919 г., когда в разгар работы в колчаковской газете «Вперед» Иванов пишет рассказы (и вскоре издает их книгой) совершенно аполитичные, чтобы отдохнуть от войны. Как герой рассказа «Духмяные степи» инженер Янусов, приезжающий в родную станицу, вдыхает запахи Иртыша, любуется пологом неба, наслаждается степью. Его будто бы позвала кровь предка, хана Кий-оглы, но в решающий момент эта кровь «не заплакала», и он покидает степь. Так и Иванова в колчаковском 1919-м позвала его малая родина, и он написал совсем другие по настроению рассказы, по собственному определению, «краснощекие».
Через год, в 1920-м, ситуация повторяется, он пишет такие же «краснощекие» рассказы «Бруя», «Лога», «Глиняная шуба» и возвращается к уже совершенно целомудренным и полным жизни «Алтайским сказкам», опубликованным еще в 1918 г. Так что кажется, будто бы он каким-то образом смог побывать на родине и на Алтае, набраться творческой энергии и на новом месте пребывания написать эти рассказы. В которых, однако, так или иначе присутствует и современность, советская власть. Подобно инженеру Янусову, он и хочет вернуться в прошлое, но и от современности ему не убежать. В «Алтайских сказках» Иванову удалось вернуться в прошлое практически идеально. С богами и духами алтайской мифологии он знаком, как с живыми, а не сказочными. Да и не мифология это, а словно реальная жизнь в каком-нибудь алтайском или киргизском ауле. Верховный бог Кутай, как мудрый аксакал, снисходителен к проделкам своих подчиненных богов – злой ведьмы Кучичи, доброго Вуиса и земных жителей, будь то старец Аянгул, пытавшийся отмолить грехи свои и всех людей, или капризный «уенчи – певец Докай», который, пользуясь добротой Кутая, побывал богом, но остался ни с чем. Есть тут, как и в баснях, и доверчивый баран, и прожорливый заяц, и самолюбивый горный козел, и все они получают по заслугам. Но главное здесь – язык, манера рассказывать – короткими, энергичными фразами, в которых и характеры персонажей, и природа, и мудрость сказителя. И в то же время – сюжет, повороты которого непредсказуемы. Особенно интересна в этом смысле небольшая сказка «Аю» – о медведе, который хотел добить, «давнуть» хвастливого охотника Уртымбая, попавшего в его смертельные объятия, но тут случилось странное. Аю-медведь увидел в глазах жертвы свое неприглядное отражение: «Маленькая морда, желтые клыки и пена на них», а Уртымбай – свое: серое, «как солончак, лицо и бороденка – как горсточка сухой травы». Медведь отпустил хвастуна, нисколько не переменившегося после этого, оставив ощущение более человеческое, человечное, чем ничтожный охотник.
В общем, Иванов здесь, в этих сказках, в своей стихии: он свободен, непринужден, словесно пластичен, разнообразит лексику от грубой до поэтической. И конечно, образы, часто такие неожиданные, что диву даешься: «от думы даже шерсть вылезла» или «губы – как собака на медведе». Но если здесь, в подвижной реальности сказки-мифа такие преувеличения уместны, то в рассказах о современности подобные неожиданности сюжетных и образных ходов оставляли впечатление какой-то неясности смысла, даже таинственности. Того, что потом выльется в известную формулу на уровне самохарактеристики своего творчества: «тайное тайных». Просто Иванов не терпит однобокости, одного только страдания или шутки, а крестьянская патриархальность и фольклорность невозможны без городской, литературной книжности. Гибкость таких переходов, сочетаний, сопоставлений, что в композиции и сюжете, что в стиле и языке, поистине акробатическая, и горьковский «босяческий» нарратив в любой момент может обернуться сказочной и сказовой метафоричностью, и итоговый художественный «продукт» – рассказ, повесть и даже роман – часто удивляет неожиданностями сюжета и слова. Его факирство-циркачество оказалось не юношеским увлечением или прихотью, а природной, генетической особенностью, определившей жизнь и творчество Иванова. Так, «Бруя» сначала кажется традиционным рассказом о неравной любви: бедного Степана-Стерки к дочери зажиточного станичника Акулине-Куле. Влюбленные идут в поселковое правление и регистрируются. Несерьезность происходящей регистрации усиливается благословением молодых председателем конторы иконой, «маленькой, облупившейся и уже неясной ликом». Это после «красной»-то, большевистской регистрации брака! Не зря один из стариков сравнивает новые законы, позволяющие такое бумажное бракосочетание, с «бруей» – струйкой, рябью на воде поверх основного течения реки. То есть с чем-то побочным, скоропреходящим. В таком прочтении рассказ оказывался крамольным и потому остался в архиве. А тут еще расхожие штампы темной деревенской массы, что в «кумынии», т. е. коммуне «меняются женами, что “коммунист-то Троцкий, а Ленин – большевик”». И это вместо агитации за советский уклад жизни. Какая-то насмешка, ухмылка, а не рассказ.
Вряд ли Иванов действительно добивался этого. Но далее последовали «Жаровня архангела Гавриила» и «Лога», подтвердившие установку писателя на чудаков и чудаковатую прозу. И преемственность по отношению к предыдущим самодельным рассказам-«рогулькам». Так, «Жаровня…» весьма напоминала «Купоросного Федота», и если там вернувшийся с войны с синим лицом герой строит «ароплан», доказывая, что «чудеса бывают», то здесь портной и охотник Кузьма хочет уйти в чудесный город Верный. По странной фантазии Кузьмы, город этот «под водой плывет», и почему-то киргизы «выберут его своим Лениным», и будет он «на белом коне кататься и конину с яблоком на серебряном блюде есть». Но поистине сглазил архангел Гавриил, т. е. его икона, висевшая в таежной часовне и внушившая Кузьме отвращение своим жалким видом и какой-то «нехорошей мыслью». И будто материализовался в пришлом «мужичонке» Силантии, который откуда-то знал о провалившемся в пески городе Верном, изображая из себя «врачевателя икон», но в итоге оказался прохвостом, воровавшим золото и серебро с риз. И, как учитель из «Купоросного Федота», этот убогий Силантий заставил его разрушить уже построенный «ароплан» – разувериться в том, что Верный не «провалился» и что «нет чудес на свете». Но «самое страшное – жить и верить в это».
Главное, что Иванов заставил поверить в «чудо» этого рассказа самого Горького уже в Петрограде, в эпоху «Серапионовых братьев». И если такой завзятый «серапион», как Каверин (Зильбер), был смущен, не увидев в «Жаровне…» основополагающих для этой лит. группы «остранения» и «фантастических элементов», то Горький был в восторге. Представляя рассказ к изданию, он писал о «глубоком знании Всеволодом Ивановым психики русского примитивного человека»: это «распространенный в России тип искателя незыблемой правды»; «не умея творить» ее, они «часто всю жизнь посвящают мечтам о ней, бродяжничают в поисках ее, ждут правды, как чуда», а, «не встретив в жизни этой правды, в сущности, не ясной им, становятся мизантропами, анархистами». Но будет это сказано и написано через три года, когда и Горький будет уже за границей, и Иванов разочаруется в «Серапионовых братьях», и «сибирский» 1920-й послеколчаковский год будет казаться ему далекой историей. И даже если «Жаровня…» написана уже в Петрограде, то таежный материал его жизни в притаежном Татарске тогда еще не остыл. Иванов еще, так сказать, одной ногой был там и потому искренне удивлялся: «что ему (Горькому. – В. Я.) в нем (этом рассказе. – В. Я.) понравилось, ни тогда, ни сейчас не понимаю». Потому и не понял, что казалась Иванову эта «Жаровня…» обычным, типичным для его сибирских текстов рассказом. По духу близким и во многом повторявшим его рассказы из «Рогулек».
Таким же, но уже как будто и другим был рассказ «Глиняная шуба». Особенно роднил их однотипный зачин. «Жаровня…» начиналась с верблюда: «Верблюд любит траву сухую, а вол влажную», а «Глиняная шуба» – с пальмы: «Пальма в Сибири не водится – есть тополь, кедр, лиственница». А вот в наших краях, словно говорит писатель, живет такой экзотический человек, как Кузьма, чающий утопического города Верного, а в нашем Павлодаре есть еще более экзотический «соборной церкви дьякон» Наум Полугодье. Экзотизм же его личности и поступков в том, что свою классовую и идеологическую неприязнь к упродкомиссару (уездному продовольственному комиссару) по фамилии Скученный он направил на шубу этого комиссара (бывшего печника), испачканную глиной. Отец Наум выкрадывает шубу Скученного с хитрым расчетом на то, что комиссар купит взамен шубу дорогую, чем испортит свою репутацию. Он и «послух» такой «двинул». В этом упрямом желании запачкать – отнюдь не глиной – Скученного больше бытового, чем политического. Анекдотизм сглаживает остроту реальной обстановки тех лет, тот антагонизм, который все сильнее давал о себе знать, выливаясь вспышками недовольства советской властью, вплоть до восстаний.
За большевиков или коммунистов? Осколки «Фарфоровой избушки»
Иванов же словно обходил эту щекотливую тему. Или говорил, писал о ней опосредованно, маскируя пугающую реальность начала новой гражданской войны в такие вот полукомические эпизоды. Так же, собственно, произошло и с рассказом «Лога», в центре которого тема сытости и голода, села и города (официально датирован началом 1920-х гг.). Тема же любви горько осмеяна и профанирована Сенькой Трубычевым, который кормит хлебом приехавших в село голодных «киргизов» не из жалости и доброты, а чтобы они быстрее «подохли». И такого мерзавца Аксинья было полюбила. Словно стыдящаяся своей и всего села сытости, втайне, ночью, относящая голодным мешки зерна, Аксинья так же непроста, как отец Наум из «Глиняной шубы». Если того мучают вопросы веры и души: у него «душа обуглилась» от намерений новой власти «людей кроить» и «души разграфить», то ее мучит ее тело, данное ей непосредственно землей, «логами», а потому безгрешное. И в то же время темное, таящее самые непредсказуемые желания, не зря от ее взгляда становится «темно на душе у курчавого» ее любовника. Как в логах, где всегда темно, но плодородно, сыто, пасущийся там скот «молоко приносит густое, как сметана, сладкое, как мед». Но эта «темнота» и обоюдоостра: Аксинья однажды может и сказать советской власти нет. И сытость, обернувшаяся голодом продразверсток, возьмет в руки оружие. Обо всем этом Иванов, кончено, прямо не пишет. Это только вычитывается из его рассказов, где злободневные темы 1920-го – начала 1921 гг. даются в человеческом измерении. Ему ли, газетному работнику, хоть штатному, хоть внештатному, не знать о тех событиях. Уже 15 июля 1920 г. началось Бухтарминское восстание в станице Больше-Нарымской.
Полыхало и в родных местах Иванова. Северо-западнее Семипалатинска в конце июля появился полк повстанцев и был организован штаб Народной армии – все, как у бухтарминцев. Лозунги были обычными для малограмотных крестьян и казаков: «Да здравствуют Советы, долой коммуну, нет капиталу», был и такой: «Да здравствует свобода, равенство, братство и любовь» и даже: «Вся власть Учредительному собранию». Одним из вождей повстанцев, не желавших сдаваться, был уроженец Лебяжьей есаул (или штабс-капитан) Дм. Шишкин 1882 г. р. (псевдоним Казаков). С ним связан другой, еще более впечатляющий эпизод с пароходом «Витязь», захваченным 23 июля в ходе боя с его пассажирами – военнослужащими РККА. «В Павлодаре через месяц после подавления восстания, мстя за пережитые страхи, павлодарские коммунисты объявят красный террор местной буржуазии». И «25 августа 1920 г. объединенное заседание Павлодарского уездного бюро РКП(б), ревкома, политбюро и военкомата приняло решение взять 56 заложников, 24 из которых 28 августа были расстреляны»[1]1
Сибирская Вандея. 1919–1920. Документы в 2 томах. Т. 1. М.: Международный фонд «Демократия», 2000. С. 236.
[Закрыть]. А восстания продолжались, разгорались, и к 1921 г., т. е. к отъезду Иванова в Петроград, полыхнули настоящей войной. «Хроника основных политических событий и фактов биографии Всеволода Иванова» (2018) перемежается сообщениями о крестьянских восстаниях. «Июль. Иванов работает заведующим Информационным отделом газеты “Красный путь”» – органа Омского губревкома и губбюро РКП (б)»; «Лето. Иванов по долгу службы ездит по разным уездам Сибири. Август. Иванов работает заведующим Губернского информационно-инструкторского подотдела»; «Август. Иванов назначен заместителем информационно-инструкторским подотделом газеты “Советская Сибирь”». Получается, что Иванов прекрасно знал о творившемся в «разных уездах Сибири», и о настроениях сибирских крестьян, и о тех местах, где восстаний не было, из первых уст. Видел, слышал, возможно, и наблюдал, очевидно, собирал информацию по долгу службы, будучи «зав. информационным отделом» газеты и зав. губернского информационно-инструкторского подотдела и впоследствии одноименного подотдела уже «Советской Сибири». Возможно, он об этом и писал в газеты, в том числе и в «Красный путь».
Определенно, биография Иванова 1920 г. настоящий лабиринт версий, гипотез, загадок. И его творчество этого года ясности не добавляет. Но, повторим, до настоящих заговоров, восстаний, сражений против «Коммунии» в его произведениях не доходило. Только через год и далее в Петрограде и Москве он напишет целую серию таких «военных» рассказов, но битвы, выстрелы, убийства будут происходить в «обычную» гражданскую войну и изображаться с позиций красных, с их точки зрения, с их идеологией. И только в «Бронепоезде 14–69» капитан Незеласов будет дан в «человеческом» образе как полноправный участник войны, но все-таки в итоге впадающий в бред самоотрицания. В «сибирских» рассказах 1920-го – начала 1921 гг. Иванов, как мы знаем, еще под влиянием сибирского текста и контекста – своих предшественников Гребенщикова, Новоселова, Вяч. Шишкова, с показом быта крестьян и казаков, но с людьми неординарными, в своей среде выдающимися, из нее выделяющимися.
Однако было в творчестве Иванова того года, еще не остывшего от колчаковского 1919-го и к нему примыкающего, произведение, эти события осмысляющее. Ибо идти дальше, не покончив с Колчаком в своих воспоминаниях, в своей жизни и судьбе, было нельзя. Только творчество могло помочь в этом. Так родилась повесть «Фарфоровая избушка», которую Иванов начал писать и читать друзьям в лит. кружках Омска. Говорили даже, что он текст написал, но затем сжег его. Все тут серьезно, без поздней ироничности. Об этом можно судить по сохранившимся, как считается, фрагментам рукописи, ставшим впоследствии самостоятельными рассказами. В одном из них, под названием «В снегу», крестьянин Корнила убивает белого офицера так, «словно что-то развязали внутри»: тут и что-то вроде жалости к гибнущему колчаковству, и прощание с ним. В другом рассказе, «По-прежнему стоял поезд», подчеркивается мысль о вине не той или иной сторон войны, а самой войны, будящей, развязывающей в людях темные инстинкты, сводящей ее участников с ума (убийство француза). Об этом и в другом фрагменте предполагаемой повести – «Вагоне № 203125»; пассажиры вагона «пили вино, ром, играли в карты», не считая себя виновниками колчаковской катастрофы, но в итоге все погибли от тифа.
Предполагаемые в качестве ее фрагментов, помимо уже трех названных, два рассказа 1925 года картины не проясняют. Пожалуй, еще только запутывают. Роман все-таки должен иметь генеральную тему, сюжет и героя. Если признать темой гибель колчаковской армии в общем и в частности – в судьбах ее офицеров, солдат и казаков, – то в целом все эти пять текстов в нее укладываются: «отступление» («По-прежнему стоял поезд», «Вагон № 203105», «В снегу»), «разгром» («Происшествие на реке Тун») и «после разгрома» («Как создаются курганы»). Сюжет может и не быть обязательно «сюжетным», с завязкой, интригой, перипетиями и т. д. Как правило, в начале 1920-х гг. романы на эту тему были хрониками событий, рядом картин, эпизодов, как, например, в «Двух мирах» Зазубрина или «Голом годе» Б. Пильняка. А вот герой «Фарфоровой избушки», кем он мог быть? В романе Зазубрина «Два мира», более близком роману Иванова произведении, на роль такого героя претендует белый офицер Барановский, поскольку роман этот все-таки безгеройный, на первом месте здесь масса, красные, одолевающие колчаковцев. Барановский здесь только наблюдатель, в боях практически не участвующий, но во многом его глазами показана бойня Гражданской войны, от него исходит осуждение насилия и крови. Белый офицер у Зазубрина герой еще и отчасти автобиографический, так как автор с августа по декабрь 1919 г. служил на офицерской должности в армии Колчака. Иванов столько же времени успел побыть, если не в армии, то в «обслуге» Верховного правителя, следовательно, и его герой, вполне вероятно, был тоже автобиографическим. На эту мысль наводит герой-рассказчик во фрагменте «Как создаются курганы»: от его лица повествуется мрачная история захоронения восьми тысяч трупов – жертв колчаковщины.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?