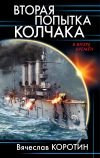Текст книги "Всеволод Иванов. Жизнь неслучайного писателя"

Автор книги: Владимир Яранцев
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Помогая Худякову издать и продать в Петрограде книгу его стихов «Сибирь», Иванов уже имел свою «книгу», правда, в единственном экземпляре. Однажды он взял черную общую тетрадь и стал наклеивать на ее страницы вырезанные из газет свои собственные рассказы, напечатанные в разное время. Вот и книга готова. И хронология почти выдержана: «Золото» – 3 июля 1916 г., «Рао» – 9 октября того же года, «Сны осени» – 25 сентября, «Ненависть» – 22 октября, «Нио» – 25 декабря, «Хромоногий» – 25 декабря, «Писатель» – 15 января 1917 г., «Сын человеческий» – 1 января, «Сон Ермака» – 29 января, «По Иртышу» – 2 февраля, «Черт» – 23 февраля, «Над Ледовитым океаном» – 11 февраля. Казалось бы, все ясно: Иванов наклеивал вырезки в основном по мере публикации рассказов в газетах – механическое дело, «механическая» книга. Но, оказывается, он все-таки относился к этой тетради как к книге, в ней есть элементы редактирования. Так, в рассказах «Рао» и «Сны осени» часть текстов переписаны от руки – возможно, с внесением поправок; где-то менялись заглавия, посвящения. Отдельная история с циклом «Северные марева». Он был составлен Ивановым из вырезок двух разных публикаций с изменением заголовков и нумерации текстов: цикла «Киргизские сказки» (Приишимье, 8 сентября 1916 г.), включавшего сказки «Откуда происходит табак», «Великая река», «Кыздари-коз», и цикла «Северные миражи» (Степная речь, 10 февраля 1917 г.), включавшего миниатюры «Жили люди счастливо» и «Бежал по степи ветер». При этом сказка «Откуда происходит табак» в данную книгу не попала. Всему же циклу из миниатюр 1916–1917 гг. Иванов дал общее название «Северные марева». Так что тексты для «Зеленого пламени» – так называлась «книга» – он все-таки отбирал, ее состав обдумывал, общий смысл искал. Но видно, так и не нашел – его нельзя сформулировать, как и понять рассказ, давший название всей книге. Он как-то раздваивается между мифом и притчей: некто по имени Неизгладимый наводит страх на обитателей Черной горы – зверей и людей. Он сказочно силен, крушит лес и скалы, убивает зверей, но однажды пасует перед «маленькой девочкой с золотыми волосами». Сочтя это покушением на свою власть, Неизгладимый убивает девочку, и вновь катятся камни, бегут медведи, горят жилища людей.
Больше это похоже на предчувствие больших социальных потрясений, революцию, в 1917 г. свершившуюся дважды. Иванов дал название книге уже на следующий год после нее, так как на указанных рассказах книга не заканчивается. Далее в тетрадь вклеиваются вырезки из газеты «Согры», единственный номер которой вышел в апреле 1918 г. Но эти наклейки уже значительно отличаются от подборки дореволюционных, в первую очередь тем, что лишены, кроме «согровских», выходных данных. Это рассказы «На горе Йык», «Зеленое пламя», «Огоньки синих фонарей», «Две гранки», стихи «Красная чума миллиард», стихотворение в прозе «Уходящий». Убирая эти газетные надписи и подписи, Иванов явно готовил книгу вклеек к изданию как печатную, типографскую. Возможно, эта мысль пришла ему как раз в 1918 г., когда у вклеек исчезли выходные данные. А может, это связано с Сорокиным, сотрудничество с которым приводило подчас к не проясненным до сих пор вопросам авторства. Что касается заглавия книги и одноименного рассказа, то оно легко перекликается с «Зеленым знаменем» – символом сибирского «областничества», которое действительно неизгладимо, по имени могучего героя «Зеленого пламени». Особенно после свержения царя: он может теперь сокрушить всех, кто этому, т. е. сибирской свободе, препятствует.
Под № 25
Тому, что в 1917–1918 гг. Иванов был увлечен этим сибирским движением, есть убедительные свидетельства. Это его сотрудничество в главном «областническом» журнале «Сибирские записки». По крайней мере, два факта. Во-первых, есть рецензия Иванова на один из номеров журнала, написанная и напечатанная в феврале 1917 г. в «Степной речи» (Петропавловск). Регулярно за выходом этого издания он не следил, как и за другими. Скорее всего, написал Иванов этот небольшой текст в рамках все той же литературной благотворительности, с которой он поддерживал «Приишимье», посылая туда бесплатно свои материалы о Кургане. Почти ничего хорошего и интересного в этих Записках» он не обнаружил, да и об этом хорошем написал как-то снисходительно, небрежно. О стихах давно известного тогда В. Пруссака отозвался так: «Из десятка стихотворений, помещенных в книжке, имеют только относительную ценность стихи Вл. Пруссака». Остальные достойны мусорной корзины. Отметил рассказ В. Бахметьева как «хорошо написанный», хоть и с «совершенно старым, избитым сюжетом», к «областничеству» Иванов здесь относится скептически, зная, что «склонность к сепаратизму издавна существует в Сибири» и потому: «Насколько удается разработка и освещение этого вопроса – покажет будущее».
После свержения самодержавия Иванов, по всей видимости, изменил свою точку зрения на «областничество» в лучшую сторону, пусть и ненадолго. Свидетельством тому та же аллегория «Зеленого пламени» со своей «тенденцией». И еще более тенденциозный «Сон Ермака». Напечатанный, кстати, в той же «Степной речи» (29 января 1917 г.). Там и аксакал Темирбей выступает ярым «областником», предсказывающим нашествие «людей-волков», которые «растерзают нашу родину», и прозревший потом его убийца Ермак, после своего воскрешения, клянется, совсем по-«областнически», «вечно любить свою родину Сибирь и пожертвовать собой для счастья ее». К ним, как оказалось, примкнул и рассказ «Шантрапа», который Иванов послал… в те же «Сибирские записки»! Хотя, казалось бы, что в нем «областнического»: по жаркой степи бредут четверо – типографский наборщик Василий, слесарь Аркадий, актер Таежный и осел Куян. Бродяги, шантрапа, живущие одним днем, существующие на подачки в основном от песен актера Таежного. Он и ведет всю компанию по знакомому маршруту, он главный и здесь, и в рассказе, близкий Бурану из рассказа «По Иртышу»: те же неисчерпаемые творческие силы без точки приложения, тот же удалой характер – может спеть так, что заворожит слух, а может стащить молоток у одного из почитателей. Жадность на новые впечатления, открывающая новые горизонты, и обыкновенное воровство, душа, готовая вместить в себя весь мир, и всего лишь актер, балаганный певец. За это – за изображение истинно сибирского, самородного таланта, вынужденного бродяжничать, и могли принять этот рассказ Иванова в «Сибирские записки». Но не напечатали. Там были свои, проверенные, маститые Гребенщиков, Новоселов, Вяткин, Бахметьев, Гольдберг.
Увидела «Шантрапа» свет только в газете «Согры», и то не полностью, а полностью только в третьей и последней «самодельной», точнее, самопечатной книге «Рогульки» в 1919 г. То есть рассказом этим Иванов явно дорожил. Он и больше других по размеру, и для «Рогулек» был значительно доработан. А дорожил, потому что вышел из его же бродячей жизни – вспомним персонажа под именем «Василий, типографский рабочий». Важен и эпиграф: «Посвящается Кондр. Худякову» – главному другу и учителю этих курганских лет. Так, вдвоем они и войдут в политику, некоей «шантрапой», особенно Иванов, шумно, даже со скандалом. И по переезде в Омск Иванов Худякова не забудет, в начале 1918 г. напишет в письме: «Дружище! Сегодня послал в “Сиб(ирские) Зап(иски)” рассказ “Шантрапа”, посвященный тебе. Реклама-с». Как мы уже знаем, прорекламировать Иванову друга не удалось, рассказ не напечатали. Хотя Худякова в «Сибирских записках» уже публиковали – весной 1916 г. А это значит, что он не прочь был напечататься в главном «областническом» журнале, не считая томскую «Сибирскую жизнь», опеквашуюся самим Г. Потаниным и редактировавшуюся тем же В. Крутовским, редактором «Сиб. записок». Журнал оказался живучим – просуществовал с 1916-го по 1919-й. Между тем сам Худяков был эсером, членом партии социалистов-революционеров, эсеров, а Иванов еще не определился в литературе, а это было для него, как представляется, важнее. Революция на какое-то время отвлекла, создав иллюзию выхода из тупиковой, как тогда казалось, ситуации с писательством.
Но это действительно была только иллюзия. В автобиографии 1927 г. Иванов писал о той поре: «Я мучился, читал бессмысленно много, бесшабашно – меня выручила революция. Я решил, что писателя из меня не выйдет, что у меня мало прилежания и много гонору, и я стал провинциальным уездным политиком». Далее он в детали не вдается, – все-таки советский 1927 год – иронически перечисляя, как «разоружал солдат, заведовал милицией – преступники бежали из арестантских домов, которыми я заведовал, конференции, на которых я присутствовал, были бесполезны для общества и революции, но я верил в себя. Говорил и носил оружие». Исследователь в таких случаях, когда Иванов «включает» иронию и юмор, должен быть внимательнее. Во-первых, мы не поверим, что Иванов мог бросить литературу ради политики. Особенно попав в горьковский «Сборник пролетарских писателей» со своими рассказами. И хотя нам известно только одно напечатанное произведение той поры – рассказ «Книга свободы» в новой газете «Известия Курганских рабочих и солдатских депутатов» (19 марта 1917 г.), можно не сомневаться, что он писал, пусть и не публикуясь. Во-вторых, не было у него такой уж бурной деятельности, да еще в течение всего года. Ибо сам же он дает понять в «Истории», что выдвигали его после Февральской революции «на несколько постов» только потому, что «среди курганских рабочих считался, по-видимому, сравнительно культурным». А так как «был плохо подготовлен к политической деятельности», то и «на собраниях сидел, слушал и молчал», за что его даже прозвали «великим молчальником». И опять же, делая скидку на то, что писалось это в советское время, попытаемся понять, где Иванов предпочитал обойтись скороговоркой, вольно или невольно искажая, утаивая, умалчивая, а где был правдивым. Благо сейчас открылись многие документы и есть возможность для объективных выводов. Так, например, прояснилась ситуация с партийностью Иванова в Кургане 1917 г. В А-1925 он писал, что «долго не мог выбрать, кто лучше – меньшевики и эсеры – и сразу записался в обе партии». Теперь выяснилось, что для него важнее был вопрос не партийности, принадлежности к той или иной партии, а членство в городской думе. Перед выборами и социал-революционеры (эсеры), и социал-демократы (меньшевики) объединились в «Группу объединенных социалистов», чтобы увеличить шансы на прохождение в думу. Так оно и случилось. Существуют списки кандидатов, где Иванов стоит под № 25, а К. Худяков – под № 32. Иванов выше, очевидно, потому, что записан как рабочий – «типографский рабочий», а К. Худяков – как мелкий предприниматель, «буржуа» – «ремесленник, живописец», владелец мастерской вывесок.
Вступил Иванов в этот блок социалистов в марте, а стал членом – «гласным» – гордумы только 1 июля 1917 г. Чем же он занимался эти долгие месяцы, неужто агитировал за себя и свои партии? Может быть, усердно готовился к будущей политической деятельности на новой высокой должности? И можно ли представить вчерашнего факира Бен-Али-Бея и сегодняшнего новоиспеченного писателя штудирующим «“Капитал”, книги и статьи лидеров эсеров и меньшевиков, а не большевиков». Впрочем, тогда все, даже и в повседневной жизни говорили лозунгами, настолько велик был восторг от выдающейся победы над самодержавием. Вот и Иванов не устоял в рассказе «Книга свободы» (газета «Курганские известия», 15 марта): «Кровавая тирания деспотов, поработивших народ», «лохматое, жирное чудовище своевластия, пожирало лучшее и светлое», «восставший свободный народ захватил последнюю твердыню власти – дворец императора». Да и сам сюжет был не оригинальнее: писатель по имени Прощенный, вышедший «из мерзлых подвалов» некоего города, хочет написать книгу, по сути, революционную, призывая людей к восстанию, за что его «бросают» на длительную каторгу. Финал рассказа мелодраматичен: чтобы согреть мерзнущего ребенка, Прощенный сжигает рукописи своей драгоценной «Книги свободы» и умирает накануне вести о свержении царя.
Словом, вещь получилась вполне «агитационная», «целевая», о художественности ее говорить не приходится. Можно представить, что так, таким примерно языком говорил кандидат в городскую думу Иванов со своими избирателями. Возможно, и эпизод, когда Прощенный говорит с пришедшими на собрание людьми, отражает его собственный опыт общения с избирателями: «… приходили бедные юноши и степенные старцы, и просто люди, у которых не было лица, они сосредоточенно слушали речи Прощенного и скоро уходили еще более хмурые, но с новым железным огоньком ненависти в страстно расширенных глазах». Была ли только успешна эта его деятельность на новом поприще оратора и вождя масс? Находились люди поязыкастей. Такую ситуацию он описал в рассказе, точнее, очерке января 1917 г. «Полусонные». Присутствуя на некоем «собрании общества “Народный Дом”», он был удивлен, что «делала дело, говорила, строго говоря, только группа передовых людей (…), группа, организовавшая несколько обществ». Подметил Иванов и «новый психологический тип»: «общественный оратор», «человек, болтающий при каждом удобном случае старые, избитые, всем давно известные истины, это одержимый “словоязвием”, мечтающий о многом господин с пестрым галстухом и прямым пробором дипломата». Остается апеллировать к главному – своему пролетарскому происхождению: «Мы, рабочие, должны подойти и сказать: “Здесь наше место, пустите нас, мы с молотом!”».
Так что, наверное, Иванов был все-таки прав, когда говорил о своем молчании на всяких собраниях таких «общественных ораторов», чувствовавших себя на этих толковищах как рыба в воде, переговорить их было трудно. Попытка действия вылилась в крупный скандал. Он вспоминал об этом в «Истории»: «Если я смущался в городской думе, то среди своих товарищей-печатников я чувствовал себя свободнее». А далее последовал эпизод, можно сказать, в стиле его рискованных цирковых номеров, не очень-то свойственных чинной должности «гласного» гордумы. С толпой рабочих он подошел к типографии газеты «Курганского свободного слова» (орган кадетской «Партии народной свободы») и учинил там какие-то действия, за что потом был исключен из правления членов профсоюза типографских рабочих. В «Истории» он пишет о том, что ничего такого не было, просто «закрыли газету (…) и конфисковали в пользу государства типографию Кочешева» – получается ту же, в которой сам и работал! А один, журналист Татаринов (запомним его фамилию!), «выпрыгнул в окно и убежал, хотя никаких дурных намерений против него не имели». И все-таки, как оказалось, имели. Ни за что ведь не исключают. В эсеровской газете «Земля и воля» напечатали протокол общего собрания членов профсоюза, где сообщалось, что группа типографских рабочих (называлось имя Иванова) затеяла драку и рассыпала набор газеты. Почему затем, в анкетах и воспоминаниях он об этом «забыл», промолчал, непонятно – ведь это был акт справедливости: газету закрыли «за контрреволюционное направление» («История моих книг»), с точки зрения пролетариата, к которому Иванов принадлежал, все было правильно.
«Король» и шут Антон Сорокин
А с точки зрения закона, демократии, свободы слова? Получалось, что Иванов и его соратники поступили, как анархисты, а не сознательный пролетариат. От безысходности, разочарования в политике, усталости, путаницы ли он сделал это. Писали-то ведь о «драке», т. е. когда словесные аргументы уже исчерпаны. Значит, прав был Иванов, когда в своей А-1925 писал, что «участие мое в революции было совершенно случайным, многое произошло от любопытства». И драка тоже? Хорошо, что в каталажку не угодил. Наоборот, вместо этого поехал в Омск на конференцию рабочих печатного дела Западной Сибири. Ибо инцидент с контрреволюционной газетой на его поездку не повлиял – избран он был туда еще до драки. А может, только содействовал этому? Да и весьма кстати ему этот Омск подвернулся. Переменить обстановку, освежить мысли, укрепить дух, взбодриться, разобраться в себе, в пути, по которому идти в литературе и политике. И… жениться! И на ком – цирковой актрисе! Значит, хотелось продолжения праздника, и значит, с цирком и тогда, осев в Кургане типографщиком и даже став думцем, не порывал. В автобиографических записях «По тропинке бедствий» он так и записал: «Актриса бродячей труппы». Промелькнула она в жизни Иванова быстро и мало оставила о себе сведений. Звали ее Мария Николаевна Синицына, возраст неизвестен, кроме постоянного эпитета: «маленькая женщина». В уже упомянутых записях Иванов аттестует ее как «забавнейшее существо». И начал было рассказывать об истории своей женитьбы: «И женился я на этом существе самым забавнейшим образом год назад», т. е. в 1917 г. Но вдруг обрывает свой рассказ, который уж точно должен был быть интересным.
Ибо где Иванов мог познакомиться со своей Марией, как не в цирке / балагане. А если вспомнить, что в августе (22–23 августа) 1917 г. Иванов «устроил драку» при закрытии кадетской газеты, то примерное время женитьбы на циркачке Синицыной – «до отъезда в Омск» – как-то подозрительно хорошо совпадает с этим почти цирковым событием. Очень похоже на то, что в Омске Иванов хотел начать новую жизнь, теперь уже и семейную, и, конечно, литературную, покинув и свои литературные «ясли» – Курган – и «няньку» – Худякова. Поэтом, как он, Иванов уже стать не мечтал, хотя стихи иногда писал. Он и на той, типографской конференции сентября 1917 г. слыл «писателем», потому что «ему пишет Горький», чем он сам и «хвастался», вспоминает он в «Истории». Почему его и не выбрали секретарем бюро печатников. И неслучайно, что именно там начал делать свою первую самодельную «книгу» – общую тетрадь с вклеенными в нее газетными вырезками своих рассказов под общим названием «Зеленое пламя». Как предполагают исследователи, эту тетрадь ему, скорее всего, выдали как делегату конференции. Об этом говорит обнаруженный Ивановым через сорок лет «протокол заседания конференции», тоже вклеенный и написанный от руки. Но забыл добавить, что на одном из оборотных листов были переписаны участники конференции – всего-то пятнадцать человек – а на другом листе написано слово «Дураки», подчеркнутое дважды.
С этого, условно второго, этапа его писательства биографу Иванова уже значительно легче. Больше мемуарных свидетельств о нем, так как резко расширился круг общения, новых, уже очных знакомств. Здесь ему встретились Сорокин, Тупиков, П. Дорохов, М. Плотников, отец и сын П. и А. Оленичи-Гнененко. Первый, Сорокин, стоил всех прочих знакомств, принеся ему и огромную пользу, и немалое разочарование, и обиду. Он и воспоминания об Иванове оставил невероятные по сплаву в них достоверного и вымышленного. Жаль, что в 1926-м, тенденциозным годом датированные, а не, скажем, 1919-м. Процитируем из них, например, такое. «В то время, – рассказывает Сорокин, – Иванов производил отталкивающее впечатление: вшивый, грязный, в заплатах». Больше это похоже на прибытие Иванова в Курган в конце 1915 г., когда он пришел пешком из Челябинска и жадно смотрел на дом Худякова, как на дворец. Тупиков записал, что познакомился с Ивановым «в Омске, в квартире Антона Сорокина» осенью 1916 г. Вспомним, как выглядел тогда Иванов: «Широкоплечий среднего роста молодой человек с густой русской шевелюрой, с лицом круглым и бледным, за стеклами пружинного пенсне поблескивали монгольские глаза». «Он был в черной суконной блузе с отложным воротником и нагрудными карманами, из которых торчали какие-то бумажки и коричневые толстые карандаши». И никаких вшей и заплат.
А вот воспоминания Гаврила Дружинина, земляка, соратника, сверстника Иванова. «Жил он одно время в какой-то заброшенной халупе над самым крутояром мутной Омки, в которой каждое лето тонуло много ребят. Не жилье у него было, а чулан. Низкое, крошечное окно, голые стены, из мебели – стул, стол, кровать. Большой город лежал ниже, при слиянии Омки с могучим Иртышом. Здесь же была рабочая слободка, а рядом с нею – городские бойни». «Был Иванов широкоплечим, статным юношей, но с бледным, испитым лицом. Одет плохо. Бог знает, на что он в то время жил и как питался. Но, черт возьми! – голову с властным взглядом молодой Всеволод Иванов всегда держал высоко, шаг у него был крупный, твердый. Ходил без шапки, что по тем временам было необычным и заставляло коситься на него прохожих. Бунтующего обличия паренек!» Не была ли вся эта бедность где-то и нарочитой, показной, в чем-то декорированной? Он ведь был пролетарием – вспомним рассказ «Полусонные» и его финал: «Пустите нас, мы с молотом!» и подпись: «Вс. Пролетарий». Через полгода, пишет Дружинин, «он переменил квартиру, поселился (…) на Проломной улице, в хорошем деревянном доме с большим окном на солнце (…) даже несколько потолстел, стал более разговорчив». В чем же причина перемен? В литературном успехе, не задумываясь, пишет Дружинин. Все это появилось у него, «когда рассказы и очерки Иванова стали появляться в газетах и журналах Сибири». Как «продвинутый» пролетарий – Иванов «вел заседания бюро печатников, где занимал самые крайне левые позиции» – вступил в Красную гвардию. Но большевиком Иванов тогда не стал, вступив в партию социалистов-демократов-интернационалистов – в группу «Новая жизнь». А попросту говоря, ушел к меньшевикам. Группа же «Новая жизнь» имела отношение к одноименной газете Горького, резко осудившей большевистский переворот и лично В. Ленина. Иванов поэтому в большевики не торопился. Не потому ли его и «забыли», отступая, красные, в чьей армии он числился в эту «первую» советскую власть? Но это будет в июне 1918 г.
За это время в жизни Иванова произойдет многое. Главное, это, конечно, присутствие Сорокина в его биографии и творчестве. К моменту их очного знакомства (осень 1917 г.) Сорокин уже написал свои главные произведения – пьесу «Золото» (1911) и повесть «Хохот Желтого Дьявола» (1914), далеко выходящие за рамки означенных жанров («стилизованная монодрама-примитив» и антивоенный памфлет-агитка). Главная тема этих произведений – безумие, сумасшествие человека, вдруг увидевшего, осознавшего, насколько противоестественно устроен мир, человеческое общество. Сам же Сорокин был человеком рационально устроенным. Иванов так и писал в мемуарном очерке, что «не встречал человека разумнее его». Иванов защищал и оправдывал Сорокина: «Вообще он был не лгуном, а выдумщиком». Однако не заметил, насколько этот фантазер был тщеславен, эгоистичен, себялюбив. Он был «из богатой семьи», известно и то, что «все родные Сорокина были старообрядцы-беспоповцы». Это наследственное сектантство затем откликнется в его творчестве духом неприятия всего традиционного в искусстве, эпатажем в жизни. Он уже создал себе имя, шел в одном ряду с Гребенщиковым, Новоселовым, Вяткиным, Шишковым. Он написал Иванову сразу после публикации в газете «Приишимье» двух или трех рассказов «открытку, подписанную “Король сибирских писателей”». В ней сообщалось, продолжает Иванов, что «рассказы мои весьма оригинальны, самобытны, что “Вы – гений”». О том, что каждого своего знакомого, занимающегося творчеством, он называл так же, Иванов узнал позже. Одновременно с похвалой Сорокина он написал Горькому, послав ему эти же рассказы. Похвала подтвердилась, и у Иванова появилось с тех пор сразу два учителя и наставника. В Омск он ехал именно к Сорокину, на лит. учебу и на сотрудничество с «королем сибирских писателей», который создавал «королевство» сибирских литераторов, где Иванов должен был стать одним из его «князей». Ибо считал его своим «проектом», своим детищем.
И видимо, была часть правды в тех его сомнительных воспоминаниях 1926 г., когда он писал, что стал «составлять (…) свою литературную компанию» из молодых начинающих писателей Тупикова-Урманова, И. Славнина, Иванова. Словно в противовес Гребенщикову, Новоселову и др., при явном тяготении Сорокина и Иванова к футуризму и лозунгу «сбросим с парохода современности» таких-то и таких-то. Это был «бунт бедных», но и не без саморекламы. Они и писать стали вместе, как Ильф и Петров. В том же очерке о Сорокине Иванов оставил образчик того, как они иногда писали дуэтом: «Он называл мне различные предметы или людей, предлагая мне говорить то, на что они похожи. У меня действительно была тогда большая образность, и мне лестно было, что Антон Сорокин так верит мне. Я сыпал сравнения, метафоры, как из мешка. Антон Сорокин тщательно записывал их. Затем я рассказывал сюжеты, как ни нелепы они были. Антон Сорокин записывал их все подряд». Иванов предполагал, что делал он это, чтобы «воспитать во мне фантазию и уверенность в обращении с материалом». Но с другой-то стороны, ставил под тем или иным рассказом свою фамилию, а не две! Наряду с самодельной книгой Иванова «Зеленое пламя» в омском архиве есть такая же, представленная газетными вырезками, с заглавием: «Сорокин А.С. Сибирский писатель. Сборник». И в нем несколько рассказов, авторство которых неоспоримо признано ныне за Ивановым.
Не мог он только благоговеть перед «королем», быть для него «литературным негром». В предисловии к книге рассказов Сорокина он позволил себе почти ругательную ересь по отношению к мэтру, умудрившись совместить ее с признаками уважения и почтения. Только за слова, что «в литературу сибирскую, пожалуй, даже мировую, пришел такой разбойник», т. е. Сорокин, он мог простить Иванову его убийственно смелые пассажи. Главное, что Иванов его понял, «разгадал».
«Театральный» 1918-й. «Согры»
Но не хватит ли уже о Сорокине? Возможно, сам Иванов тоже иногда недоумевал, пытаясь сократить, уменьшить его влияние, его вездесущее мелькание. Что в фельетонах «Омского вестника», что на заборах, где он расклеивал свои картины. Не слишком ли много его и в нашей книге, и в ее герое? Но когда удавалось освободиться, то мог смотреть на него со стороны, наблюдать за диковинным человеческим экземпляром, для которого писание рассказов не главное дело. А если он их все-таки пишет, то они обязательно дикие, «пахнущие мертвечиной». Зато он прекрасно фотографирует: ведь поверил же Оленич-Гнененко, что Сорокин получил на Всемирной выставке в Париже золотую медаль; он еще и оригинально рисует, но все больше кошмары – «Смерть с косой», «Дева-паук», «Мрак жизни, или Гимн голодающим», «Коршун с домиками», автопортрет с черепом, Богородицу с тараканами. Кстати, не отсюда ли потом явился будущий псевдоним Иванова – «Тараканов»? Есть у Сорокина и рассказ такой – «Писатель Александр Тараканов». И начало у него многообещающее, словно об Иванове: «Писатель Александр Тараканов был самоучка, вышел из народа и в короткое время составил себе известное и всеми уважаемое имя», потом растерял и все, что заработал пером, и славу, и имущество, но принципом «писать то, что думаю», не поступился. Так что вся его писательская жизнь показалась ему наваждением. Уж не о себе ли, Сорокине, написал тут автор? И не были ли его жизнь и творчество всего лишь «тараканьими» – суетой, пустыми хлопотами, смешным тщеславием? И был он не Сорокиным, а всего лишь Таракановым. Думая, не вернуться ли в Павлодар, не зажить ли по-другому, как заповедовали родители-староверы? А отступать поздно: семья, жена, дочь (правда, вскоре умершая), работа.
А главное, был дом на улице Лермонтова, 28, ставший уже не просто местом жительства, а клубом писателей, центром молодой сибирской литературы, куда приходили все мало-мальски талантливые. В тяжелые годы смены режимов этот уникальный дом Сорокина был и местом спасения от арестов и расстрелов. За одно это, за один только этот дом Сорокин заслуживал того, чтобы войти в историю литературы. И потому в позднем мемуарном очерке Иванов не мог не вспомнить о нем. Интересно, что в том же доме жил еще его младший брат Евгений, инженер, который много лет прожил в Индии. Как вспоминает художник Е. Спасский, он «досконально изучил йогу, и, вернувшись в Омск, начал лечить людей гипнозом». В «Тридцати трех скандалах Колчаку» Сорокин пишет, что устраивал собственные сеансы, пользуясь афишами брата, начинавшимися словами: «Знаменитый факир Индии Бен-Али даст представление». Поразительное совпадение с биографией Иванова, которую он сам живописал в романе «Похождения факира», о многом заставляет задуматься в этой удивительной связке «Сорокин – Иванов». И может, чтобы избавиться от наваждения этого «не-лжеца-а-выдумщика» из дома на Лермонтовской, Иванов и приходил с работы домой и… переписывал классиков. «Я переписал два или три тома рассказов Чехова, “Анну Каренину” Толстого, “Мадам Бовари” Флобера… Редчайшее я испытывал тогда наслаждение!» («История моих книг»). Но объяснял это тем, что, дескать, много занимался «политикой» после Октябрьского переворота, когда вступил в Красную гвардию, да еще была работа в профсоюзе, где вел заседания бюро печтаников, да еще воевал с кадетами и прочими контрреволюционерами. Но мы уже привыкли делать скидку на «советский» характер поздних мемуаров писателя. Представить пишущего Иванова помогает его знакомый той поры Дружинин. Описывая его первый бедный дом – «не жилье, а чулан», – он не забыл и «дощатый ненакрытый стол», за которым Иванов «писал скоро, торопясь, любовно складывая написанное в стопки. Поверх он клал речной голыш – чтоб не унесло листки ветром, дувшим в раскрытое окно. Он любил ветер, подставляя его дуновению свое бледное строгое лицо». При этом, говоря, что «надо писать быстро», он почти повторяет завет Сорокина, известный из других воспоминаний – Тупикова: «Писать надо каждый день, всякую свободную минуту присаживаться к столу». Вот Иванов и «присаживался», и когда в голове не было ничего литературного или, наоборот, слишком много «сорокинского», то и строчил Чехова, Толстого, Флобера.
Но попробуй отстань от Сорокина! Он будет тяготеть над Ивановым еще почти весь следующий 1919 г. И уж если от него и его скандалов не мог отделаться сам Колчак, то что говорить о 20 с небольшим летнем Иванове? И нам очень хотелось бы верить, что скандальную пьесу «Гордость Сибири Антон Сорокин» он написал все с той же целью – отстраниться, наконец, от «гения» и «короля сибирской литературы», оградить свою индивидуальность от его тлетворного (графоманского?) влияния, не стать вторым Сорокиным. И можно заодно и от второго учителя дистанцироваться, от Горького. Да и не от одного его. В рубрике действующих лиц этого памфлета целый список таких «лиц», к которым автор особой симпатии не испытывает. Курганского недавнего лит. учителя Худякова и того пожалел меньше всех. «Просто жулик, имея семь детей – стихи не попишешь». Может, потому, что сохранял членство в партии «социал-революционеров», тоже попавших в список в качестве собирательного героя. Это «рыбоподобные люди с головами сирен, хвост золотой с надписью “Земля и воля”, почти всегда в воде, в критические минуты закрывают хвостом глаза, отчего попадают не туда, куда нужно». Видимо, давал понять Иванов, принадлежность к ним лишала писателя последних крупиц таланта, и Худяков в его характеристике всего лишь «брюнет в темных очках, особенно пикантен в темноте». Впрочем, отношений с ним Иванов не прекращал и после переезда, переписываясь с Худяковым до марта 1920 г., смерти поэта. И в феврале 1918 г., возможно, когда создавалась эта пьеса, дружески ему писал, сообщая о выходе «Сборника пролетарских писателей» с его стихами и своими рассказами, давал петроградский адрес для выписки своего экземпляра. Также дружески («Дружище!») писал и второе письмо, где были иронически-шаржевые характеристики П. Оленича-Гнененко и М. Плотникова, в пьесе тоже представленные. В письме П. Оленич-Гнененко предстает лишь «чемпионом Западной Сибири по выжиманию тяжестей» и поэт, чьи стихи – «помесь Микулы Бахаря с Опацким и Пуришкевичем». Кстати, именно у Оленича-старшего есть газетный памфлет со сходным названием: «Гордость Сибири». В пьесе о нем не столь едко: «Стихи пишет днем и ночью. Богатырь, несет правду и справедливость. Новый Диоген». Плотников в письме описан щедрым пером портретиста: не забыта верхняя губа, пенсне, пробор, пиджак, платок. Вся эта словесная живопись оправдана только одним – повеселить курганского друга. Ибо в пьесе в списке действующих лиц Плотникова нет, хотя по ходу ее он появляется, произнеся несколько реплик.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?