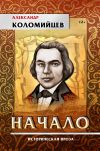Текст книги "Удивительные – рядом! Книга 1"

Автор книги: Владимир Желтов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– С каким пайком?
– Писали, что у нас и тушенка была, и сгущенка, и картошки много. Правильно, все это могло быть. Во время навигации. Потому что продуктов разгружалось – тысячи тонн. Откинуть в сторонку пару ящиков картошки – проблемы не составляло. Или ящик тушенки, сгущенки. Но к 17 января никаких заначек на барже не было. У нас даже положенного на десять дней неприкосновенного запаса и того не оказалось.
– Почему?
– Баржу уже на берег вытаскивали. На зиму. В море нас «столкнули» только потому, что ожидался рефрижератор с мясом – его нужно было срочно разгрузить. Закачали полторы тонны топлива и «столкнули». Продуктов дали на трое суток. А вода была только в питьевом бачке-титане. Его в первый же день опрокинуло волной.
– За песню «Зиганшин-буги, Зиганшин-рок…» вы должны были возненавидеть стиляг. Услышать – после пережитого – издевательское: «Зиганшин съел второй сапог» – такого и врагу не пожелаешь…
– Эту песню мне каждый встречный цитировал! Но, честное слово, мне было совершенно все равно, кто что говорил, а, тем более, пел. Я всегда ко всему спокойно относился. И в океане тоже.
– Вас вывести из себя сложно?
– Не знаю.
– Даже когда два близких человека находятся в замкнутом пространстве продолжительное время, начинаются какие-то трения. А уж когда четыре человека 49 дней…
– Нет, во время дрейфа никаких трений не было.
– Благодаря вашему характеру?
– Наверное. Я понимал: любое трение может окончиться трагедией.
– Это должны были понимать и остальные.
– Видимо, понимали.
– Не приходилось, как командиру, отдавая приказы, повышать голос?
– Не могу сказать, что я командовал. Допустим, как командир я не должен был заниматься приготовлением пищи. Вначале этим занимались все по очереди. Потом Федотов вроде бы проявил желание. Но однажды он, чистя картошку, бросил нож: «Все, хана! Больше не буду готовить!» Забрал я у него картошину, нож и готовил пока было из чего. Последние 12 суток у нас вообще ничего не было.
– И даже тогда вы не сомневались, что вас спасут?
– Я не терял надежды ни на минуту, и ребят настраивал на то, что нас ищут и спасут.
2014 г.
Николай Браун
Не инакомыслящий – мыслящий
Отец его выносил из «Англетера» тело поэта Сергея Есенина, мать состояла в родстве с Осипом Комиссаровым, спасшим жизнь императору Александру II. Сам же он был осужден как антисоветчик, в вину которому вменялась подготовка покушения на Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева и подготовка к взрыву мавзолея другого Ильича – Владимира Ульянова-Ленина. А свидетелем на суде у него выступал депутат I Императорской Государственной Думы Василий Шульгин, присутствовавший при отречении от престола Николаем II. Такого переплетения или даже хитросплетения человеческих судеб и придумать, кажется, невозможно…
С Николаем Николаевичем мы сделали не один объемный, обстоятельный материал о тех, с кем ему посчастливилось встречаться, общаться лично – о Василии Шульгине, об Анне Ахматовой, о тех, о ком ему было что рассказать, благодаря родителям – о Сергее Есенине, Николае Гумилеве и т. д. Пришло время поговорить и о нем самом в преддверии его 75-летия.
– Дети рождаются в семьях лесорубов, инженеров, плотников, артистов балета, космонавтов. Это уж как кому повезет, – начал тогда Браун. – Я родился в семье поэтов. Поэтов, которые жили в советскую эпоху и публиковались в советских изданиях, что впоследствии я для себя считал принципиально невозможным…
– Николай Николаевич, ваши родители, Николай Леопольдович Браун и Мария Ивановна Комиссарова, были советскими людьми…
– Они были советскими людьми, но от большинства советских людей их отличало то, что они никогда не состояли ни в комсомоле, ни в партии. Состояли только в Союзе советских писателей. В августе 1926 года, во время борьбы безбожного государства с религией, обвенчались в церкви Иоанна Предтечи на Каменном острове. Через одиннадцать лет церковь была закрыта и полностью разорена, и я так и не нашел ни в одном архиве церковной книги, где была сделана запись о венчании моих родителей.
Конечно, весь тот период нашей жизни был советским, и не считать себя принадлежащим тому периоду литературы мог только писатель, активно противостоящий советской идеологии в своем творчестве – как православный автор или как антикоммунист. Например, несоветским поэтом и философом был наш современник Даниил Андреев, все главные свои произведения создавший в заключении, во Владимирской крытой тюрьме. Я вспомнил о нем потому, что цикл его тюремных стихов впервые в СССР опубликовал Николай Леопольдович Браун, который в 1960-70-х годах был редактором поэтического отдела журнала «Звезда», а стихи эти он получил от родного брата Даниила Вадима, тоже несоветского автора, который жил в эмиграции, в Женеве. Повесть Вадима Андреева «Дорога в детство» была также помещена Николаем Леопольдовичем на страницах «Звезды» – они состояли в дружеской переписке. Между прочим, именно Вадим Леонидович, которого я хорошо знал, вывез из СССР с целью публикации, – что давно уже не секрет, – «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына.
Дом у нас был хлебосольный, многолюдный. О чем только ни говорили в нашем доме! Не говорили о достижениях пятилеток, стахановцах и колхозах. Говорили о поэзии, искусстве, рассказывали забавные истории, но не политические анекдоты. Пели народные песни, песни на стихи Есенина.
Имена: Гумилев, Есенин, Клюев – в нашей семье были звучащими не случайно. Они относились к категории поэтов, о которых рассказывали с душевным волнением, иногда шепотом, но всегда с любовью, с величайшим пиитетом. Николай Леопольдович в 1919-20-х годах конспектировал лекции Николая Гумилева, посещая его «Цех поэтов». Из своих сверстников в студенческие годы Николай Леопольдович был в дружбе с Николаем Заболоцким, выпускал с ним машинописный журнал. А из старших поэтов-учителей многократно посещал Николая Алексеевича Клюева. Пройдя блокаду и обыски, чудом сохранился автограф его стихотворения «Богатырка» и двухтомник его «Песнослова», подаренные Клюевым семье Брауна. На первом томе дарственная надпись: «Николаю Брауну – мое благословение на жизнь песенную. Дано в Благовещенье. 1926 г. Н. Клюев».
Марии Комиссаровой на Троицу он подарил складень, а название ее первой книги, вышедшей в начале зимы, «Первопуток», – подсказал ей также Николай Алексеевич. О знакомстве отца с Сергеем Есениным и о том, что связано с гостиницей «Англетер» – разговор отдельный.
В школе мне приходилось учить наизусть стихотворение отца «Морская слава», а оно очень длинное. Я добросовестно учил, это мне стоило потери прогулок со сверстниками, лазания по питерским крышам. Я выучил, но был недоволен и высказал претензию Николаю Леопольдовичу: «Мне надоело тебя учить. Стихи пиши, пожалуйста, покороче. Как Лермонтов, например: «Выхожу один я на дорогу» или «Прощай, немытая Россия». Отец посмеялся: «Я же не «Медного всадника» написал». – «Хоть это хорошо…»
Мария Комиссарова после войны, Второй Мировой, написала поэму «Лиза Чайкина». Ей хотелось показать настоящего героя в обстоятельствах войны, которая была исключительно жестокой. Имя героини подсказала случайная встреча с рядовыми жителями Тверской – тогда Калининской – области: «Вот у нас была такая партизанка…». И Комиссарова поехала на место подвига партизанки, познакомилась с ее родителями, расспросила всех, кто был очевидцем событий. И сюжет поэмы был готов, он не был основан на вымысле.
Существуют разные истории из времен войны, скажем, история «Молодой гвардии». К нам в дом приезжал из Москвы Александр Фадеев, Фадеева я знал. В лагерях я еще застал тех, кто получил большие срока по делу о «Молодой гвардии». Один из них – бургомистр Краснодона Стаценко Василий Илларионович, у него был срок 25 лет, двадцать – владимирской крытой тюрьмы и пять – спецстрогого режима мордовских политлагерей, где мы и встретились. От него я узнал, что фадеевская, ставшая хрестоматийной, история «Молодой гвардии» не совсем соответствует действительности. Так же, как не соответствует действительности история о Зое Космодемьянской. А Лиза Чайкина была настоящим, не придуманным героем своего времени. Поэма Марии Комиссаровой удалась и получила широкую известность, многократно переиздавалась.
В раннем возрасте мне приходилось слышать огромное количество стихов, не всегда хороших, написанных графоманами, или состоящих из сплошных лозунгов с целью попасть в печать – каждый почему-то считал долгом почитать их мне, в том числе как «сыну поэта», и поэтому я стихи стал тихо ненавидеть. Между прочим, один питерский русский поэт преподнес мне как-то городскую газету с его венком сонетов «родной коммунистической партии», он считал достижением, что сумел придать привычным лозунгам отточенную литературную форму…
– Когда и при каких обстоятельствах познакомились ваши родители?
– На вечере, где отмечалась годовщина памяти Блока, 7 августа 1922 года выступали поэты, выступал и Браун. Мария Комиссарова после выступления Николая Леопольдовича стала о чем-то его спрашивать. Один вопрос, второй вопрос. Он ответил коротко и сказал: «Подойдите ко мне после выступления». Она подошла.
– Браун не знал, что Мария Ивановна пишет стихи?
– Тогда еще не знал. Она сказала ему, но он не придал ее словам значения.
– Между молодыми людьми существовала разница в возрасте?
– Разницы не существовало почти никакой. Разница существует только в энциклопедиях и словарях. Матушка 1900-го года рождения, а в энциклопедии значится 1904-й. Отец того же 1900-го, а в справочниках – 1902-й.
– Николай Николаевич, в предисловии к книге ваших стихов «Потаенная колокольня» сказано, что Мария Комиссарова долго скрывала, что она состоит в родстве с Осипом Комиссаровым…
– Фамилия которого, также, как и фамилия матушки, писалась с одной «с». Об этом родстве она не хотела подробно рассказывать, но я так понял, что даже крестные – «коки» – их дедушек и бабушек были какими-то родственниками. Они с Осипом Ивановичем из одних и тех же мест Костромской губернии. Могу сказать со всей ответственностью: то, что писалось в советской печати об Осипе Ивановиче, например, что он спился и повесился, неприкрытая ложь. Комиссаров за свой поступок получил дворянское звание и крупное денежное вознаграждение, о чем было не принято говорить при советской власти. Я нашел документы о том, что ему было подарено большое имение на юге, точнее – в Екатеринославской губернии.
Раньше оно принадлежало жандармскому генералу Свечину. Осип Иванович развел там большое хозяйство, выращивал какие-то замечательные груши. Что же касается его костромского прошлого, говоря сегодняшним языком, он был предпринимателем. Имел причастность к меховой торговле, к торговле шапками.
– Зачем же понадобилось превращать его в крестьянина?
– Так было принято. «Из какого сословия пошел?» – «Из крестьян». – «Так и запишем». Когда 4 апреля 1866 года в Летнем саду Осип Комиссаров увидел, что некий молодой человек целится в царя, он бросился к нему, ударил по руке, и пуля ушла вверх. У меня нет никаких сомнений в том, что, если бы понадобилось, Осип Иванович закрыл бы государя своим телом.
Сейчас, когда у каждого средней руки бизнесмена и дрожащего за свою жизнь среднего политика вооруженная до зубов, хорошо подготовленная охрана, трудно представить, что у государя императора не было никакой охраны. Никому в голову не могло прийти, что в царя-освободителя будут стрелять. Он же ничего плохого для России не сделал. Да и сам он не понимал, в чем провинился. А на него между тем была открыта настоящая охота.
– Еще не так давно на месте покушения на решетке Летнего сада висела мемориальная доска…
– Я ее очень хорошо помню. На беломраморной табличке крупными золотыми буквами было написано «На этом месте революционер Каракозов стрелял – и дальше мелким шрифтом – в Александра II». Второго – цифрой. Даже не было указано «императора». А еще раньше на месте чудесного спасения стояла часовня. Известный русский поэт Николай Алексеевич Некрасов в те дни посвятил Осипу Комиссарову стихотворение, широко распубликованное, где говорилось о близости царя и народа. Городская общественность в течение месяца отмечала событие, которое стало историческим.
– В связи с чем появилась вторая «с» в фамилии матери?
– В советское время появилась. Добавила эту букву, конечно же, не сама Мария Ивановна, а приписали ей, когда выдавали документы. У меня есть свидетельство об окончании матушкой гимназии, там одно «с».
– Когда Мария Ивановна появилась в Петрограде?
– В 18-м году. На год раньше, чем Браун. Матушка приехала учиться. Они с Николаем Леопольдовичем учились в Педагогическом институте на параллельных курсах. У Комиссаровой были в Питере родственники. У Брауна тоже были здесь родственники. И в Орловской губернии, откуда Брауны, и в Костромской, уже вовсю шли грабежи, убийства. По всей России реализовывался ленинский призыв: «Грабь награбленное!» Приезжали «комиссары в пыльных шлемах» и кожаных куртках, находили пьющих мужиков и начинали утверждать советскую власть. Мама была, по мнению новой власти, из зажиточных крестьян. Из тех, кто подлежал раскулачиванию. Один из ее братьев владел пароходом, ходившим по Волге.
– Что привело в Питер Брауна – тоже желание учиться?
– В 19-м году, когда Деникин стал отступать к югу, у Николая Леопольдовича был выбор: либо взять в руки оружие и идти с Деникиным, либо как неизбежное принять перемены в стране. Дедушка с бабушкой, Леопольд Викентьевич и Ефросинья Ивановна, (они оба были православными, как и мой отец) раздали близким людям имущество и вместе с детьми подались в Питер, где мой двоюродный дед профессор Павел Викентьевич Браун до революции владел домом на Шамшева, 17, сейчас там банк «Санкт-Петербург», а с 1960-х до конца 90-х был военкомат, где я в свое время призывался в подводный флот… Дед скончался в 19-м году, вскоре после приезда Николая Леопольдовича. В том же году дом был реквизирован. И Брауны поселились в коттедже в Новой Деревне.
– Николай Николаевич, а откуда Брауны взялись в России?
– Я не имел возможности выяснять это в советское время. За границу нельзя было ездить, архивы были закрыты. Родословными не просто никто не занимался, старшее поколение старалось о прошлом не вспоминать. Родители таким образом заботились о детях. Я не исключение.
Насколько мне известно, первым в России в ХIХ веке появился композитор и капельмейстер Христофор Браун, он работал с большими оркестрами – в Вене и в Праге. Приехал, купил землю в Орловской губернии, женился на русской. Отец мой родился уже в России. По его словам, под Прагой были деревни Браунов. Какая-то дальняя родня была где-то на католическом юге Германии, в Чехословакии, в Австрии. Вот, пожалуй, и все, что мне удалось выяснить у Николая Леопольдовича, который на вопросы отвечал крайне неохотно. Однако я помню его эпиграмму: «Я не нуждался в изобилии, / И в ливнях века не линял, / Судьбою данной мне фамилии / На псевдонимы не менял»!
– Было бы потрясающе, если бы вы еще сказали, что Ева Браун…
– Во время следствия у меня пытались выяснить, не является ли она мне ближайшей родственницей.
– Я пошутил, а вы… Серьезно?
– Куда уж серьезнее! Это сейчас можно посмеяться. Когда один из следователей спросил, я тоже несколько удивился, что он не шутит: «Если я вам скажу, что не является, вы все равно не поверите. Так что уж проверьте сами и скажите мне». Был еще Джон Браун – борец за права чернокожих, о нем почему-то следователь не вспомнил. Может быть, в школе плохо учился.
– Однажды вы мне рассказывали, как энкавэдэшники вербовали вашего отца. Тогда, мол, Николай Леопольдович и узнал, что у него есть родственники за границей – это считалось крамолой.
– Во время допросов в августе 40-го года отца вызывали в 6-е отделение милиции на канале Грибоедова. Тогда уже мы жили в писательской надстройке на том же канале Грибоедова, дом 9. Начались допросы-расспросы. В связи с делами, которые касались их общих с Есениным и Клюевым друзей. Вопросы касались и переписки Брауна с казненным поэтом Иваном Приблудным, поэтом Павлом Васильевым, убитым в 37-м; без вести пропавшего в 38-м Бориса Корнилова и его жены Ольги Берггольц. А по большому счету попутно выполнялся план по вербовке будущих стукачей. – «Соглашайтесь!» – настаивал следователь. «Вы хотите, чтобы я бросил литературу, перестал писать? У вас что, для меня уже готова форма и звание офицера НКВД?» – противился отец. На пятом или седьмом ночном допросе Браун заявил: «Я не буду отвечать!» Следователь: «Ну что ж, тогда будем сидеть молчать, но не спать». – «Для меня как для поэта по ночам не спать – дело привычное». Следователь приходит в ярость. «Вы что дурака валяете! У вас родственники за границей. Вы же с ними состоите в переписке». – «Какие родственники! Какая переписка!» – «У нас их письма». – «Так дайте почитать!» – «Не полагается, это следственный материал». – «В таком случае, откуда же я знаю, что у меня родственники за границей?» У следователя сдали нервы – кричит: «Вы у нас в расстрельных списках!» Отец прекрасно понимал, что может быть дальше: арест, следствие… А потом он будет считаться без вести пропавшим – как его друзья поэты Николай Олейников, Борис Корнилов, которые жили в одном доме с ним, на Канале Грибоедова, 9.
– И чем закончилось история с вербовкой?
– Николай Леопольдович написал очень серьезное заявление и отвез его в Смольный, и в Смольном нашелся кто-то, кто (он не знал кто) эти ночные допросы прекратил. Браун писал, что все обвинения абсолютно безосновательны, что он подвергается шантажу. «Либо вы меня защитите, либо я буду жаловаться в Москву…» Письмо в Москву он уже подготовил.
В черновиках отца я нашел и опубликовал в сборнике «На невских берегах» стихотворение, датированное 29 августа 1940 года:
Когда к тебе стучится неудача,
А счастье дом обходит стороной,
Не становись подобен тем, кто плача
Или ропща, клянет удел земной.
Останься тверд, не жди к себе участья,
Готовься с честью путь земной свершить.
Пусть даже в мире нет дороже счастья,
Чем это счастье – жить».
Главное, что я хотел бы выделить в этом стихотворении – понятие чести. Чести отец не изменял никогда.
– Как Николай Леопольдович познакомился с Сергеем Есениным?
– Он был знаком со многими поэтами своего времени. С Сергеем Александровичем отца в нашем городе познакомил Клюев. Об их довольно близком знакомстве говорит тот факт, что Сергей Александрович подарил отцу автографы двух своих стихотворений:
«Снова пьют здесь, дерутся и плачут» и «Мне осталась одна забава: пальцы в рот – и веселый свист!..» Они каким-то чудом тоже, как и «Песнослов», уцелели во время блокады и обысков, и сейчас хранятся в моем архиве.
У отца была замечательная память. Он намеренно не писал воспоминаний, даже не хотел слышать об этом. Только в середине 60-х впервые рассказал мне, уже взрослому, о том, как выносил убитого Есенина из «Англетера». Оказавшись в мордовских спец-строгих политлагерях, я на лагерном свидании обратился к отцу с просьбой написать о Есенине. Рассказать все, как было. В надежде, что после освобождения опубликую его воспоминания за рубежом. У меня был большой срок – десять лет (статья 70 УК РСФСР), который я отбыл полностью с 1969 по 1979 год. Отец прислушался к моей просьбе, но выполнил ее частично. Воспоминания написал, но в них заведомо только то, что могло быть опубликовано в советской печати.
– Каким образом в тот роковой для Есенина декабрьский день 1925 года Браун-старший оказался в «Англетере»?
– В редакцию журнала «Звезда», где в ранний час были двое: Николай Браун и Борис Лавренев, позвонили из «Англетера» и попросили обоих придти, сообщив, что Есенин покончил с собой. Писатели должны были увидеть Есенина мертвым и подтвердить версию суицида. О том, что Есенин покончил самоубийством, в гостинце рассказали Медведев, Фроман и Эрлих. Но и они, как оказалось, ничего своими глазами не видели. Им тоже «рассказали».
Покойный уже был приготовлен для демонстрации. Первоначальные фотоснимки, которыми мы сегодня располагаем, свидетельствуют и подтверждают то, что мне рассказывал отец. У Есенина были изрезаны, похоже, бритвой, руки. Но совсем не поперек, а вдоль. Как при пытке. Левый глаз выбит. В ноздрях застыла жидкость, очень напоминавшая головной мозг. Череп пробит в лобной части. Две вмятины чуть повыше переносицы. Николай Леопольдович говорил: «Как будто сдвоенной железной палкой ударили!» А может быть, рукоятью пистолета? Неизвестно, какого. Есенин с собственным пистолетом не расставался. На мой вопрос, которая из ран оказалась смертельной, отец сказал: «Та, что под правой бровью». Отец в голодное время, в 1919-20 годах, чтобы выжить, работал санитаром «скорой помощи». На покойников он насмотрелся, среди них попадались и самоубийцы. Да и анатомию он неплохо знал.
«Когда Есенина нужно было выносить, – рассказывал отец, – я взял его, уже окостеневшего, под плечи. Волосы рассыпались мне на руки. Запрокинутая голова опадала. Были сломаны позвонки». При повешении у человека расслабляются все органы. При убийстве – нет. И на полу и на диване, куда положили труп Есенина, было сухо. Никакой врач не поверит, что перед ним самоубийца, если мочевой пузырь не опорожнился. Не было ни посинения лица, ни высунутого языка.
Браун с Лавреневым категорически отказались подписаться под протоколом, где говорилось, что Есенин покончил с собой. Протокол был составлен даже на первый взгляд неумело, примитивно. Но под ним уже стояли подписи сотрудников ОГПУ Вольфа Эрлиха и Павла Медведева, секретаря Союза писателей Михаила Фромана и поэта Всеволода Рождественского. Николай Леопольдович тут же упрекнул последнего: «Сева, как же ты мог под этим подписаться? Ты же не видел, как Есенин петлю на себя надевал!» Тот ответил: «Мне сказали – нужна еще одна подпись».
– Николай Николаевич, перенесемся в «сороковые-роковые». Начинал войну Браун в Севастополе. Где Ленинград, а где Севастополь…
– Для того времени отец поступил идеально правильно. В начале войны люди с немецкими, финскими и эстонскими фамилиями могли либо быть подвергнуты депортации, либо расстрелу. Николай Леопольдович сына с женой отправил в эвакуацию, на Урал, а сам убыл на фронт, на передовую. В Севастополь попал как военный корреспондент. Вскоре отца перебросили в Эстонию. Немцы наступали стремительно, и он оказался участником трагического Таллинского перехода. Командование предприняло попытку спасти остатки Балтийского флота. Отец шел на трех транспортах. Два пошли ко дну: один разбомбили, другой подорвался на мине. То, что он видел, это несколько Цусим! Только военных чинов, по спискам, составленным значительно позже, пошло ко дну более 33-х тысяч, гражданских лиц никто не считал. О таком нельзя было рассказывать. Чтобы не сеять панику. Отец был опытным пловцом и спасал людей своими решительными действиями. Спасенные разыскали его уже в конце войны, после перехода он значился в реестре безвозвратных потерь. Только в конце 1960-х – начале 70-х отец напишет «Поэму похода». Я, по возвращении, подготовил ее к печати, написал предисловие, подписал его фамилией матери, потому что под моей бы не опубликовали, принес в журнал «Звезда». Зам. главного редактора Жур, который ко мне относился по-настоящему хорошо, сказал: «Ну как же я могу поместить поэму полностью? Одиннадцать глав помещу, а двенадцатую (она по счету не 12-я) не могу». Я не понял: «Что же вам мешает, Петр Владимирович?» – «Как начинается глава «Эвакуация»? «Тебе всего два с половиной года, ты спишь, а ночь разорвана войной… Ты ничего еще понять не в силах…» «Вам «всего два с половиной года!». Да сколько бы ни было! Понимаете, Николай? У вас какая статья была – политическая? Вы нереабилитированы! Мы не имеем права публиковать о нереабилитированном». Я в ответ иронизирую: «Тебе всего два с половиной года, а ты уж оценен как враг народа!». Но главным стало то, что хотя 12-я глава и стала 11-й, «Поэма похода» увидела свет.
– Давайте пунктирно обозначим дальнейший боевой путь Николая Леопольдовича.
– Когда после Таллинского перехода отец вернулся в Ленинград, почти сразу началась блокада. Он много раз летал на полуостров Ханко, который находился в глубоком тылу противника, в том же году написал «Гимн морской авиации». У меня есть листовки времен войны с этим гимном. Много лет спустя, когда Брауна не стало, на ленинградском радио, в феврале 1977-го, ко второй годовщине его смерти, подготовили радиопередачу, где боевой летчик, известный на Балтике ас Иван Георгиевич Романенко вспоминает о боях на Ханко: «Браун ничего не боялся, и мне пришлось дать ему сопровождающего, такого парня, который бы хватал его за полы шинели и падал вместе с ним при свисте осколков. А когда я ему сделал выговор, он ответил: «У этой их артиллерии есть мишени покрупнее, чем я».
Из блокадного Ленинграда Браун вылетал на фронты. Во время войны выпустил несколько книг. Его стихи звучали по радио. Случилось так, что родной брат Николая Леопольдовича Корней попал в плен. Там его допрашивали русские следователи. Во время допроса по радиоэфиру в кабинете следователя звучала передача из блокадного города. Вдруг диктор объявил: «Стихи Николая Брауна». Следователь заинтересовался: «А это что еще за Браун?» – «Брат!»
После войны Корней женился на финке, жили они в Финляндии, но он настоял на переезде в Советский Союз, где ему как человеку побывавшему в плену, сразу определили черту его «оседлости».
Два других брата отца с войны не вернулись. Анатолий Леопольдович, он тоже был поэтом, и однажды выступал на одном из поэтических вечеров вместе с Ахматовой (афиша сохранилась) – погиб во время взятия советскими войсками Одессы. Брат Владимир Леопольдович – на Новгородчине, до войны он был на флоте, работал врачом, как тогда говорили «фельдшером», на ледоколе «Ермак». Иван Александрович Комисаров, мой дед по материнской линии, умер во время блокады.
– Мария Комиссарова фигурирует в Постановлении ЦК ВКП(б) 46-го года…
– Когда Сталину доложили, как плохо освещаются итоги Великой Отечественной войны в советской литературе, Сталин вызывал к себе Александра Андреевича Прокофьева, председателя Союза писателей – у меня есть стенограмма его разговора со Сталиным… Если посмотреть журналы «Звезда» и «Ленинград», в них в самом деле никто не писал о великом вожде, о его великой победе. А раз нет таких произведений, значит, виновата не действительность, которую они должны воспевать, а литераторы. Значит, с них и надо спрашивать! Неугодных Жданову писателей оказалось несколько. В их числе была и Мария Комиссарова. Всех, кто упоминается в этом постановлении ЦК, я очень хорошо знал. Включая Анну Андреевну Ахматову. С Зощенко мы жили неподалеку, хотя квартиры в доме на канале Грибоедова, 9, находились на разных этажах. Помню потухший взгляд Михаила Михайловича. Он человеком был абсолютно порядочным, честным, и как известный, даже знаменитый советский писатель, наверное, решил, что может писать то, что думает. Почему в этом списке оказался Юрий Герман, я не знаю. Может быть только потому, что он был человеком, имеющим свое мнение при оценке событий.
ты помнишь, что сказал Жданов? «Звезда» публикует упаднические стихи Комиссаровой, где все безысходно. Если ты не будешь смотреть на жизнь более весело, я буду говорить, что Жданов был прав».
– Как же все-таки получилось, что у советских поэтов Брауна и Комиссаровой, при всей сложности их судеб, сын вырос антисоветчиком? Можно сказать, мальчик из благополучной семьи…
– Родители мои были, конечно, советскими поэтами. Но мои крестные не принимали советскую власть с ее расстрелами, грабежами, хамством. Я был крещен семилетним, в 45-м году, тайно, бабушкой Павлой Семеновной, в церкви на проспекте Непокоренных. Я помню, как ходил возле купели батюшка, как меня спрашивал: «Отрицаешься ли сатаны? Сочетаешься ли со Христом?», и я как полагается, сначала три раза отвечал: «Отрицаюсь», а затем трижды: «Сочетаюсь». У бабушки Павлы на нашей кухне на Канале Грибоедова, 9, в квартире 128, перед образком всегда горела негасимая лампада. На нее однажды, войдя в нашу открытую дверь, когда его ждали, случайно наткнулся писатель Фадеев. Александр Александрович осенил себя таким маленьким крестиком. Я стоял в коридоре, он меня не видел.
Конечно, в нашем роду было трагическое разделение между старшим поколением, дедов и бабок, и поколением родителей.
– Когда пришло осознание, что «мы пойдем другим путем»?
– Еще в школе. Я учился в 222 школе, знаменитой Петершуле. Обучение было раздельное, одни мальчишки. Старшие нам поясняли, какой должна быть жизнь, стукачество жестоко каралось. Драки – только на кулаках, до первой крови, лежачего бить нельзя. Презирались воровство и пионерские галстуки. «Красную селедку» носить вне школы было западло. На уроки приходилось волей неволей повязывать. У меня сохранился «Отпускной билет пионера», в верхнем углу которого: «К борьбе за дело Ленина-Сталина будь готов!» Сегодня скажите, что был такой документ, – не поверят. Летом останавливают дядечки в орденах: «Пионер?» – «Пионер». – «Отпускной билет есть? Покажи». Читают: «К борьбе за дело Ленина-Сталина будь готов!» И я должен ответить: «Всегда готов!» И «салют пионерский» отдать. А я руку не поднимаю. «Нет, не так. Повтори. А где галстук?» – «В кармане». – «Почему в кармане?» Начинаешь выкручиваться: «Чтобы не порвать и не испачкать».
Я очень рано начал понимать, что вся наша действительность пропитана ложью.
Мне родительница дает с собой бутерброды, а я вижу на перемене десятки голодных глаз: «Дай кусочек»! И я отламываю себе кусочек, а все остальное, конечно, раздаю. «Если мы живем в такой замечательной стране, то почему у нас есть голодные? Если мы победили в такой войне, то почему всего боимся?» Эти вопросы я пытался задавать старшим, в том числе писателям. Чаще всего слышал: «Ты, мальчик, иди и об этом никогда не спрашивай!»
Полным ходом шло осовечивание, окомунячивание народа. Люди не желали помнить своего прошлого, не желали слышать о своем происхождении. Жили под знаком 1 мая, 7 ноября, 8 марта. Власть можно выбирать? Да, но ты голосуй, как все. А как же иначе? «Народ и партия едины!». Но ведь это были ложь и трусость, основанные на стукачестве.
Я продолжал задавать вопросы, сомневаться. И по мере взросления, стал делать собственные выводы, обобщения. Я всегда, и во время следствия, когда меня обвиняли в инакомыслии, говорил: «Я не инакомыслящий, я – мыслящий». Это ведь куда опаснее, чем инакомыслящий! Не вдаваясь в подробности, скажу: я пошел своим мыслительным путем очень рано. Я даже перефразировал известное изречение Рене Декарта, известное в переводе на латинский язык: «Cogito ergo sum» (Мыслю, следовательно, существую) на свой антисоветский лад: «Incognitus ergo sum» (Мыслю скрытно, следовательно, существую).
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?