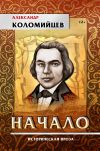Текст книги "Удивительные – рядом! Книга 1"

Автор книги: Владимир Желтов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Николай Николаевич, в нашем разговоре мы не можем обойти вниманием Василия Витальевича Шульгина, выступившего на суде в вашу защиту.
– В моем обвинительном заключении и приговоре есть пункт, где мне инкриминируется чтение моих антисоветских стихов в доме Шульгина в городе Владимир. В связи с этим он и был привезен оттуда чекистами в тогдашний Ленгорсуд. Чтобы подтвердить, что я агитировал его против советской власти и обрабатывал в антисоветском духе. Сейчас все это, конечно, выглядит бредом, но уровень горсуда был такой, что со стороны обвинения это могло казаться вполне естественным.
Выступая в суде, Василий Витальевич, в частности, сказал: «Подсудимый не мог меня сагитировать против Советской власти, потому что я являюсь ее сознательным врагом, идейным врагом Ленина и большевиков. Являясь участником белого движения, я воевал с большевиками и коммунистами». И еще: «Ко мне во Владимир приехал следователь КГБ и говорит: «Ваш молодой друг хотел взорвать мавзолей, готовил покушение на Брежнева! Он, читая свои крамольные стихи, настраивал вас против советской власти, которую ненавидит, и выражает в них ненависть!» Василий Витальевич сделал паузу и продолжил: «И вот мы со следователем взяли его стихи и стали искать в них эту самую ненависть». Это точная цитата.
Понятно, что Шульгин – не та персона, которую я мог агитировать. Возможно, КГБ преследовал другую цель: сам факт, что меня защищает участник белого движения и монархист, с которым я поддерживал тесные отношения, можно было истолковать как утяжеляющий вину.
Судили нас шестерых, зачитали приговор, выводят во двор (он со стороны улицы Пестеля), сажают в два автозака, а по двору бегают подростки и распевают белогвардейскую песню из кинофильма «Операция «Трест», в который были включены кадры другого, документального фильма «Перед судом истории», главный герой которого – Шульгин: «Так за Царя, за Родину, за Веру мы грянем громкое: «Ура! Ура! Ура!». Это было для меня просто подарком – они, конечно, знали, что в горсуде закончился нашумевший политический процесс, но пели ли они по собственной инициативе или их надоумил кто-то из взрослых, оставалось только догадываться.
– Как в вашей жизни возник Шульгин?
– Николай Леопольдович отдыхал в Гаграх, в Доме творчества писателей. Отец знал, что я под большим впечатлением от картины «Перед судом истории». Он однажды позвонил домой: «Здесь Шульгин. Друзья из Владимира и Москвы достали ему путевку. Прилетай!» Я взял билет на ближайший рейс. В Гаграх Шульгин отдыхал вместе с супругой. В результате тесного ежедневного общения, Василий Витальевич предложил мне быть его секретарем. Он стал диктовать свои произведения.
Мы с Шульгиным два сезона провели в Гаграх, и оба сезона работали. Я бывал у Шульгиных во Владимире, мы переписывались. Я помогал Василию Витальевичу и его супруге в кое-каких житейских делах.
– Шульгин был свидетелем отречения государя императора от престола, участвовал в том, что произошло. В ваших разговорах вы не могли не касаться отречения…
– Вопрос отречения был предрешен. Оно произошло бы независимо от того, присутствовал бы Шульгин при этом или нет. Он посчитал, что должен присутствовать хотя бы один монархист. Шульгин также считал, если акт отречения передадут партии монархистов, можно будет спасти монархию. Шульгин также опасался, что государь может быть убит. И ехал на станцию Дно с целью «создать щит», чтобы убийства не произошло. Василий Витальевич хотел убедить государя, что отрекаться ни в коем случае не надо, но, как я понял из его объяснений, у него не было такой возможности…
Вы знаете, что из себя представляет отречение Николая II? Листок бумаги с машинописным текстом: «Начальнику Штаба…» Какому именно? Подпись императора – карандашом! Текст заверен: «Министр императорского двора генерал-адъютант барон Фредерикс». Если бы не подпись Фредерикса, это так называемое отречение вообще можно было бы выкинуть в мусорную корзину. Документ, который даже начинающий канцелярист не принял бы всерьез.
– Сказалось ли то, что вас осудили, на ваших отношениях с родителями?
– На суде я, отводя беду от родителей, сказал: «Я считаю их законченными советскими писателями!» «Как? Разве они хотя бы о чем-нибудь не подозревали?»
– Нет, ни о подготовке взрыва мавзолея, ни о покушении на Брежнева. Своих антисоветских стихов я им тоже не читал.
Так или иначе, но все резко изменилось в один день. Советские поэты стали родителями политзаключенного. С момента моего ареста у них уже был другой сын, а у меня – другие родители. Они вынуждены были пересмотреть свои предыдущие взгляды и позиции. Потому что в стране «триумфально шествующей советской власти» их мыслящему сыну уготованы тюрьма и лагерь. Значит, в чем-то была их ошибка. Николай Леопольдович ни разу с момента моего ареста ни в чем не упрекнул меня, старался понять, что же произошло.
В горсуде я по просьбе судьи декламировал мои антисоветские стихи, которые были вещественным доказательством преступления: против рабских несвобод, против ввода войск в ЧССР, об утраченной благодати и о вере в предвоскресье…
Суд был закрытым, под усиленным конвоем, но моим родителям давали место в зале, целиком заполненном чекистами в погонах. Николай Леопольдович слышал мои выступления и впервые – те стихи, которые вменялись мне в вину.
Родители хорошо знали то, что происходило в стране на протяжении 50 лет советской власти. Слишком близко происходило и «проходило». Смерть Гумилева, убийство Есенина, расстрелы 37–38 годов… В 40-м Николай Леопольдович сам был на грани ареста и расстрела. Благодаря мне, он увидел брежневско-андроповские политлагеря ГУИТУ – прямое продолжение ГУЛАГа. Он приезжал, читал мне свои стихи, я ему – свои, пел свои песни. Иногда под звуки автоматных очередей на ближнем полигоне, если учения охраны совпадали со свиданиями… У меня хранится альбом, в который моей матерью переписаны стихи, написанные мной в лагерях, мордовских и уральских, присланные или через кого-то переданные. Альбом избранных ею моих стихов.
На первом же свидании в Мордовии отец спросил меня: «Нам положить свои членские билеты Союза писателей СССР?» – «Ни в коем случае!» У родииителей продолжали выходить книги. И я радовался, что не нанес им вреда, урона как поэтам, в их деле, которому они служили всю жизнь. Хорошо зная писательскую общественность, я был уверен, что не найдется никого, кто смог бы защитить их от идеологического давления, даже травли, пока я за семью заборами, а их в Мордовии, действительно, было семь.
В связи с этим хочется вспомнить эпизод из жизни родителей после моего ареста. Когда руководству Союза писателей было поручено собрать подписи под партийным письмом с требованием об исключении из организации Александра Исаевича Солженицына, в нашу квартиру было два телефонных звонка. Сначала – Марии Комиссаровой, из канцелярии Союза, с вопросом, согласна ли она подписать письмо с таким требованием. Она ответила спокойно: «Забудьте навсегда, это вам не 30-е годы». Следующий звонок был Николаю Леопольдовичу, из газеты «Ленинградская правда», органа Обкома КПСС, с тем же вопросом, заданным через журналистку по фамилии Витоль. Он сразу резко оборвал: «Да как вы смеете? У меня сын в ГУЛАГе!» Подписантов, готовых угодить советской власти, было и без родителей достаточно. Этот вопрос должен был унизить обоих, уже немолодых, поэтов, оскорбить их человеческое достоинство.
На издаваемых книгах отец оставлял автографы, адресованные мне. Годы спустя, по возвращении домой, я обнаружил их. На книге «Только о жизни», изданной в 1972 году, после слов, обращенных ко мне, я прочел: «…утверждать, воспевать, совершенствовать жизнь силой поэтического слова!» Я воспринял этот автограф как поэтическое завещание.
Отцу я обязан многим. Конечно, как поэту-мастеру, знатоку литературы, обязан «брауновской школе» стиха и стиля, благодаря его умению относиться к младшему с уважением, доброжелательным вниманием, что является редким свойством для крупных поэтов. Разве что Николай Гумилев умел радоваться достижениям своих учеников больше, чем своим. Отец был для меня также примером умения держать себя в обществе. Двух вещей у нас в доме не было никогда: матерной ругани и хулы на Бога. Несмотря на то, что споры бывали очень резкими, чаще на литературные темы. Что касается тем политических, то на взаимность в советской писательской среде мне с моими взглядами рассчитывать не приходилось. Но, не навязывая их, я всегда открыто отстаивал свои убеждения, особенно в сфере культуры. Например, говоря, что поставил своей целью вернуть России русскую поэзию, которая была под запретом. Не советскую, а русскую.
Нельзя забыть о том, что в мои политлагерные годы родители оказывали существенную материальную помощь тем моим соузникам, которые приезжали к ним вскоре после освобождения, о чем те до сих пор всегда вспоминают благодарно.
Последний раз я виделся с отцом на Урале, в конце 1974 года; они навестили меня вдвоем с матерью, добившись разрешения на свидание. Тогда он был болен, хотя выглядел по-прежнему артистично, был стройным, легким в движениях. Читал мне новые стихи. Но у обоих нас было предчувствие, что эта встреча – последняя. Мы заспорили о чем-то важном, проявили крайнюю неуступчивость, и вдруг спохватившись, где мы и почему, умолкли. И тут он, пристально посмотрев мне в глаза, в первый и последний раз в жизни перекрестил меня заметно похудевшей рукой.
Он, потерявший самых близких друзей в годы репрессий, прошедший фронты войны на суше и на море, теперь, приезжая ко мне, видел суровую неразглашаемую правду мордовских и уральских политлагерей, все больше интересовался ею. Наша невидимая душевно-кровная связь на расстоянии была постоянной. И вдруг ее не стало, некий пульсирующий поток тонкой энергии оборвался. Когда из спецчасти уральского политлагеря принесли телеграмму, я, еще не прочитав ее, знал, что это сообщение о кончине отца. Его не стало 12 февраля 1975 года. Мне оставалось отбывать еще четыре года срока.
Мария Ивановна дожила до того времени, когда могла вместе со мной и моими друзьями петь «Боже, царя храни», и пришла в восторг, когда над Россией вновь взвился трехцветный флаг, под которым она родилась. С радостью подписывала все документы: за возрождение казачества, за восстановление храмов. Возлагала большие надежды на то, что жизнь изменится к лучшему.
А я и сегодня, как раньше, имею критический взгляд на нашу действительность. И выражаю свои идеи, убеждения, подкрепленные жизненным опытом, в публичных выступлениях, в концертах, в стихах и песнях.
2013 г.
Борис Тайгин
Первопечатник
Владимир Соломонович Бахтин – уже в прихожей – сказал:
– Не торопитесь уходить – через десять минут придет Борис Тайгин, я вас познакомлю, – после чего воскликнул: – Вот о ком надо писать!
Мне в моей журналистской практике не единожды от разных людей доводилось слышать: «Вот о ком надо писать!». Я не сомневался в правомерности такого заявления. Каждый человек мне интересен, не каждый, правда, может быть интересен как собеседник, тем более, рассказчик. Но надо мной всегда нависал дамоклов меч редакторов, которые уверены, что газете (журналу) нужны так называемые медиа-персоны, что исключительно знаменитости интересны читателю, что только они делают тираж и т. д. Редко когда удавалось переубедить того или иного редактора. Переубеждал всегда текстом. Если редактор брался прочесть готовый материал, мог быть вынесен и оправдательный приговор, вплоть до – «Срочно в номер!» Но чаще всего отказ следовал при «согласовании персон».
Конечно, я с удовольствием (лучше – под диктофон) пообщался бы с очень многими людьми, с которыми меня сводила жизнь, но, но, но… Теперь о вольно или невольно упущенных возможностях приходится слезно сожалеть самому себе.
Владимир Соломонович Бахтин, фольклорист и популяризатор фольклора, плотненько сотрудничал со средствами массовой информации и прекрасно понимал специфику современной журналистики. Потому-то, вероятно, и стал объяснять мне, кто такой Тайгин:
– Боря помог Рубцову собрать и издал первый сборник – «Волны и скалы», благодаря ему, Коля поступил в Литературный институт. Он придумал издательство «Бэ-Та» и издавал Бобышева, Рейна, Гордина, Беллу Ахмадулину, Сашу Морева, Паркаева, Костю Кузьминского. И конечно, Глеба Горбовского. Он первым издал Бродского. Тайгин не только записывал Аркадия Северного, но и придумал ему псевдоним. Знаете его настоящую фамилию? Звездин.
Настоящую фамилию Аркадия Северного я знал, но что псевдоним популярному полуподпольному шансонье придумал Тайгин, нет.
Слышал от кого-то я о «тюремном прошлом» Тайгина, и в тот вечер у Бахтина подумал, что он, «прошедший лагеря», не станет откровенничать с «первым встречным» журналистом даже при рекомендации столь авторитетного человека как Владимир Соломонович Бахтин. В общем, я не стал дожидаться Тайгина, ушел.
В то время я довольно-таки часто бывал у Глеба Горбовского. Глеб Яковлевич редко когда не вспоминал Тайгина.
Вторая половина 1990-х, Горбовского не издавали. Да что там Горбовский! На очередной Пушкинской годовщине на Мойке, 12 Михаил Чулаки обреченно констатировал: Пушкина не издают!
Однажды перед моим приходом Горбовскому позвонили из какой-то редакции и предложили опубликовать в журнале его стихи. Глеб Яковлевич негодовал:
– Чего захотели! Чтобы я оплатил публикацию! Мне – мне! – всегда платили за мой труд.
Тогда (и прежде, и потом) совершенно бескорыстно Горбовского издавал Тайгин. И ничего удивительного не было в том, что о Тайгине Глеб Яковлевич говорил с благодарностью, но иногда, подвыпивший, и с иронией; называл он его Павлин.
– Глеб Яковлевич, почему – павлин?
– Вопрос не ко мне. Настоящая Борина фамилия – Павлин, ударение на последний слог, но мне больше нравится, когда на первый. Он же из немцев. Обрати внимание на его педантичность.
Какое отношение имеет педантичность к несколько странной фамилии, я не понял.
Пройдет время, и я в интернете прочту: фамилия Тайгина – Павлинов. Как на самом деле, не знаю.
И все же с Тайгиным мы познакомились, благодаря Бахтину. Владимир Соломонович устроил вечер в Центре современной литературы и книги, с которого – так получилось совершенно случайно – возвращались, шли до метро, мы втроем: я, моя жена Вера и Тайгин. Аккуратненько одетый, при галстуке, да еще с портфелем, степенно вышагивающий Борис Иванович напоминал школьного учителя. На правах старшего, он заговорил первым:
– От Володи я слышал про вас.
(Володя – это Бахтин.)
В нашем попутном разговоре – о Бахтине, о Горбовском, о литературе в общем и о поэзии в частности – не было ничего такого, что было достойно отражения даже в дневнике. Испытывая необъяснимую робость, я предложил Тайгину встретиться и пообщаться под диктофон. Он отказался:
– Не думаю, что моя личность может быть интересна вашим читателям.
На подходе к «Василеостровской» Борис Иванович извлек из «учительского» портфеля невеликую по объему книжицу «Право на себя», книгу своих стихов.
– Можете прочесть и вернуть. Если посчитаете, что она вам нужна – оставьте себе.
Подписать отказался:
– А вдруг вам не понравится? Прочтете, понравится – обязательно подпишу.
Повод позвонить Тайгину у меня появился в октябре 1999 года.
24-го числа я набрал номер его телефона.
– Борис Иванович, вас беспокоит…
– Помню, помню.
– Даже так!
– Да, мы познакомились после вечера Владимира Соломоновича Бахтина.
– Борис Иванович, в журнале «Книжный вестник» я опубликовал материал о Глебе Яковлевиче Горбовском.
– Это хорошо. Каждое упоминание о большом поэте – на пользу.
– Но я не поэтому вас беспокою. Глеб Яковлевич много лестных слов сказал о вас…
– Да? Это приятно. Значит, посчитал нужным отметить.
– Хочу подарить вам журнал и поговорить с вами о вас.
– За журнал буду благодарен. А что со мной обо мне говорить?
– Борис Иванович!
– В октябре уже никак не получится. Нужно будет созвониться в ноябре. Найдем местечко…
Последние слова («Найдем местечко») меня насторожили: значит, домой не пригласит, книг им изданных не покажет.
Мы встретились 4 ноября 1999 года, где – не помню. Тайгин подписал мне книгу: «Владимиру Желтову – от автора. Спасибо за более чем годовую оценку (по времени изучения) с положительным «знаком качества»! 4.Х.1999. СПб. С уважением – подпись». От разговора «о себе» вновь он отказался. Я попросил разрешения побеспокоить его еще раз.
После прочтения моей публикации о Горбовском, где Глеб Яковлевич говорит и о нем, Тайгине, Борис Иванович готов был не только побеседовать со мной «под диктофон», но и пригласить меня к себе домой. А вот договориться о встрече у нас еще долго не получалось. Прежде всего, из-за моих постоянных командировок.
Однажды Тайгин позвонил сам и спросил, нет ли у меня еще одного «Книжного вестника» – хочет в Москву поэту Юрию Паркаеву послать. Журнал я выцыганил в редакции, но встреча с Тайгиным все откладывалась да переносилась.
К слову, журнал Паркаеву отвез все-таки я…
23 января 2001 года. Очередной телефонный разговор с Тайгиным. Борис Иванович – я не сразу понял почему – от встречи вновь стал деликатно «уходить»:
– В ближайшие дни не получится.
– Ну почему? Борис Иванович! Мы вроде бы договорились!
– Да, я, собственно, и не отказываюсь.
Наконец он «раскололся»:
– Японские кинематографисты снимали у меня дома фильм…
– Про Рубцова?
– Нет.
– Про самиздат?
– Нет. Не гадайте – не догадаетесь. Японцев заинтересовала история звукозаписи «на ребрах». Первым делом они в Москве сняли человека, занимавшегося «музыкой на ребрах». Он переадресовал их в Ростов-на-Дону. Сняли там. В Ростове вспомнили и сказали японцам, что основоположник это дела я, хотя это не совсем так…
Я не скрывал удивления:
– Это же надо! Японцы! За десять тысяч верст прилетели! И вообще: какое дело японцам до нашей «музыки на ребрах»!
– Владимир Григорьевич, это мы не ценим своей истории.
– Борис Иванович, можно будет посмотреть фильм?
– Не знаю, пришлют ли они мне копию.
– Так вы поставьте условия!
– Может быть, и надо попросить. Я еще с ними буду встречаться. Попробую…
– Извините, но я не понимаю: что мешает нам с вами встретиться?!
– Я же говорю: съемки не завершены. Я могу понадобиться японцам.
Не прошло и полгода… Во второй половине мая я вернулся из очередной командировки и позвонил Тайгину. В «ближайшие дни» Борис Иванович не мог:
– Не раньше шестого июня.
– Хорошо! Шестого так шестого. Шестое – день рождения Пушкина. Что ж, это даже символично.
Шестого июня 2001 года в два часа дня мы с Борисом Ивановичем встретились на станции метро «Приморская». К себе домой он вел через район новостроек, какими-то дворами; у меня даже появилось «подозрение»: специально «путает следы», чтобы я не запомнил дорогу. И надо сказать, ему это удалось.
В тесной квартирке Тайгиных все было расставлено, разложено с немецкой аккуратностью и педантичностью. Памятуя слова Горбовского, на это я сразу обратил внимание.
Борис Иванович познакомил меня с женой. Нина Михайловна удалилась на кухню и в нашем разговоре участия не принимала.
Разговаривали мы в небольшой комнате, перегороженной шкафом образца 1960-х. На кровать такого же возраста Борис Иванович поставил картонные коробки со своими изданиями. В каждой коробке был перечень содержимого. На каждой фотографии – подробнейшее описание «кто, где, когда». Стопки бумаг разделены закладками: «Для первых экземпляров», «Для вторых».
– А в этих коробках все, что удалось сохранить. Естественно, исключительно первые экземпляры. Это всего лишь часть – та, что я из шкафа вытащил. Еще раза три по столько же надо вытаскивать, чтобы показать вам только одного изданного мной Горбовского…
– Борис Иванович, с чего начнем – с самиздата?
– Как прикажете. Глеб Яковлевич Горбовский написал предисловие к моей первой книжке «Право на себя» – там об этом есть. О том, как примерно с 59-го года мною издавались, на пишущей машинке, естественно, отпечатанные сборники стихов. Что-то удалось сохранить. Здесь, как я сказал, первые экземпляры, некоторые с автографами. Но не все – часть в силу, так сказать, разных, обстоятельств, исчезли из моей библиотеки тире фонотеки. Фонотека у меня тоже большая и тоже бережно сохраняется. Семнадцать поэтов либо имели желание, либо согласились по моему предложению записаться с чтением своих стихов на магнитофонную ленту, как я говорил: для истории. Александр Морев даже сказал: «Для нынешних и будущих поколений!» Александр Морев, Николай Рубцов, Игорь Михайлов… Это все поэты наши, петербургские. Жизнь идет, и многих из тех, кто бывал у меня, кто издавался и записывался, увы, сейчас уже нету на поверхности земного шара. Значит, уникальны и поэтические сборники, тем более заверенные автографами, и, естественно, голоса.
– Сколько сборников Горбовского издали вы на сегодняшний день?
– Скажу точно: 98.
– Девяносто восемь?!
– Да. Вот таких книжечек, 98. Видите, как эта сделана, на красной бумаге, с рекламой даже. (Смеется.) И с автографом: «Дорогому Боре! Спасибо за верность!» А верность в чем выражается? В том, что сборник этот 99-го года, а начал я Глеба издавать в 59-м! Представляете? Для четырех десятилетий, конечно, не так уж и много, и тем не менее…
– Первый экземпляр вы оставляете себе. А второй?..
– Мы говорим о Горбовском? Второй всегда отдаю Глебу. Третий, в каких-то случаях, четвертый, пятый, шестой предназначаются конкретным людям. Последний сборник надо было послать в Москву Юрию Паркаеву, Глеб надписал: «Дорогой Юра…», еще что-то – что посчитал нужным.
– Какой тираж у ваших изданий? Сколько пробивает машинка? Пять пробивает?
– Пробивает, но я больше трех стараюсь не делать. Если нужно больше, идет повторная закладка, – и еще три. Если нужно, скажем, десять, значит, три закладки; четвертый экземпляр – читаемый, но… в принципе: три. Три экземпляра – это качество.
– Вы заметили, что на сборнике Горбовского присутствует реклама. Я понимаю: реклама в поэтическом сборнике – вещь вынужденная.
– Случалось, что у меня под рукой не оказывалось писчей бумаги. Тогда я отправлялся на Почтамт и «затаривался» телеграфными бланками, которые там в свободном доступе. Хапнешь сколько-то штук, прогуляешься по улице, вернешься на Почтамт и еще сколько-то хапнешь. Глядишь, на сборник хватит. (Смеется). Ну а что делать?! И печатаешь на оборотной стороне, она у бланка чистая. С рекламными листовками вообще никаких проблем нет. Но первые экземпляры всегда на белой бумаге. Потому что… Знаете, как говорится, сегодня я есть, а завтра… Кто знает, сколько нам жизни отпущено. А в Публичной библиотеке будут храниться поэтические сборники, отпечатанные и на телеграфных бланках.
– Название сборнику дает автор?
– Если название дал автор, оно неприкасаемое. Но, если автор по каким-либо причинам названия не дал… Смотрите: в каждой книжке обязательно указывается: либо «Название сборника дано автором», либо: «Название сборника дано Б. Тайгиным».
– Во втором случае претензии были?
– Нет, такого не случалось. Авторы принимают предложенное мной название. У меня есть возможность спокойного выбора. Я, знакомясь со стихами, вникаю в авторский замысел цикла «от» и «до», понимаю, какой стих ключевой, беру либо его название, либо какую-то строчку и выношу на обложку.
– А составлением сборника кто занимается?
– Опять же, если этого не сделал автор, – я. Я обычно стараюсь соблюдать хронологическую последовательность. Могут быть и приписки типа: «У Николая Шалаева, в Новой Ладоге». Когда Горбовский отдыхает у Шалаева, он почти не употребляет это дело… (алкоголь. ВЖ.). В Новой Ладоге он работает, пишет.
– Извините, если вопрос вам покажется некорректным. Зачем Горбовскому издаваться в вашем издательстве «Бэ-Та», если его с удовольствием печатают толстые журналы? У нас в Петербурге – «Звезда», «Нева», еще – «Аврора». В Москве – «Знамя», «Наш современник»…
– В Москве значительно больше. Есть еще литературные газеты, где стихи печатаются если не полосами, то подборками. Благодаря таким публикациям стихи доходят до широкого круга читателей. Потому, что персональные книги выходят редко. Недавно прекрасно изданная «Окаянная головушка», как сказано в аннотации, книга – не итоговая, а этапная. В ней лучшее из лучшего. Не один год книга делалась. Спасибо Лидии Гладкой (жена Глеба Горбовского. ВЖ.) – без нее книги бы не было. Спасибо Лиде и за последний по времени сборник «Распутица» – в нем очень важные, близкие душе Глеба стихи, написанные, в основном, за последнее время. Сейчас она готовит собрание сочинений Горбовского. Я немножко ей в этом помогаю. Прежде всего, благодаря вот таким книжицам.
– Получается, что полное – на сегодняшний день – собрание сочинений Глеба Горбовского издано вами!
– С 59-го года. Скажем так, 90 % у меня. А до 59-го… Горбовский же начал писать еще в конце 40-х. Полное собрание, наверное, выпустить невозможно. Но благодаря очень большим усилиям, в основном, Лиды Гладкой… Она выискивает, выкапывает, извлекает, вспоминает и Глеба заставляет вспоминать! А потом уже Глеб решает: «Вот это – надо, это пусть будет, а вот это – точно не надо, надо забыть, выкинуть». Воля автора – священна! Это то главное, что в советское время никак не хотели понять редакторы и цензоры; они дико коверкали, уродовали все и вся, совершенно не считаясь с авторами. Сейчас восстанавливается точный авторский текст. Но, если стих почему-либо отвергнут автором, он просто не попадает в книгу, а уж если он попал в книгу, там до последней запятой – Глеб Горбовский и никто больше.
Никакого давления нет ни от редакторов, ни от цензоров. Их вообще, слава Богу, нет. В этом еще и историческая возможность полного собрания, которое готовится.
– Готовится к семидесятилетию Глеба Яковлевича?
– К 70-летию – не реально. Это работа не на один год. К 70-ле-тию стараемся, как только можем, чтобы хотя бы первый том вышел.
– Сколько томов предполагает ПСС?
– Предполагается – семь. Не исключено, что будет больше.
– Борис Иванович, вернемся к моему вопросу: зачем было издаваться Горбовскому в «Бэ-Те»? Понятно, когда при советской власти в официальных издательствах не все печаталось, тем более, как вы говорите, в авторской редакции…
– Это очень важно! В пику всем государственным искажателям мне удалось сохранить полные авторские тексты. Не знаю, насколько нужны были Глебу мои книжицы – они необходимы были, прежде всего, мне. Горбовского я не могу сравнивать ни с кем, понимаете? Надеюсь, что не только я так думаю, но и многие, кто понимает и ценит настоящую многогранную поэзию. Горбовский лаконичен. Размазанные на пяти страницах какие-то сюжетные баллады – вещи второсортные. Ничего подобного у Горбовского нет. Он умеет концентрированно, сжато и очень талантливо выразить мысль, то, что его беспокоит. Глеб и сам говорил: наиболее значимо для него умение написать стих, ограниченный тремя четверостишиями, ну, четырьмя. Исключительно редко, если уже что-то сложное хочется как-то многогранно художественно отобразить, тогда он пишет пятое четверостишье. Но не больше. Никакой воды! Вот здесь за все эти десятилетия вы не найдете в моих книжках стихотворения Глеба, которое переходило бы за пять четверостиший. В этом его особый талант.
– И тем не менее, почему вы издаете сейчас? Того же Горбовского, когда, пожалуйста, публикуй, что хочешь.
Я не стал Тайгину рассказывать, как Горбовский возмущался, когда ему предложили опубликовать стихи «за деньги», которых у него не было, да и если бы были…
– Ну, здесь есть разные моменты. То есть, моя прежняя любовь к его поэзии не претерпела изменений.
– Я понимаю.
– И, во-вторых, я имею полностью все, что автор пишет. Хотя не секрет, что какие-то моменты в стихах есть такие, которые не попадут, по крайней мере, ни сегодня, ни завтра, на страницы публикаций. А почему бы их не иметь человеку, который Горбовского собирает на 101 %, если так выразиться. Тут у меня все! Тут весь Горбовский! Какие-то вещи, он сам бракует. Напишет, потом перечеркнет. Ну, это уже не попадает никуда. «Это, – говорит, – Боря, не печатай, потому, что я отрекаюсь от этого стиха». Ну, отказался, значит, опять воля автора. Ну, как правило, с его точки зрения это – совершенно слабые, проходные стихи. Ну, иногда рождаются. Потом, прошло время – прочитал, пришел, что называется…
– …в ужас
– Да, и вычеркивает. Было такое неоднократно. В его черновиках это сохраняется, видимо… Я шесть лет ходил в кружок, который именовался литературное объединение «Нарвская застава», вел его поэт Игорь Михайлов. Там я постигал основы стихо-творения. Там я понял, что если это дано Богом, значит, дано. Если не дано, никакая школа не даст. В лучшем случае, научишься зарифмовывать мысли. Но это не будут стихи. Иной раз читаешь: стих вроде бы хороший, а поэзии в нем нет. У Глеба Горбовского девяносто девять и девять десятых – поэзия, во всех стихах. Если где-то не дотягивает, он сам говорит: «Это можно не печатать. Хочешь, Боря, оставь себе…». Или вообще вычеркивает. Листочки из блокнота вырывает, при том, что иногда на обратной стороне листа настоящая поэзия. В основном, у меня все есть.
– Борис Иванович, а кроме Горбовского, вы сейчас кого-то еще издаете?
– Последнее время… ну, вот так вот скажем… В 90-е кроме Горбовского я смог издать уже ушедшего из жизни Николая Рубцова. Первая его книга была мной напечатана еще в 62-м году.
– Благодаря которой Рубцов смог поступить…
– …в Литературный институт. Да. Это известная история – не будем на ней останавливаться. Впрочем… Было сделано только две закладки – шесть экземпляров. Пять установлено, у кого есть. Шестой экземпляр… так пока и не обнаружен. Все пять с автографом автора.
– Когда вы поняли, что Рубцов – большой поэт?
– Я могу точно сказать, когда впервые увидел Николая Рубцова. У меня сохранился пригласительный билет в Дом писателя на 24 января 62-го года, на Вечер молодых поэтов Ленинграда. Свои стихи там читали Валентин Горшков, Александр Кушнер, Виктор Соснора, Олег Тарутин, Николай Рубцов. Колю принимали на «ура», ему долго не давали сойти со сцены. А познакомились мы в мае на другом поэтическом вечере. Я пригласил Рубцова к себе домой, сказал, что у меня есть к нему предложение. Дома рассказал о своей идее записывать на магнитофон стихи в авторском исполнении. Дал послушать уже записанных поэтов. Моя идея Рубцову понравилась сразу, и он тут же прочитал, а я записал, десяток стихотворений. Также я показал ему несколько сборников, вышедших в издательстве «Бэ-Та» и предложил издаться и ему. Коля загорелся идеей. Но работа затянулась месяца на полтора, потому что к будущей своей первой книге он отнесся серьезно. Многие стихотворения мне приходилось перепечатывать не по одному разу – он постоянно что-то дорабатывал, исправлял. В сборник вошло 38 стихотворений. Название – «Волны и скалы» – Рубцов придумал сам. Объяснял так: волны – это жизнь, а скалы – препятствия, на которые в жизни постоянно натыкаешься. Мало кто знает, что Коля хорошо рисовал. Рисунок на обложке тоже его. Это – акварель, где волны синего цвета захлестывают траулер. Летом того же 1962 года Николай Рубцов отправился в Москву поступать в Литературный институт. Был принят и приехал в Питер за вещами. Когда мы встретились, он рассказывал: «На собеседовании я, чтобы не сбиться, читал стихи по нашей книжке. В приемной комиссии заинтересовались, что за книга у меня в руках. Я показал. Рассматривали и удивлялись: «Вот это да! Вот это «самиздат»!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?