Читать книгу "М.В. Лентовский"
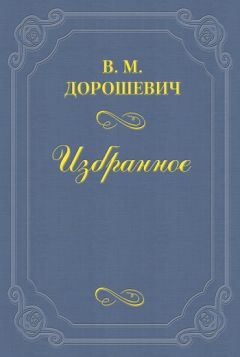
Автор книги: Влас Дорошевич
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
XV
Он не был из числа тех людей, про которых говорит Эдмунд в «Короле Лире»:[141]141
…говорит Эдмунд в «Короле Лире»: – Смешные люди! Они ищут причин своих несчастий на небе, в сочетаниях светил небесных! Везде! Кроме… самих себя! – Цитата из трагедии В. Шекспира «Король Лир» (1594), перевод П.И. Вейнберга.
[Закрыть]
– Смешные люди! Они ищут причин своих несчастий на небе, в сочетаниях светил небесных! Везде! Кроме… самих себя.
Строгий к окружающим, Лентовский был беспощадно суров к себе. Кто виноват во всем? Я. Один я! Я отвлекался от дела. Мои кутежи. Это убивает силы, убивает волю, это убивает энергию. И сейчас, когда нужны все силы, вся воля, вся энергия, чтобы выплыть, чтобы воскресить дело, чтобы воскресить всех, кто верит, кто надеется на меня, – я…
Он обратился к одному из своих друзей:
– Вы знакомы с Фельдманом[142]142
Фельдман Осип Ильич (1862—1912) – врач-психиатр, гипнотизер, собиратель автографов писателей, художников. Выступал как гипнотизер в саду «Эрмитаж» у Лентовсюго.
[Закрыть]? Привезите его ко мне. Пусть отрешит меня от питья…
Он не «пил». Во всем трагическом для русского человека смысле этого слова.
Далеко нет.
Но он любил вино. И знал в нем толк.
Когда тяжело было на душе, он искал поддержки силам в жидком золоте шампанского. Успокоения на дне стакана рейнвейна[143]143
Рейнвейн – марка шампанского.
[Закрыть]. Немного забвения от горькой действительности в красно-янтарном бенедиктине.[144]144
Бенедиктин – марка ликера.
[Закрыть]
В мрачные минуты портер трауром наполнял его стакан.
– Пусть «отрешит» меня от всего этого. Надо переродиться самому, чтобы возродить все!
Фельдман…
Вы знаете этого «Калиостро» [145]145
Калиостро (настоящее имя Джузеппе Бальзамо, 1743—1795) – известный авантюрист, разыгрывал из себя искусного мага и чародея, обладающего философским камнем и жизненным эликсиром, лечил больных, вызывал духов, преподавал магию, демонологию. В 1780 г. посетил Петербург. Здесь: проходимец.
[Закрыть]? Толстенького буржуйчика, старающегося изо всех сил походить «непременно на Мефистофеля»? Светящееся самодовольством хорошо торгующего человека лицо, – и темное пенсне на «гипнотизирующих глазах».
Словно это не глаза, а одиннадцатидюймовые орудия, и он предохраняет от их ужасного действия весь мир.
Страшные взгляды, которые требуют, чтобы на них надели намордник! Пусть потрясающая сила их ослабится дымчатыми стеклами! Пусть мир бодрствует. Г-н Фельдман не хочет, чтобы весь мир спал! Чтобы весь мир подчинялся его воле! Чтобы весь мир думал, делал то, что он, Фельдман, ему прикажет!
Он заканчивает свои письма:
– Посылаю вам мое доброе внушение!
Г-н Фельдман, конечно обеими руками схватился за такого пациента:
– Сам Лентовский!
Он прискакал с толстейшим альбомом автографов под мышкой.
Со знаменитым альбомом автографов, в котором знаменитый черниговский губернатор-усмиритель Анастасьев[146]146
…знаменитый черниговский губернатор-усмиритель Анастасьев… – Анастасьев Александр Константинович (1837—1900) – был черниговским губернатором в 80-е годы, позже стал членом Государственного Совета.
[Закрыть] вписал знаменитое изречение:
– «Стремясь объяснить необъяснимое, впадает в нелепость».
Г-н Фельдман первым долгом разложил альбом:
– Вот… Знаете, что… прежде всего – автограф… «Михаил Валентинович»? Так? Непременно автограф! Знаете, что… Все… Генерал Буланже[147]147
Буланже Жорж Эрнест Жан Мария (1837—1891) – французский генерал, политический авантюрист, был военным министром в 1886—1887 гг., стремясь к установлению военной диктатуры, возглавил шовинистическое течение, получившее наименование буланжизма. Дорошевич писал о нем в фельетоне «Буланже» («Русское слово», 1907, 18 сентября, No 213).
[Закрыть], Лев Николаевич Толстой, Поль Дерулед[148]148
Дерулед Поль (1846—1914) – французский политический деятель, литератор, лидер шовинистической «Лиги патриотов», один из главных пропагандистов буланжизма, активный участник антисемитской кампании в период процесса Дрейфуса.
[Закрыть], генерал Драгомиров[149]149
Драгомиров Михаил Иванович (1830—1905) – русский военный деятель, теоретик и педагог, генерал от инфантерии.
[Закрыть]… Непременно… знаете, что… автограф.
Лентовский написал своим широким, размашистым, безудержным, как он сам, почерком.
И они удалились к окну.
Два профиля на свете окна.
Красивое, умное, тонкое лицо Лентовского. Голова Фидиева Зевса.
И «Мефистофель с надутыми щеками».
Г-н Фельдман делал самые страшные из своих глаз.
Снимал даже пенсне и таращил глаза, как рак.
Лентовский смотрел ему в зрачки, и, казалось, улыбка шевелится под седеющими усами.
– Вы спите?
Лентовский улыбнулся:
– Нет!
Фельдман брал его за руку, придвигал свое лицо ближе, смотрел еще страшнее.
– Спите! Я вам приказываю! Слышите? Спите!
И, нагнувшись в нашу сторону, конфиденциально, шепотом сообщал:
– Он спит!
Лентовский улыбался и громко отвечал:
– Нет! Прошел час.
Г-н Фельдман встал:
– Я устал!
Протер пенсне, вытер платком лицо:
– Знаете, что… Я никогда не встречал такой воли… он не поддается внушению… знаете, что… невозможно!. Невозможно, я говорю, его загипнотизировать…
– Что же делать?
– Можно внушить… знаете, что… под хлороформом. Это было опасно.
Лентовский объявил:
– Согласен…
Для внушения нужно было, по словам г. Фельдмана, уловить момент бурного состояния, в которое впадает захлороформированный.
Доктор Н.В. Васильев, старый друг, тот самый, который пришел на последний вздох умирающего Лентовского, только головой покачал:
– С ума сошли! Сколько же хлороформа потребуется! Разве, господа, можно?
Лентовский был непреклонен.
– Рискую! Все равно!
– Чего там рискуете! Черт знает, какой риск!
– Все равно. Я должен стать другим! Я должен!
Это была одна из самых тяжелых операций, какую можно себе представить.
Лентовского положили на диван посереди комнаты.
Около стояли «верные капельдинеры», Иван и Матвей, чтобы держать.
Доктора. Взволнованный г. Васильев.
Г-н Фельдман осведомлялся потихоньку:
– Он очень силен?
– Страшно.
– Его не удержать… Знаете, что… его не удержать…
И притащил из кухни какого-то насмерть перепуганного мальчишку.
– Знаешь, что… держи! Пусть все держат!
Хлороформу выписали, действительно, целую уйму. Лентовский с трудом поддавался хлороформу.
Воздух комнаты был напоен этим сладким, удушающим запахом. У всех кружилась голова. Хлороформ лили, лили…
Лицо Лентовского стало багровым. Посинело. Почернело. Жилы надулись как веревки. Он забился, заметался. Запел. Начал что-то бормотать.
– Держите! Держите! – кричал г. Фельдман.
Иван, здоровенный Матвей «налегли».
С трудом боролись с богатырем Лентовским. Доктор, державший пульс, твердил:
– Скорее!.. Скорее, господа!.. Скорее!
А г. Фельдман метался по комнате за перепуганным мальчишкой.
– Держи!.. Держи за ногу!.. Держи!..
Сам не свой, мальчишка с ужасом прикасался к ноге. Тревога дошла до последней точки.
– Да что же вы? – крикнули Фельдману. – Начинайте же, черт возьми!
– Держите его!.. Вы слышите меня? Вы слышите, Михаил Валентинович? Не пейте водки! Слышите? Я запрещаю вам! Я приказываю вам не пить водки! Вы будете слушаться? Водки не пейте! Водки!
– Да он в жизнь свою водки никогда не пил! – схватился за голову кто-то из присутствующих, подтащив г. Фельдмана силой к Лентовскому. – Да внушайте же ему!
– Да что же он пьет?
– Шампанское!
– Шампанского не пейте! Слышите? Шампанского не смейте пить! Я приказываю вам не пить шампан… Держите его!
– Рейнвейна!
– Рейнвейна не пейте! Рейнвейна! – повторял бедный перепуганный Фельдман.
– Портеру! – подсказывали ему.
– Портеру!
– Монахорума!
– Чего?
– Ах, Боже мой! Бенедиктина! Ликеру!
– А! Ликеру! Ликеру не пейте! Бенедиктина! Вы слышите?
– Красного вина!
– Красного вина!
– Коньяку!
– Коньяку! – как эхо повторял прейскурант Фельдман. – Все это пахнет керосином. Керосином! Слышите? Керосином!.. Кончено. Теперь, знаете что, кончено…
Когда на следующий день друзья приехали навестить Лентовского, – его застали в ужасном состоянии.
В один день его перевернуло.
У него разлилась желчь.
Он не мог двинуться.
Он лежал желтый, исхудалый в одни сутки, больной, слабый, почти без сознания.
Доктор Васильев ходил мрачный:
– Только Михайло Валентиныч и может такие пертурбации выдерживать!
Друзья хватались за голову:
– Да ну его к черту и дело! Стоит ли дело того, чтобы с собой такие опыты устраивать?!
Результат?
Когда недели через две, несколько оправившись, Лентовский, слабый как тень, вышел в столовую во время обеда, он поморщился:
– Отчего это так керосином пахнет?
Взял бутылку, понюхал и обратился к сестре Анне Валентиновне:[150]150
…к сестре Анне Валентиновне… – Лентовская (сценическое имя Рюбан) Анна Валентиновна, драматическая и опереточная актриса, в 1882—1883 гг. была в труппе Малого театра, в 1883 г. – в театре «Скоморох», затем выступала на сценах различных московских театров.
[Закрыть]
– Что это такое? Надо сказать! Там, в кухне, – руки в керосине, а они откупоривают вино! Вся бутылка в керосине! Я удивляюсь вам, господа! – обратился он к актеру Л. и другим обедавшим близким лицам. – Как вы можете пить? Вино пахнет керосином! А вы пьете!
Принесли другую бутылку. Лентовский понюхал:
– И эта с керосином! Все вино у вас керосином пахнет!
Рассердился и ушел.
Все молча переглянулись с торжеством.
Лицо бедной Анны Валентиновны, в те дни не знавшей ничего, кроме страданья, осветилось радостью.
– Все-таки! Удалось! Помогло!
Через месяц…
Слушая об интригах, гадостях, которые делались, чтобы «добить Лентовского», «упечь его в долговое», захватить «золотое дело», – Лентовский говорил с отчаянием, ероша свои седеющие кудри:
– А! Тяжело все это! Тяжело! Кто делает? Те, кто от этого же дела жить пошли! Тяжело! Гадко! Противно! Лучше не думать!.. Матвей! Посмотри, не осталось ли там у нас рейнвейна? Принеси.
Зато… Лентовский был настоящий москвич. Не говорил:
– Иванов, Сидоров, Карпов.
А «Иван Иванович Иванов», «Петр Николаевич Сидоров», «Николай Васильевич Карпов».
В адресах упоминал непременно и приход:
– На Спасской… это в приходе Спаса во Спасском!
Это была живая летопись, хронология, адрес-календарь Москвы.
Его память на события, имена, числа была изумительна, чудовищна.
После «операции» с гипнозом он забывал имена людей, с которыми приходилось встречаться каждый день.
Той энергии, той силы воли, из которых сложилась легенда «Лентовский», не было и в помине.
– Знаете, словно что-то у меня отняли! – с изумлением говорил он. – Себя не узнаю.
Словом:
– Хотели обстричь ногти, а отрезали руку.
«Уметь гипнотизировать»! Да ведь это только уметь держать в руке ножик!
Ведь с такими «познаниями» руки, например, не отнимают.
Как же совершать «операцию» в такой неизвестной, таинственной для нас области, как воля, энергия, характер.
Хотят отнять дурную привычку, а отнимают волю, калечат характер, делают смертельный надрез на энергии!
И решимость:
– Рискнуть жизнью для своего дела!
была для бедного М.В. Лентовского тяжелым и напрасным риском.
XVI
Напрасно в себе искал Алкивиад Москвы «причину перемены».
– Рыба-то осталась та же, – воду переменили!
Он-то был тот же. Кругом все изменилось.
Не та Москва была кругом.
Та, – старая, беспутная, но милая, широкая и вольнолюбивая, свободолюбивая, – Москва ушла, спряталась.
Настал пятнадцатилетний «ледяной период» истории Москвы. Период аракчеевщины.[151]151
Аракчеевщина – собирательное понятие режима полицейского деспотизма. От имени A.A. Аракчеева (1769—1834) – министра-временщика в царствование Александра II.
[Закрыть]
Когда сам Фамусов ушел бы из такой Москвы. Когда сам Скалозуб нашел бы, что «фельдфебеля в Вольтерах» уж слишком запахли «хожалыми».[152]152
…Скалозуб нашел бы что «фельдфебеля в Вольтерах» слишком уж запахли «хожалыми»… – «Фельдфебеля в Вольтеры дам!» – слова Скалозуба из комедии A.C. Грибоедова «Горе от ума».. Вольтер (настоящее имя Мари Франсуа Аруэ, 1694—1778) – французский писатель и философ. «Хожалые» – городовые, служители при полиции.
[Закрыть]
Пришли новые люди на Москву, чужие люди. Ломать стали Москву. По-своему переиначивать начали нашу старуху.
Участком запахло.
Участком там, где пахло романтизмом.
И только в глубине ушедшей в себя, съежившейся Москвы накопилось, кипело, неслышно бурлило недовольство.
Кипело, чтобы вырваться потом в бешеных демонстрациях, в банкетах и митингах, полных непримиримой ненависти, в безумии баррикад.[153]153
Кипело, чтобы вырваться потом в бешеных демонстрациях… митингах, полных непримиримой ненависти, в безумии баррикад. – Имеются в виду события революции 1905—1907 гг.
[Закрыть]
Барственный период «старой Москвы» кончился.
Ее «правитель, добрый и веселый» кн В.А. Долгоруков, мечтавший:
– Так и умереть на своем месте! Как «хорошему москвичу» подобает.
С отпеваньем в генерал-губернаторской церкви. С похоронами через всю Москву. С литией[154]154
С литией – отпеванием вне храма.
[Закрыть] против университета. С чудовскими певчими[155]155
С чудовскими певчими – певчими из Чудова (Алексеевского Архангело-Михайловского) монастыря в Московском Кремле.
[Закрыть]. С погребением в монастыре: в Донском, в Ново-Девичьем.
«Хозяин Москвы» однажды и вдруг узнал, что:
– Его больше нет![156]156
«Хозяин Москвы» однажды и вдруг узнал, что его больше нет. – У В.А. Долгорукова были напряженные отношения с царской семьей. Он не упускал случая дать почувствовать царствующему дому, что происходит из древнего рода. Двор с трудом терпел его «чудачества». Его сначала лишили ряда привилегий, а затем вынудили подать в отставку, спустя четыре месяца после которой он умер. Генерал-губернатором Москвы стал великий князь Сергей Александрович.
[Закрыть]
Старик так растерялся, что заплакал, и только спросил:
– А часовых… часовых около моего дома оставят? Неужели тоже уберут… и часовых?!.
Это он-то!
Он, который говорил:
– Если бы меня посадили в острог, – первый дом в Москве был бы, разумеется, острог!
И поехал старик, вдруг потерявший всякий смысл существования, умирать куда-то в Ниццу, под горячее, но чужое солнце, под синие, но чужие небеса.
И думал, быть может, в предсмертной думе о «своей» Москве:
– Ведь год, быть может, осталось бы и так подождать. Не больше!..
У нас, в Москве, в таких случаях говорят: «Над нами не каплет». И не торопятся.
Мне рассказывал о его смерти один из его друзей. И плакал:
– Ведь там-с, батюшка, соломки, небось, перед домом даже не постелили! Соломки!
И рыдал.
– Москвичу-то! Господи! Москвичу! Без соломы перед домом помереть!
И призрак старого Николая Ильича Огарева, в старомодных санях с высокой спиной, на паре старых гнедых, уехал из Москвы.
Появился на смену Власовский.[157]157
Появился на смену Власовский. Тот, ходынский, г-н Власовский. – Власовский Александр Александрович (1842—1899) – полковник, исполнял обязанности московского полицмейстера с 1891 по 1896 гг. Был одержимым службистом и сумел реорганизовать полицию, преодолев царившие в ней патриархальные порядки. Вместе с тем отличался мелочной придирчивостью, казенным отношением к людям, за что был нелюбим в Москве. Петербург терпел его только из-за покровительства генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Но после катастрофы 18 мая 1896 г., когда на Ходынском поле в давке погибли сотни людей, собравшихся на раздачу подарков по случаю коронации Николая II, Власовского сделали козлом отпущения и уволили в отставку. Дорошевич писал о нем в фельетоне «Московская полиция» («Русское слово», 1909, 8 марта, No 55).
[Закрыть]
Тот, ходынский господин Власовский…
Он был раньше полицеймейстером в Варшаве.
Его кучер хотел обогнать экипаж графа Потоцкого и повелительно крикнул, – полицеймейстерский кучер в покоренном городе!
– Свороти!
Но кучер графа Потоцкого ехал как следует, по правилам, и не свернул.
– Обгони!
Кучер Власовского обогнал и хлестнул лошадей графа.
Лошади кинулись в сторону. Понесли. Едва не кончилось несчастьем.
Граф Потоцкий[158]158
Граф Потоцкий – возможно, имеется в виду Альфред Потоцкий (1817—1889), австрийский государственный деятель, в 1875—1883 гг. наместник Галиции.
[Закрыть] отправился к варшавскому генерал-губернатору:
– Я считаю, что это мне нанесено оскорбление!
«Летигиум пильновать» с графом Потоцким не совсем удобно[159]159
«Летигиум пильновать»… не совсем удобно. – «Летигиум пильновать» – цитата из трагедии А.К. Толстого «Царь Борис», в которой литовский посол князь Сапега говорит, обращаясь к Борису Годунову: «…И твоему величеству не нужно // Литигиум тот старый пильновать». Литигиум (лат. litigium) – ссора, размолвка. Пильновать (польск. pilnowac) – соблюдать, придерживаться. Здесь: предпочесть размолвку.
[Закрыть]. Знать из знати. Пойдут толки:
– Самого Потоцкого оскорбил!
Генерал-губернатор немедленно потребовал к себе Власовского:
– Да вы с ума сошли?!. Да вы знаете, кто такой Потоцкий?!. Что такое Потоцкий?!. Вы хотите восстановить против нас всю польскую знать?! Чтобы до Петербурга дошло?!. Чтобы нам за «бестактность» нагоняй получить?!. Немедленно поезжайте к Потоцкому с извинением! В полной парадной форме!
Власовский явился. Потоцкий принял очень любезно.
– Я приехал извиниться. Мой кучер…
– О, Боже мой! Такие пустяки! Стоит говорить! Пожалуйста, садитесь. Но Власовскому, – в особенности если приняли любезно, – надо же «свое достоинство поддержать».
– Хотя, собственно, я хотел вам сказать, граф…
– Пожалуйста. Говорите.
– Я своего кучера не виню. Ваша прислуга очень недисциплинирована.
– Вы думаете?
Граф Потоцкий позвонил.
– Да! Очень, очень недисциплинирована.
На пороге выросли два «гайдука».[160]160
Гайдук – выездной лакей.
[Закрыть]
– Нет! Моя прислуга очень послушна и дисциплинирована. Я вам это сейчас – покажу.
И граф Потоцкий приказал:
– Выведите этого господина!
Взяли под руки и вывели. Власовский к генерал-губернатору.
Но от генерал-губернатора он услышал такие слова:
– Вас извиняться послали! А вы…
Потом он был полицеймейстером в Риге. И «русифицировал город».
Приехав в Москву, он явился в театр Парадиза и увидал на дверях партера, рядом с русскими, надпись по-немецки..
– Что это?!. Театр закрою! Зачем тут немецкие надписи?!. Снять!
Он хотел «русифицировать Москву»…
Москва стала на себя не похожа. «Прежней Москвы» не было.
Застучали топоры по развесистым старым тополям и липам «Эрмитажа». Со стоном рушились кудрявые «старожилы», видевшие так много веселья, так много блеска, так много чудес.
Роскошный «Эрмитаж» распланировывался под будничные улицы, под мещанские дома.
И не одни деревья «Эрмитажа» рушились. Рушилась вся старая Москва.
Один, больной, совсем седой, осунувшийся, с опухшими ногами, сидел у себя Лентовский.
И никто ему не помог.
И некому было уж помочь.
И он, казалось, умирал.
И он, казалось:
– Уж умер.
XVII
Как вдруг слух прошел по всей Москве:
– Слышали? Лентовский! Опять!
– Да и «Эрмитажа» нет!
– Новый создает!
– Маг!
– Волшебник!
На углу Садовой и Тверской, у Старых Триумфальных ворот, было пустопорожнее, залитое асфальтом, место, на котором только что прогорела электрическая выставка.
Хотели уж устроить на нем дровяной двор.
Как вдруг Лентовский объявил:
– Зачем дровяной двор? Тут можно устроить великолепный сад!
– На асфальте?
– А что ж!
Нужна была действительно творческая фантазия, чтоб видеть на этом голом месте великолепный сад.
Прежде чем создать сад, надо было создать под ним землю!
И закипела работа.
Ломали асфальт, выламывали под ним кирпич, рыли колоссальные ямы. Возили откуда-то земли. Привозили из окрестностей Москвы и сажали с корнями выкорчеванные столетние деревья.
И через каких-нибудь две недели асфальтовая площадь превратилась в «старый» тенистый сад, полный аромата.
Шумели развесистые вековые деревья, и огромными пестрыми благоухающими коврами раскинулись под ними грандиозные клумбы цветов.
Длинный безобразный каменный сарай превратился в изящный нарядный театр.
Вырвавшись на свободу, фантазия Лентовского не знала удержу.
– Зеркало во всю стену!.. Это для публики, заплатившей только за вход. Не стоять же ей на ногах! Для нее сзади платных мест будет великолепный бархатный пуф, кресла. Она будет слушать оперу, рассевшись как ей угодно. Слегка наклоненное зеркало будет отражать сцену. Не стоять же на цыпочках, смотреть через голову! Она будет видеть сцену в зеркале.
Репетиция освещения вызвала гром аплодисментов среди артистов.
Никогда ничего подобного не было видано ни в одном русском театре.
Сцена представляла пейзаж.
И Лентовский разыграл на нем всю симфонию смены света и теней, дал всю поэзию суток.
Лунная ночь, предрассветные сумерки, вся гамма рождающегося, разгорающегося, торжествующего рассвета, знойный день и все золото, весь пурпур, умирающий свет и блеск заката и безлунная, только дрожащим сиянием звезд и трепетом далеких зарниц освещенная ночь.
Перед нами снова был «маг и волшебник».
На его клич снова слетелись и окружили его художники. Талантливая молодежь, – среди них выдвинувшийся тогда г. Бауэр.
Все старые помощники Лентовского были на своих местах, вокруг «мага и волшебника». Все воскресло духом.
Готовилось к генеральному сражению. Было уверено в победе. Это был:
– Прежний Лентовский.
Только уже не с шапкой черных кудрей, не в фантастической куртке, не в английском шлеме.
Красавец-старик.
С серебряными кудрями.
В белой шелковой поддевке, грязной от черной работы.
Он был везде, создавал все.
И все было полно им. Все носило отпечаток его вкуса. Все было оригинально, красиво, изящно, – каждая постройка в выросшем как по волшебству саду.
И все это в несколько недель.
– По-американски! – говорили в Москве.
И Лентовский назвал свой сад:
– «Ч_и_к_а_г_о».
В Москве рассказывали про «чудеса, которые наделал Лентовский». Все с нетерпением ждали открытия. А открытие откладывалось со дня на день. Со дня на день…
И вот однажды Лентовский вошел в номер своего приятеля и упал, – прямо упал, – в кресло.
Не сказал даже «здравствуйте». Закрыл только глаза рукой.
– Кончено! Все кончено!
– Что случилось?
– Меня добили!
Таким его не приходилось видеть никогда. Он сидел убитый, опустив свою могучую голову, с бледным, искаженным лицом, не похожий на себя.
– Господин Власовский… добился… добил… У него вопрос самолюбия… «Показать себя»… Показать на старом москвиче… «Не прежнее, мол, вам время-с».
Это было лозунгом, девизом всего «ледяного периода» истории Москвы.
– Показать ей!
Показать на старых москвичах.
– Это вам не прежнее время.
Пред «новичком» Власовским встала старая «московская легенда» Лентовский.
– Я вам покажу легенду!
Скрутить Лентовского, чтобы «показать Москве»:
– Вот что такое для нас эти ваши «московские легенды». Тьфу!
Лентовский был первым, пробным камнем.
– Я все терпел! – не говорил, а стонал Лентовский. – заносчивость, нарочное вызывание на дерзости… Я дал бы урок! Я показал бы, что в Москве так не принято разговаривать! Что мы, москвичи, к этому не привыкли! И он вызывал меня на это!.. Но за мной дело, за моей спиной сотни людей, доверившихся мне… Я все делал, чтобы сдержаться… Я все терпел… «Ты ждешь от меня скандала, чтобы прикончить со мной? Не дождешься!» Я молчал, – он день ото дня становился наглее. Терпел… Всевозможные придирки. Это перестрой, – перестраивал. Это переделай, – переделывал… Еще комиссия осмотрит, – ждал. Сам приеду посмотреть, – ожидал. Такой залог внеси, такой, такой, – по всем швам трещал, доставал, вносил. Наконец объявил: «Теперь я все сделал, все внес, что мог. Больше ни сделать, ни внести не могу». Этого ему только и нужно было. «Сад открыть разрешить не могу! Потрудитесь внести еще залог в пять тысяч!» – «Какой залог? Я внес все, что вы требовали!» – «Мало. Мне нужна гарантия». – «Но если мне верят те, кто служит! Спросите их: верят ли они Лентовскому». – «Извините! Это их дело! Мне это ничего не говорит! Что такое Лентовский? Я знаю, что есть несостоятельный должник Лентовский, который не имеет права вести никакого дела. И я не понимаю, почему вы меня утруждаете своими разговорами. Директор сада г. Леонидов. Я его не знаю. Пусть внесет мне еще 5 тысяч залога. Иначе открыть не разрешаю». – «Но ведь у меня целая оперная труппа, хор, оркестр, служащие. Ведь им платить надо! Ведь это тысячи каждый день! Ведь каждый день отсрочки губит, губит дело! Ведь вы режете меня и всех». – «Повторяю, я вас не знаю и не желаю знать!..» Хотел было я… Чтобы сказали, что Лентовский дикий человек, что Лентовский скандалист, что Лентовский сам виноват?!
– Послушайте, неужели нельзя достать пяти тысяч?
– Неужели вы думаете, что если бы была какая-нибудь возможность, я сказал бы: «все кончено»? Я стал бы плакать? Я почти плачу.
– Надо подумать…
– О чем? Все передумано. Все, что можно было сделать, сделано. Пяти тысяч достать я не могу. Что будет теперь с теми, кого я сорвал с места, кто вверился мне, кто теперь останется без куска хлеба, – я не знаю. Я не знаю даже и того, что будет со мной!
И с этими словами он ушел.
Случайно, в тот же день, приятель Лентовского встретился на Тверской с В., покойным теперь, очень богатым человеком, коммерсантом, удалившимся на старости лет от дел.
Разговор, между прочим, коснулся, конечно, и московской «злобы дня».
– Говорят, Лентовский что-то там нагородил! Сад какой-то! Ну, какой можно сад развести в две недели на голом месте. Чудак!
– Вышло хорошо!
– На асфальте-то?
– Хотите? Тут два шага. Зайдем, посмотрим.
– Пожалуй. Любопытно.
В. только ахнул:
– Если б своими глазами не видел, – отцу родному не поверил бы. Истинно – маг!
– И представьте! Этот сад открыт не будет!
– Почему?
Приятель Лентовского рассказал г-ну В. все, что слышал утром. В это время В. заметил в одной из аллей Лентовского.
– Батюшки! Какой убитый!
– Будешь!
– Познакомьте меня с ним.
Лентовский, печальный, рассеянно познакомился с В.
– Михаил Валентинович, у меня к вам просьба. Не откажите!
– Чем могу?
– Очень прошу вас пожаловать ко мне вот с ними, – он указал на общего знакомого, – сегодня на дачу обедать.
– Благодарю. Не до того мне, признаться…
– Очень прошу. Дело у меня к вам есть. Пожалуйста!
С трудом удалось потом уговорить Лентовского поехать.
– Не до обедов мне!
После обеда В. пригласил Лентовского и его приятеля в кабинет:
– Дельце у меня к вам есть.
Уселись за письменным столом.
– Говорили вот они мне, что вам затруднения причинили. Пять тысяч требуют.
– Да!
В. открыл стол, достал пять пачек радужных бумажек.
– Пересчитайте, Михаил Валентинович!
Лентовский сидел, как пораженный громом.
– Позвольте… Мы сегодня только познакомились…
В. рассмеялся добродушным, московским, смешком:
– Вы-то сегодня меня в первый раз узнали. Да я-то вас давно знаю. Москвич! Кто же в Москве не знает Михаила Валентиновича?
– Благодарю вас… Но все это так странно… Позвольте, я хоть вексель…
– Вексель?
В. рассмеялся еще веселей.
– Я человек коммерческий. Нешто несостоятельным должникам можно векселя писать? Что вы, Михаил Валентинович?! Слыханое ли дело!
– Позвольте… хоть записку какую-нибудь…
– Зачем?
– Да как же так? Как же вы мне даете?
– А слово? Ничего не значит? Под слово Лентовского даю. Чай, человек известный. Вы для нас, мы для вас, – так оно и идет. Пересчитайте, Михаил Валентинович!
Не помня себя, вышел Лентовский с приятелем.
– Слушайте! Это не сон? Не в пяти тысячах дело. Мне давали взаймы на дело и по пятидесяти! Но когда?.. Теперь, несостоятельному, в первый раз вижу человека… «Под слово Лентовского даю». Послушайте! Слова эти! Я землю под собой чувствую. Землю! Снова землю! «Вы нам, мы вам, – так и идет». Москвой пахнуло, старой Москвой! Земля под ногами! Земля! Бодрость он в меня влил!
И они пешком шли из Петровского парка.
– Землю под ногами чувствую! Землю! – весело говорил Лентовский, весело постукивая на ходу сапогами с высокими каблуками.
И сколько проектов родилось в красивой голове Лентовского в этот теплый летний вечер, этой дорогой из Петровского парка. Сезон оперы летом.
Зимой – за народный театр! Поставить то! Устроить так! На следующее лето – сад, другой – для народа. Это был человек увлекавший и увлекавшийся.









































