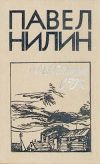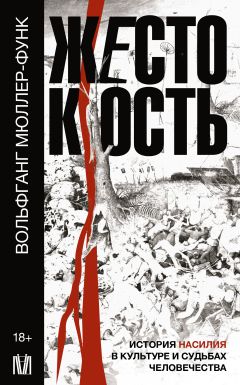
Автор книги: Вольфганг Мюллер-Функ
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
VIII. Историко-культурный и историко-литературный подходы
Жестокость – сложное и многогранное явление. Она принимает различные формы и по-разному проявляется в истории, начиная с первых цивилизаций, затем в европейском и, возможно, арабо-османском обществах в Средние века вплоть до современности. В разных книгах и антологиях по истории культуры и мысли приводятся различные наборы текстов. Полиморфизм crudelitas[72]72
Жестокость (лат.). – Прим. пер.
[Закрыть] отражается и в исследовательской литературе, где жестокость в целом характеризуется как специфическая потенцированная форма насилия.
Исследование профессора Джоди Эндер – возьмем в качестве примера одну из работ – посвящено жестокости в Средние века. Автор рассматривает пытки и истязания как наследие античности. Подобные формы систематического травмирования и зачастую произвольных расправ практикуются в рамках законного стремления к познанию истины, заложенного в классической риторике как вид испытания и наказания, осуществляемого более сильным над более слабым и предполагающего зрелище и удовольствие зрителей[73]73
Jody Enders, The Medieval Theater of Cruelty. Rhetoric, Memory, Violence, New York, 1999. – S. 3: «Европейское Средневековье восприняло классическую риторическую традицию, в которой пытка рассматривалась как герменевтический законный способ поиска истины, способ доказательства, форма наказания, применяемая более сильными к более слабым, как жанр зрелища или развлечение».
[Закрыть]. Этот дискурсивный режим, как и все остальные, порождает форму оправдывающей его культурной самоочевидности.
В работе американской писательницы и профессора эстетики Элейн Скарри, которая посвящена Средним векам и опирается, в частности, на труды Алека Меллора, Генри Ли, Эдварда Питерса, Пьеро Фиорелли, Пейджа Дюбуа, Кеннета Берка, Жака Деррида, Жиля Делеза и Феликса Гваттари, также рассматривается преимущественно физическая боль[74]74
Elaine Scarry, Body in Pain. The Making and Unmaking of the World, Oxford, 1985.
[Закрыть]. Центральный тезис исследования заключается в том, что организованное насилие создает фантастическую иллюзию власти. С точки зрения Скарри, публичные пытки до начала Нового времени, то есть до возникновения современной системы надзора, описанной Мишелем Фуко, представляли собой гротескный пример компенсаторной драмы[75]75
Scarry, Body in Pain. – S. 7, 21.
[Закрыть]. Последняя выполняла функцию риторической схемы, запускающей механизм катарсиса[76]76
Scarry, Body in Pain. – S. 8, 235.
[Закрыть].
Теоретическое исследование о жестокости французского философа Клемана Россе, в котором обсуждаются тексты Марселя Пруста и Эрнесто Сабато, философские концепции Лукреция, Эпикура, Монтеня, Паскаля и Леопарди, бесспорно, находится в тени Фридриха Ницше и маркиза де Сада. Россе, в частности, утверждает, что теория должна быть непримиримой по отношению к своему создателю[77]77
Clement Rosset, Joyful Cruelty. Toward a Philosophy of the Real, Oxford, 1993. – S. 70: «Я хочу быть резким и сухим и ничего не украшать. Теория должна быть безжалостной и оборачиваться против своего создателя, если тот не относится жестоко к самому себе». Ср.: Деррида Ж. Письмо и различие / пер. с фр. А. Гараджи, С. Фокина, В. Лапицкого. – СПб: Академический проект, 2000. – С. 293–316.
[Закрыть]. Тем самым значение жестокости смещается в сторону невозмутимости и ясности, как и у Жака Деррида в его интерпретации театра жестокости Антонена Арто. Арто призывает нас «понимать под словом „жестокость“ лишь „строгость, неумолимое решение и претворение“, „необратимую решимость“, „детерминизм“, „подчинение необходимости“ и т. п. – вовсе не обязательно „садизм“, „ужас“, „кровопролитие“, „распятие врага“»[78]78
Деррида Ж. Письмо и различие. – С. 302.
[Закрыть].
Клеман Россе представляет реальное как бессмысленное и сущностно связанное с молчанием. Его этика построена на двух принципах – карающей реальности и неопределенности. Жестокость в его глазах не является чем-то исключительным: французский мыслитель видит в ней динамичную, болезненную и трагическую природу самой реальности – грубой, то есть сырой, кровавой и отталкивающей[79]79
Rosset, Joyful Cruelty. – S. 76.
[Закрыть]. В ней заключено жестокое и действенное наказание для человека: подобно смертному приговору, который совпадает с исполнением и лишает осужденного времени, необходимого, чтобы он мог попросить пощады, реальность игнорирует и пресекает любую просьбу о помиловании[80]80
Rosset, Joyful Cruelty. – S. 76 f.
[Закрыть].
В своем исследовании, посвященном жестокости в современной литературе, профессор литературы Кэтрин Тоал разрабатывает идеи Россе и Арто[81]81
Catherine Toal, The Entrapments of Form. Cruelty and Modern Literature, New York, 2006.
[Закрыть]. Важность ее работы состоит, среди прочего, в том, что она вводит в контекст своих размышлений и разбирает взгляды античных философов, таких как Сенека, Цицерон или Аристотель, и средневековых теологов, в частности Фомы Аквинского. Вместе с тем Тоал ссылается на фундаментальные работы Джудит Шклар[82]82
Judith Shklar, Ordinary Voices, Cambridge/Mass 1984. Judith Shklar, Punishing Cruelty. Cruelty and Mercy. Criminal War und Philosophy (2004), Harvard Public Law Working paper 08–04. – S. 7–18.
[Закрыть].
В фиксированный литературный корпус этого дискурса входят: «Левиафан» (1651) Томаса Гоббса, «Трактат о терпимости» (1713) Вольтера, «Опыт о достоинстве и добродетели» (1699) Шефтсбери, «О пенитенциарной системе в Соединенных Штатах и ее применении во Франции» (1833) Алексиса де Токвиля и Гюстава де Бомона, «Философия в будуаре» (1745) и «Жюльетта» (1797) маркиза де Сада, «Бенито Серено» (1855) Германа Мелвилла, «Поворот винта» (1898) Генри Джеймса, «Песни Мальдорора» (1869) Лотреамона, а также сочинения Эдгара Алана По и Шарля Бодлера. В центре внимания этого и других исследований – эстетическая трансформация жестокого в литературе.
Наконец, следует упомянуть эссе современных теоретиков Ивана Каллуса и Стефана Хербрехтера[83]83
Ivan Callus, Stefan Herbrechter, Humanism without Itself. Robert Musil, Giorgio Agamben and Posthumanism, in: Andy Mousley (Hg.), Towards a New Literary Humanism, London, 2011. – S. 143– 58.
[Закрыть], вошедшее в коллективный труд под редакцией Энди Моуслея, который, в свою очередь, выступает против эстетизации жестокости и призывает к новому литературному гуманизму[84]84
Andy Mousley (Hg.), Towards a New Literary Humanism, London, 2011. – S. 1–19.
[Закрыть].
Выделяя эти работы из огромного числа публикаций, не всегда относящихся к строго определенной теме, и перечисляя их, мы имеем в виду исключительно прагматические, а отнюдь не полемические цели. В задачи нашего исследования не входит подробное и систематическое рассмотрение этических и эстетических проблем, связанных с репрезентацией чрезмерного и постановочного насилия в том виде, в каком они представлены в литературоведении. Иными словами, мы не касаемся вопроса о том, следует ли и как именно оценивать литературную или кинематографическую репрезентации насилия: в смысле катарсического воздействия или как выражение сочувствия жертве; или как непременное удвоение насилия; или же как изысканное представление, использующее разрушительный литературный вымысел, чтобы показать обратную сторону мира, где, по идее, насилие не одобряется, хотя, очевидно, все еще практикуется.
Если мы обсуждаем литературные произведения, то делаем это с точки зрения философии и теории культуры, чтобы раскрыть их значение для эссеистической, движущейся по кругу мысли, которая ищет пробелы и противоречия, не охваченные концепциями жестокости.
IX. Краткая история дискурса жестокости. Методологический очерк
В нашем исследовании рассматриваются дискурсы, которые допускают жестокость, несмотря на то, что это весьма парадоксальное поведение для человека – конкретное, физическое знание о боли, причиняемой другим людям, – и, словно нажатием рычага, подавляют сострадание, столь высоко оцененное Мишелем де Монтенем, в отличие от стоиков. В этом смысле книга вносит вклад в теорию культуры: с помощью имманентного анализа философских и литературных текстов и метода медленного чтения в ней раскрываются дискурсы, составляющие основу культа жестокости. Мы приводим обширные выдержки из иностранных источников, чтобы вступить с ними в диалог и спор и дать возможность читателям стать участниками размышлений. При этом необходимо иметь в виду или, точнее говоря, сознавать несомненное притяжение, исходящее от насилия, которое отмечали такие мыслители, как Антонен Арто и Фридрих Ницше. Арто в своем определении пытается уйти от идеи грубого насилия. Он делает это явно с оглядкой на Ницше, который, принимая божественный праздник жестокости, стремится узаконить ее фактичность (см. главу 6).
Цель этой книги, если использовать кантовскую формулу, состоит в том, чтобы проанализировать условие возможности преднамеренного – то есть не чисто спонтанного и аффективного – насилия. Тем самым мы не хотим сказать, что речь идет только об антропологическом измерении, хотя оно неизбежно возникает в качестве горизонта, поскольку человек – существо, потенциально способное к насилию. Гораздо важнее, однако, изучить конкретные условия, при которых возникает и развивается экономика жестокости, становясь квазиестественным, само собой разумеющимся явлением. Наша цель – выявить дискурсы и нарративные модели, которые нейтрализуют аффекты и реакции, препятствующие актуализации и реализации организованного насилия и представляемые в категориях эмпатии, чувствительности и восприимчивости к боли, то есть в качестве центральных моментов социально эффективного воображения.
Термин «экономика жестокости» предполагает, что, кроме нейтрализации, играет свою роль стратегическая воля к ее осуществлению, которая, заметим, не обязательно должна быть идентична ницшеанской воле к власти, входящей в дискурсы западных эпистем – форм знания в системе Фуко. Экономика включает в себя грамотное использование ресурсов, достижение среднесрочных и долгосрочных целей и связанное с этим знание об эффективности средств, а также рациональный расчет, которые могут легко сочетаться с иррациональными и призрачными целевыми ориентациями. Возможно, именно такое соединение рационального использования средств и иррациональных целей характеризует экономику жестокости. В этом заключается наша гипотеза. Такая связь может лежать и в основе других экономик, например экономики роста, конкуренции и контроля. В экономике жестокости есть знание о безмерности боли, причиняемой другим; в то же время она требует сдерживать и приглушать воображение во всем, что касается уязвимости собственного тела. В жутком противостоянии между преступниками и жертвами решающим значением обладает субъективная и объективная власть.
Наше исследование ориентировано на анализ культуры и имеет эссеистический характер в том смысле, что предполагает существование подлинно литературного мышления. Поэтому оно вступает в диалог не только с философией, но и с литературой. Согласно известному высказыванию художника-авангардиста Пауля Клее, преимущество различных искусств заключается именно в том, что они не утверждают, а скорее показывают, демонстрируют, «раскрывают» нечто: «Искусство не воспроизводит видимое, но делает видимым»[85]85
Paul Klee, Schöpferische Konfession (1920); цит. по: Susanne Partsch, Paul Klee 1879–1940, Köln, 1993. – S. 54.
[Закрыть]. В этом смысле критический анализ литературных произведений, в которых отмечается позитивное отношение к экономике жестокости, также может внести свой вклад в освещение и прояснение феномена организованного насилия.
Теоретический аспект предлагаемого исследования проявляется в том, что в нем уделяется особенное внимание метауровню символических форм, на котором возникают дискурсы и нарративы жестокости. Принимая за основу выводы психологии и антропологии, мы пытаемся про никнуть в те формы рационализации и символизации преднамеренного насилия, в рамках которых сознательно нарушаются границы других людей и групп и одновременно это нарушение узаконивается, как прямо, так и косвенно. Литературные тексты понимаются нами как носители мысли, стремящейся охватить пустоты и промежутки, переходы, которые бинарное научное мышление нередко игнорирует или оставляет без внимания.
Интенсивное чтение философских и литературных текстов поможет пролить свет на феномен экономики жестокости и тем самым разоблачить дискурсы и нарративы, допускающие готовность людей к организованному и продуманному совершению соответствующих действий. Это предполагает наличие определенных этических установок, в которых жестокость воспринимается по меньшей мере как неизбежное зло, например в борьбе за якобы лучший мир, а иногда даже как средство, не являющееся нарушением этических правил. В этом отношении негативность жестокости требует аннулирующей ее позитивной нормы. Наша книга посвящена исследованию такой «этики».
Изучение английских и французских публикаций показывает, что для перевода немецкого слова Grausamkeit используются два понятия, которые восходят к латинским словам crudelitas и atrocitas[86]86
Дикость, грубость, безжалостность (лат.). – Прим. пер.
[Закрыть], близким по значению Grausamkeit. Латинское crudelis означает «бессердечный», «безжалостный», «жестокий», тогда как atrox имеет менее определенный смысл – «ужасный», «страшный», «жуткий», «отвратительный». Следовательно, crudelis относится к сфере психического, то есть к тому, что происходит во внутреннем мире действующего лица, в то время как atrox фокусируется на внешнем, а именно – ужасном событии. Это подтверждают и результаты поиска по запросу cruelty в соответствующих англоязычных поисковых системах, которые выдают длинный список книг и статей, посвященных в основном теме жестокого обращения с животными. Между тем по запросу Grausamkeit сразу появляется роман Роберта Музиля «Душевные смуты воспитанника Тёрлеса». При переводе для этой формы систематической жестокости, вероятно, лучше использовать actrocity, чем cruelty. У Тейлор cruelty – это в первую очередь грубость, суровость, мучения и жестокое обращение, а actrocity – зверство, жестокость, мерзость. В последнем случае негативная оценка, которая, безусловно, есть и в cruelty, оказывается более явной и эмоционально окрашенной. Очевидно, что предложенное мной различие между «субъективной» и «объективной» жестокостью не соответствует разнице между двумя английскими словами, но я все же склонен относить cruelty к объективной стороне жестокости, а actrocity – к субъективной. Жестокость – это действие, жестокий – свойство[87]87
См.: Taylor, Cruelty. – S. 22.
[Закрыть].
Таким образом, понятие «жестокость» имеет двоякий смысл. Оно обозначает субъективную предрасположенность, которая ведет к причинению вреда и является противоположностью (хотя и не абсолютной) состраданию, и объективное событие, которое делает людей жертвами жестокости, независимо от намерений воображаемых или реальных преступников. В отношении жертвы во многих языках, прежде всего в английском, различаются жертвенный акт и человек – жертва этой формы ритуального насилия, которое может быть жестоким лишь с «объективной» стороны. Применительно к жестокости такое различение также необходимо. В центре внимания этой книги, в которой отсутствуют описания пыток и мученичества, ритуалов казни и методов уничтожения, находится субъективная предрасположенность, дискурсивно обоснованная и продуманная этика жестокости, допускающая или даже санкционирующая соответствующие действия. Тема пыток, которой посвящены бесчисленные исследования в области прав человека и которая играет важную роль в современном политическом дискурсе, упоминается лишь вскользь. В целом исследование посвящено анализу дискурсов, прямо или косвенно легитимирующих такие формы насилия.
Корпус текстов, составляющих базу нашей работы, отличается от тех, которые были кратко описаны выше. Мы намеренно объединили в нем авторов от Геродота до Канетти, от Сенеки до Музиля, от Монтеня до Кёстлера, сделав его разнородным и мультидисциплинарным: он не следует ни хронологическому порядку, ни линейной схеме аргументации. Тем самым в работе мы пытаемся подойти к многослойной теме и раскрыть ее миметически, то есть соответственно ее сложности.
Вероятно, культурная эволюция, которая, по мнению Энафф, способствовала развитию жестокости, еще не завершена. И потому все еще не существует жестокости, напрямую связанной с технико-культурным развитием человека. Форма и дискурсивная логика жестокости менялись, начиная с первых цивилизаций, далее через античность и европейское средневековье к Новому времени и постмодерну. Вопрос, стоящий перед нами: может ли культурная эволюция однажды преодолеть жестокость так, что она предстанет лишь как пережиток, в котором проявляется неспособность людей создать культурные техники, избавляющие не от желания быть жестоким, а от самой жестокости.
Возможно, самое цитируемое место из Вальтера Беньямина – это фрагмент, посвященный Angelus Novus Пауля Клее, где говорится о горах трупов в истории, которые в мессианском образе обрекают нас надеяться на будущее. Ангел Беньямина не застывает в позе чистого созерцания, а устремляется в будущее под напором шквального ветра, несущегося из рая[88]88
Беньямин В. О понятии истории. – С. 83.
[Закрыть]. Вернемся еще раз к началу этого текста: либерал не может принять власть и насилие, пишет выдающийся лирик и циник Готфрид Бенн, который некоторое время был соратником национал-социалистов. Его высказывание может показаться насмешливым и высокомерным, но в нем содержится важная мысль: мы не можем смотреть в глаза насилию потому, что оно ставит нас перед вопросом о нашей собственной способности к насилию. Любое обсуждение этой темы неизбежно приводит к признанию насилия. Более того: описывая, документируя и фиксируя коллективные акты насилия в истории человечества, мы воспроизводим их в акте письма, и необходимы продвинутые литературные техники, чтобы если не избежать, то по крайней мере минимизировать влияние такого соучастия. Это никоим образом не ускользает и от той формы негативной антропологии, которую имел в виду философ Ульрих Зоннеман, полагавший, что она не только указывает на неопределенность человеческого существа, но и должна учитывать его разрушительный потенциал[89]89
Ulrich Sonnemann, Negative Anthropologie, Frankfurt/Main, 1981. – S. 227–248.
[Закрыть].
В комплексе явлений насилия и агрессии жестокость означает не просто количественное увеличение страданий, но, возможно, является ultima ratio[90]90
Последний довод (лат.). – Прим. пер.
[Закрыть] осуществления власти и насилия, когда уничтожение инсценируется как угроза с целью сделать других сговорчивыми или разыграть спектакль, в котором зритель переживает страх смерти вместе с другими. Жестокость – это устранение противника до того, как он/ она подвергнется физическому насилию, что превращает его/ее в мертвую вещь, над которой насильник имеет абсолютную власть.
Существуют весьма специфические условия, в которых агрессия представляется нормальной, например как доказательство мужской идентичности, как необходимый стимул в мире, определяемом полярностью и бинарностью, где всякий инакомыслящий, иноверец или иноземец превращается в демона, не заслуживающего жалости, как эффективное средство достижения максимально возможной безопасности, гарантирующей не только жизнь, но и, в случае с правителем, сохранение своего положения, как опьянение властью, позволяющей «покончить» с другим, как циничный реализм, утверждающий, что, вопреки всем благочестивым гуманизмам, мир таков, каков он есть (именно благодаря силе), как месть того, кто сам прежде был унижен, пережив насилие в разных формах, как реакция на отказ в признании[91]91
Manès Sperber, Zur Analyse der Tyrannis. Ein sozialpsycho-logischer Essai, Graz, 2006; Tzvetan Todorov. Abenteuer des Zusammenlebens. Versuch einer allgemeiner Anthropologie, Frankfurt/Main, 2015.
[Закрыть]или как неизбежное средство достижения долгосрочных исторических целей, Третьего рейха или коммунистического рая. Жертвоприношение как одна из ранних форм коллективного регулируемого насилия является показательным примером, поскольку, по мысли французского философа Рене Жирара, оно не только предполагает общественное согласие, но как бы восстанавливает и гарантирует его – в акте ритуального повторения – тем, что все члены социальной общности участвуют в коллективном насилии, хотя и в разных ролях.
История дискурса всегда подразумевает диалог, воображаемый симпозиум с мыслителями, в нашем случае с теми, кто пытался ответить на вопрос, почему человек – это не просто животное, склонное к насилию, но также создатель символических систем, которые делают уничтожение других людей, знакомых и незнакомых, и целых групп психологически переносимым для преступников. В этом смысле первопроходцами являются Мишель де Монтень, Рене Жирар, Зигмунд Фрейд, Артур Кёстлер, Элиас Канетти, Франц Кафка, Эммануэль Левинас, Ханна Арендт, Джудит Батлер, французские моралисты и литературные свидетели холокоста. Вместе с тем мы должны показать опасность тех порнографов насилия, которые так или иначе прославляют его, заигрывают с ним, увлечены играми власти, сопровождающей его, и исследуют пределы унижения другого, – маркиза де Сада, Эрнста Юнгера, Готфрида Бенна, Луи-Фердинанда Селина, философских защитников terreur, от якобинцев до Мерло-Понти, холодных интеллектуалов китайской культурной революции и красных кхмеров, а также, разумеется, всех теоретиков и политиков консервативной революции, фашизма, нацизма и других тоталитарных режимов. Некоторые авторы, занимавшиеся феноменами власти и насилия, не могут быть однозначно отнесены к какой-либо группе, но, безусловно, являются значимыми: среди них Гегель, Ницше и в известной степени Арто, Фуко или Батай.
Тоталитарные режимы можно охарактеризовать как построенные и рассчитанные на систематическое применение насилия, жестокости, наказания и угрозы жизни. Либеральные и демократические системы пытаются – например, через монополию на применение силы – направлять насилие в нужное русло, сдерживать его и применять как исключительную меру. Тем самым они парадоксальным образом обеспечивают свободу, ограничивая действия, связанные с угрозой и применением насилия. Гражданские общества обязаны своим существованием не только исторической volonté generale[92]92
Всеобщая воля (фр.). – Прим. пер.
[Закрыть], но прежде всего опыту жестоких гражданских и религиозных войн, а также террору революции и контрреволюции. Основой прав человека в них является защита от произвола и насилия со стороны государства. Ничто так не говорит о скептицизме, скрытом за сложным набором демократических правил, как временное и пространственное ограничение власти путем разделения властей и установления сроков для политических должностей.
Жестокость – это триумф власти, которая, как кажется, раз и навсегда спасает правителя от всех будущих атак; расправа над всеми опасными конкурентами – это иллюзорное подтверждение неограниченной власти в будущем и в настоящем. Возможно, это часть неосознанной фантазии правителя, что он должен быть один (с ударением на любом из этих трех слов), ведь, только уничтожив всех остальных людей, можно достичь полной уверенности в том, что тебя не убьют и не столкнут с трона.
То, что это абсолютное стремление к власти связано с опытом нехватки, составляет суть психоаналитической теории Альфреда Адлера. Его ученик Манес Шпербер развил этот подход в своем содержательном эссе «К анализу тирании»: стремление к власти над другим, к его полному подчинению, возникает вследствие нехватки, из опыта и чувства неполноценности[93]93
Sperber, Zur Analyse des Tyrannis. – S. 33.
[Закрыть]. Как мы увидим, имя Гитлера не встречается ни в книге Канетти (см. главу 5), ни в эссе Шпербера, хотя, по сути, в обоих случаях речь идет о нем. Используемый в их работах метод отчуждения, заключающийся в том, чтобы представлять в качестве исторических моделей господства восточных правителей или шизофреников, столь же привлекателен, сколь и двусмыслен: получается, что европейская история со всеми ее коллективными преступлениями, с такими личностями, как Наполеон, Гитлер и Сталин, не говоря уже о бесчисленных коварных правителях меньшего масштаба, не может дать наглядный материал для культурной истории насилия и ничем не ограниченной власти.
Особенностью символической вселенной иудаизма и христианства является то, что в них впервые формулируется всеобъемлющий и однозначный запрет на убийство: «Не убий». Однако это уже исключает угрозу убийства, поскольку она эффективна только в том случае, если ее, по меньшей мере в показательных целях, применяют на практике. Отныне для того, чтобы ограничить, приостановить или обойти запрет на убийство, требуются более тонкие стратегии аргументации, которые, например, позволяют представить другого как союзника нечистой силы (охота на ведьм) или как звероподобного недочеловека.
Христианский запрет на убийство и жертвоприношение справедливо интерпретируется Рене Жираром как достижение, постоянно находящееся под угрозой, на котором основывается и современное гражданское общество. Разумеется, его теория связана с этикой, подготовленной психоанализом, и предполагает – как на индивидуальном, так и на коллективном уровне, – что нужно не останавливаться на абстрактном недоверии к себе и развивать культурные техники, позволяющие сдерживать нашу агрессию (см. главу 8). Мы должны обратить на нее внимание – это будет ядром второго просвещения – и сделать структуру власти прозрачной.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?