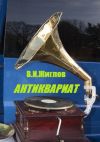Текст книги "Роммат"

Автор книги: Вячеслав Пьецух
Жанр: Историческая фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 12 страниц)
– Что наружность, коли нет души?! Вот наш буфетчик Фока писаный красавец, а между тем он мужлан. Нельзя судить по поверхности!
– А еще говорят, будто стихотворцы все шаматоны[61]61
Шалопаи.
[Закрыть]!
– Помилуйте, как тут не быть шаматоном, когда в свете столько условностей и предрассудков! Возьмите для примера хоть сватовство…
Софья Михайловна потупилась и зарделась.
– …приличия требуют прежде всего благословения родителей, а мы с Жуковским презираем тех людей, кои прежде обращаются к родителям, а уж после к предмету страсти. О, эти законы приличия, выдуманные бессердечными стариками! Будь проклят свет и присные его! Мне тесно, я задыхаюсь! Моей душе мало вселенной, а тут, соблаговолите видеть, кругом глупость и китайские церемонии!..
Осенью эти прогулки закончились, так как Софья Михайловна что-то стала отлынивать, а ее родители с самого начала косо смотрели на этот брак. С горя Петр Григорьевич спустил все наличные деньги, потом собрался было на байроновский манер ехать в Грецию искать смерти, но в конце концов отправился развеяться в Петербург. Тут он познакомился с Рылеевым, который одолжил ему значительную сумму денег и принял в тайное общество за отвращение к жизни, имевшее, так сказать, общественное звучание. Это произошло незадолго до событий 14 декабря, и многие соратники Петра Григорьевича путали его имя. Несмотря на то что в роковой понедельник Петр Григорьевич воевал решительно, как никто, на следствии он повел себя малодушно и оговаривал своих товарищей в том, в чем они не были виноваты ни сном ни духом, но, правда, написал царю из Петропавловской крепости мужественное письмо, в котором строго разбирал российские неустройства. Прочитав письмо, Николай Павлович сказал о Каховском так: «Это молодой человек, исполненный прямо любви к отечеству, но в самом преступном направлении».
Спустя что-то около года после того, как Петра Григорьевича повесили на валу Кронверкской куртины, Софья Салтыкова вышла замуж за Дельвига, а после его смерти за медика Сергея Боратынского, брата поэта.
Вот Дмитрий Иринархович Завалишин. Он родился 13 июня, в Духов день[62]62
Христианский праздник в честь сошествия на апостолов Святого Духа, в результате чего они заговорили на всех языках мира и приобрели многие чудесные навыки.
[Закрыть], и это обстоятельство не прошло для него бесследно: с раннего детства, как тогда выражались, он прочил себе жребий необыкновенный. Впрочем, читать и писать он действительно выучился сам, будучи трехлетним ребенком, блестяще закончил морской кадетский корпус, где учился вместе с Нахимовым, и в семнадцать лет уже преподавал в корпусе астрономию, высшую математику и кое-какие мореходные дисциплины. Однако жизнь не торопилась исполнять его величественные предчувствия, особенно укрепившиеся после того, как, однажды выйдя от всенощной из церкви Жен-мироносиц, он увидел знаменитую комету 1811 года, по которой все юродивые России предсказывали войну, а Дмитрий Иринархович напророчил себе сказочную карьеру. Поэтому на первых порах он вынужден был орнаментировать свою личность всякими небылицами, например, историями о том, что он водит дружбу с наследником датского престола Фридрихом, что он дважды отказывался от шведского ордена Меча из принципиальных соображений и что в Адмиралтействе нарочно затеряли приказ о назначении его на какую-то вице-адмиральскую должность. Чтобы поторопить судьбу, Дмитрий Иринархович предпринял кругосветное путешествие на фрегате «Крейсер», но с дороги послал Александру I в Верону, где тогда проходил очередной конгресс Священного союза, проект колонизации Калифорнии, в котором не преминул слегка упрекнуть императора в том, что он-де ведет Россию по ошибочному пути, – и ему приказали немедленно прибыть в столицу через Сибирь. Дмитрий Иринархович явился в Санкт-Петербург 6 ноября 1824 года и на другой день собрался идти на аудиенцию к Александру, назначенную между одиннадцатью и двенадцатью часами, но как раз на другой день произошло известное наводнение, описанное Пушкиным в «Медном всаднике», и императору было, конечно, не до него.
Собственно, к суду по делу декабристов Дмитрия Иринарховича привлекли за то, что он состоял в близком знакомстве с Рылеевым и был забубенным вольнодумцем, – но на тайных совещаниях почти не бывал, неофитов не обращал, в восстании не участвовал и вообще пострадал за то, что сам по себе был заговор и союз. На следствии он выдал всех, кого только было можно, присочинив такие невероятные обличения, которые даже генералу Левашову показались фантастическими, и в конце концов объявил Следственному комитету, что вступил в тайное общество с единственным намерением выдать его властям.
Что же следует из этих поверхностных биографических набросков, худо-бедно очерчивающих собирательный образ нашего первого революционного подвижника, декабриста? Нужно признать, из них следует не более того, что было изложено выше: наш первый революционер представлял собой не самый надежный материал для политических оборотов; этот деятель был деятельным смутно, непоследовательно, противоречиво, это был человек настроения и порыва, неспособный на целеустремленную политическую работу, которая как наука не терпит наскока, вообще дилетантства, слишком наследник своего предшественника – скорбно мыслящего одиночки. В любую минуту он, конечно, мог изрезать в куски ненавистного командира и грудью пойти на пушки, но в решительную минуту всегда предпочитал участь жертвы участи палача. Прежде всего это была личность мятущаяся, сомневающаяся, щепетильная, заквашенная на литературе, русском благодушии и клановых предрассудках, личность, уж больно сторонящаяся основополагающей методики политического оборота – кровопролития, чересчур уважающая жизнь; отсюда один шанс против тысячи, что при самых благоприятных обстоятельствах Александр Бестужев с Щепиным-Ростовским отважились бы на взятие Зимнего дворца и физическое устранение императора, Одоевский – на арест столичного генералитета, Михаил Пущин – на помыкание сенаторами, Орлов, Фонвизин и Якушкин – на поднятие московского гарнизона, Сергей Муравьев-Апостол – на киевский марш, то есть на элементарно необходимые и последовательные действия, сообразные идее переворота, которая вырабатывалась тайным обществом как минимум восемь лет. Стало быть, разрушительное направление в 1825 году не было революционно в той степени и объеме, в какой это было необходимо для качественного скачка, но его поражение предопределили не какие-то объективные предпосылки, всегда отдающие участием божества, а именно человек двадцать пятого года со всем тем, что ему довлело, который созидал объективные предпосылки, как мы созидаем свое счастье или несчастье. Если смоделировать тогдашнее противостояние сил на какую-нибудь игру, положим, на перетягивание каната, то объяснить победу команды Николая Павловича объективными предпосылками значило бы объяснить ее тем, что эта команда перетянула, а команда Рылеева, Пестеля, Трубецкого сдала, в то время как на самом деле команда Николая Павловича победила из-за того, что ее составляли битюги в образе человека, а команду Рылеева, Пестеля, Трубецкого – неврастеники и поэты, среди которых кто-то тянул в одну сторону, кто-то – в другую, кто-то только делал вид, будто тянет, кто-то вообще не тянул, думая о своем.
Однако, как ни ограниченно конструктивен этот человече-ский материал, природа в ипостаси истории делала ставку именно на него, и, стало быть, определить первопричины общественного движения можно только прояснив заветный вопрос, который касается собственно человека: что порождает личность, способную самоотверженно действовать в интересах исторических превращений?
Поначалу на этот вопрос напрашиваются ответы альтернативные, указывающие на то, что эту личность не порождает; например, очевидно, что ее исток отнюдь не семейное воспитание, так как в одних и тех же условиях у нас частенько производятся противоположно заряженные характеры; вот, скажем, семья Цебриковых дала Николая Цебрикова, хотя и случайно, но с достоинством вступившего в историю революций, и его брата Ивана, который был лишен дворянства и разжалован в рядовые за кражу у помещика Качалова 300 рублей, часов и дуэльного пистолета. Вообще русское семейное воспитание вряд ли когда решало вопросы становления исторически полезного человека, ибо в России никогда не было культуры этого воспитания, которое испокон веков пестует, положим, в Германии более-менее однообразный личностный материал, взращенный на единых правилах дисциплины, точного соблюдения кастовых норм, практичности, приспособляемости, то есть на определенном круге канонов, обеспечивающем сотворение характера общенационального, типового. У нас же воспитание всегда пускалось более или менее на самотек, и посему его результаты определялись обстоятельствами глубоко случайными, внешними, темными: именно по этой причине ни в каком другом народе, видимо, нет такого характерного разнобоя, как среди русских, у которых кого только не встретишь – и немца, и живого святого, и бессовестного дельца, и подвижника на поприще вечного двигателя, и запойного книгочея, и первобытного дикаря; нет ничего удивительного в том, что примерно в равных условиях один русский человек сочиняет конституцию, а другой – доносы, один способен на историческое деяние, а другой лишь на мелкое колдовство. Таким образом, и на дальних, и на ближних подступах к вопросу о происхождении исторического человека становится ясно, что это вопрос из тех, которые, возможно, навсегда обречены быть вопросами из тех, которым претят ответы; вообще человечество нажило себе множество неприятностей только из-за того, что настырно отвечало на вопросы, которым претят ответы.
По-прежнему очевидно пока одно: силы, прокладывающие исторические пути, как-то должны созидать и то, что их в силах преодолеть, то есть некое необходимо-заостренное психическое устройство, которое через взаимодействие с реальностями места и времени дает исторического человека, способного рисковать головой ради самых умозрительных идеалов. Практически это могло выглядеть как-то так: положим, растет в своем родовом гнезде, в каких-нибудь Рыбаках Старицкого уезда Тверской губернии, барчук Петр Иванов и вследствие чисто российского, несколько психопатического состояния чувств, общения со смиренной тверской природой, славными людьми, умной и доброй книгой, какого-то страшного происшествия, вроде крестьянского мятежа, виденного в нежные годы, благородных национальных сказаний и еще множества неуловимых причин – со временем становится просто чутким, восприимчивым человеком, в котором, с одной стороны, подает голос горькое чувство вины за отечественные беспорядки, а с другой стороны, инстинкт самосохранения почему-то становится властен не то чтобы относительно, но и не абсолютно, – тут-то, верно, и кроются начала необходимо заостренного психического устройства; затем уже, в столкновении с дикими особенностями русского быта и государственности, Петр Иванов неизбежно заразится энергией противостояния, которая сориентирует его на действие в разрушительном направлении, и в самом прозаическом случае будет достаточно несчастной любви, случайного знакомства, пирушки с политическим уклоном, неприятностей по службе или еще чего-нибудь в этом роде, чтобы разорвался привычный круг жизни, и Петр Иванов с «гибельным восторгом» вышел на Сенатскую площадь либо очертя голову примкнул к восстанию Черниговского полка. Разумеется, это собирательная ситуация весьма скупо освещает происхождение исторического героя, но из нее вытекает то, что коэффициентом духа для деятеля разрушительного направления скорее всего выходит некая очень сложная и, стало быть, ущербная побудительная величина, опирающаяся на нервное чувство родины, стремление вырваться, уязвимость случайным стечением обстоятельств, чрезмерно широкую внутреннюю свободу, в том смысле широкую, в каком о подлецах в прошлом столетии говорили: «широкой совести человек», – а также на нравственность преждевременного порядка; такая величина, которая обрекает этого деятеля не только на невыгодно – и бессмысленно-героические, но и диковинные поступки. Очевидно, что революционный эффект такого исторического героя может зависеть от самых неожиданных и ничтожных причин, включая наводнение, личные антипатии, получение значительного наследства, а при столкновении с силами охранительного направления главным образом от того комплекса качеств, который впоследствии был назван «интеллигентщиной», то есть оттого, что Петр Иванов в принципе предпочитает участь жертвы участи палача. Это означает, что если история действительно предусматривала поражение декабристов на севере и на юге в качестве своей промежуточной цели, то более подходящего исполнителя было не отыскать. Но ведь Петр Иванов, как говорится, не с луны свалился, он был законнорожденным продуктом своей эпохи и всего предшествовавшего развития российского общества во внутренних спряжениях и в противоборстве с Западом и Востоком; его генеалогия прослеживается далеко, волнующе далеко, от полицейских приемов Александра I, породивших дворянскую оппозицию, к войне 1812 года, возбудившей освободительные настроения, от нее к реакции России на Великую французскую революцию, потом к самой этой революции и далее к продолжительной цепи хозяйственных и политических превращений, по крайней мере восходящих к открытию Америки, вскормившему европейский капитализм; с другой стороны, наш Петр Иванов возник в соприкосновении с родными безобразиями частного и общественного порядка, восходящими аж к татаро-монгольскому игу, которое надолго законсервировало нашу хозяйственно-политическую и культурную инфантильность, обусловило многовековую отторгнутость от Европы и вследствие этого петровское возрождение, породившее чреватое противостояние сил. Следовательно, то, что прокладывает исторические пути, своевременно созидает и то, что осуществляет по ним целенаправленное движение, – исторического героя, который состоит в такой же связи с направлениями общественного движения, как любовь с продолжением рода или как экономика с образом социального бытия. Следовательно, формула, так сказать, романтического материализма в истории должна выглядеть как-то так: жизнь в соответствии со своими запросами созидает личности, которые в соответствии с запросами личности созидают жизнь. Следовательно, историческая необходимость, обусловленная промежуточно результатом деятельности людей и конечно – всеобщей целью деятельности людей, дает исторически насущного человека, а он уже осуществляет историческую необходимость в той мере, на какую запрограммировано способен – так история и течет.
При этом наивно было бы предположить, что течение истории совершается по какому-то заранее определенному плану, такое предположение слишком бы припахивало суеверием; больше всего похоже на то, что история движется, как движется мощный поток воды, который всегда избирает кратчайшее и единственно верное направление, обусловленное массой воды и рельефом местности, где-то задерживаясь перед преградой, покуда не удастся промыть исход, где-то отступая в поисках окольного пути, где-то даже устремляясь назад, словом, побеждая там, где можно и, следовательно, нужно победить, и проигрывая там, где выиграть нельзя и, следовательно, не нужно, – что, между прочим, и породило классическое заключение «все к лучшему в этом лучшем из миров», – но при всем том последовательно движется к своей цели; в случае с потоком воды этой целью будет достижение уровня моря, а в случае с историческим движением – абсолютный или истинный человек.
Если сойтись на том, что в приложении к общественному развитию под рельефом местности подразумеваются хозяйственные, политические и личностные реалии времени и пространства, то, в сущности, остается уяснить, что есть масса водяного потока или историческая необходимость, чтобы завершить проект истины и хоть как-то закрыть вопрос. Логично будет предположить, что историческая необходимость в конечном итоге есть необходимость превращения человека разумного в человека по существу, который на мучительном пути в несколько тысяч лет, в борьбе истории против него силами всяческих ганнибалов, барбаросс, наполеонов и в его борьбе против истории силами разума и добра последовательно созидает такие общественные формы, при каких человеку проще всего воплотиться в максимуме возможностей существа. Похоже на то, что вообще история разразилась единственно оттого, что человек выделился из животного мира слишком несовершенным; если бы он выделился из него не как заготовка, эмбрион, которому суждено было пройти через родовые муки, прежде чем воплотиться в максимуме возможностей существа, а как конечный продукт природы, никакой истории не было бы и в помине. Почему человек выделился из животного мира несовершенным – это понятно, потому что его прародителем была глупая и алчная обезьяна; понятно и то, что человек-заготовка обусловил характер исторического развития – недаром течение истории так подозрительно похоже на историю становления человека от пищащего комочка до полубога.
Между прочим, отсюда вытекает давешнее кардинальное соображение: возможно, та сила, которая ведет человечество к цели истории, заключена именно в человеке, возможно, что историческая необходимость преображения в полубога обусловлена собственно фактом его бытия, а изначально – фактом обособления от природы. Ведь для того чтобы чисто зоологическая суть возвысилась до мыслящего и нравственного существа, то есть для того чтобы произошло чрезвычайное, почти сверхъестественное превращение материального количества в идеальное качество, потребовались бы гораздо бо2льшая сосредоточенность сил природы и гораздо бо2льшие возможности саморазвития, чем, скажем, для превращения булыжника в черепаху. Стало быть, род людской вышел из животного мира, опираясь не только на гигантские внешние силы, но и на гигантские внутренние возможности, на такую потенциальную мощь, которая просто даже по законам физики не могла не приобрести кинетического характера и не обернуться цепью промежуточных результатов, направленных на победу природы в ипостаси истории над природой наших несовершенств. Конечно, сомнительно, чтобы природа изначально запланировала строительство богоподобного существа, и скорее всего получилось так, что по причине накопления критического количества ход эволюции взорвался качеством человека, который в результате этого взрыва обрел огромный энергетический заряд, определивший его движение от стадии полуживотного до стадии полубога. Это движение, направленное на строительство человека, всегда было криволинейным, однако людям вольно было заблуждаться на тот счет, что, захватывая золотоносные земли, хлебопашествуя, прокладывая железные дороги, торгуя, обирая друг друга, манипулируя ценными бумагами, эксплуатируя миллионы черных, желтых и белых рабов, они строили личное, семейное, сословное или государственное благоденствие, – строили они именно человека, хотя и так же мало понимали свое действительное предназначение, как понимает его дерево или жук. Только в отчаянном меньшинстве случаев это движение выливалось в развитие собственно нравственности, прямо созвучной идее исторического пути, но уже из одного этого невольно приходишь к мысли: раз человек издавна знает нравственность, которую, кроме него, не знает никто и которая могла народиться в звере на манер того, как из неорганического соединения нарождается органическое вещество, то способность преображения заложена в человеке наряду со способностью к самоуничтожению, членораздельной речи, прямохождению и труду. Законно будет также предположить, что в техническом смысле цель истории есть последовательное накопление или распространение нравственности, а отнюдь не поражения и победы, ведь, как показывают события 1825 года, революции совершаются не только тогда, когда собираются в фокус соответствующие предпосылки, но и когда некое подавляющее меньшинство достигает некоего взрывного градуса нравственности, поскольку человеческое общество настолько несовершенно, что основания для революции есть всегда.
Теперь можно попытаться ответить и на вопрос, почему декабристы потерпели поражение в битве против самодержавия, сообразуясь с правилами романтического материализма: они потерпели поражение вовсе не потому, что монархия была еще достаточно жизнестойкой, а революционная оппозиция показала себя ограниченно боевой, и не потому, что, с одной стороны, Николай Павлович Романов-Голштейн-Готторпский и его команда повели себя по-хозяйски, решительно и жестоко, в ключе лозунга «патронов не жалеть», а с другой стороны, Якубович с Каховским в последний момент отказались от цареубийства, – декабристы потерпели поражение потому, что перед ними стояла цель распространения нравственности, а не упразднения самовластья.
Теперь можно попытаться ответить и на вопрос, что есть история и как она делается в микросмысле: конечно, не исключено, что история человечества имеет самодовлеющее значение и не преследует никакой изначальной цели, как, например, тектонические процессы, поскольку вообще ничего не исключено, однако больше всего похоже на правду то, что история есть именно работа по созиданию человека и что делается она бессознательными усилиями миллиардов людей, десятков человеческих поколений и каждым из нас в отдельности, усилиями, которые сами по себе преобразуются в движение, сообразное исторической цели, как бессмысленные ручейки – в движение, обусловленное уровнем моря; то, что с точки зрения истории в макросмысле, или исторического материализма, есть построение бесклассового общества, с точки зрения истории в микросмысле, или романтического материализма, есть само упразднение истории через воплощение человека в максимуме возможностей существа.
Если так оно и есть, то мыслить в истинном направлении – значит исходить из того в своих помыслах и делах, что все в человеке, все от человека, через человека и во имя человека. Такая сориентированность тем более насущна, что в природе не бывает поступков и обстоятельств, которые не имели бы никакого исторического значения; именно что человек вроде бы просто-напросто ногу сломал, ан, глядь, – делается история.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.