Текст книги "На будущий год в Москве"
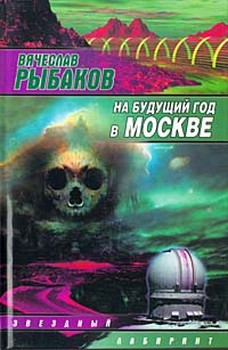
Автор книги: Вячеслав Рыбаков
Жанр: Научная фантастика, Фантастика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
– Папа! – крикнул Лэй, обернулся и, споткнувшись, на глазах у отца едва не упал в щель между перроном и вагоном; короткий, слепящий ужас пролетел сквозь Лёку. В последний момент Соляк подхватил Лэя и буквально на руках втащил в дверь.
Лёка рванул вдогон. Ввалился в тамбур и, задыхаясь, отчаянно крикнул внутрь вагона:
– Назад! Это не та электричка! Она не останавливается в Клину!!!
– Та! – уязвленно прохрипел Обиванкин; он то вздувался, то опадал, точно искусственное легкое. – Та! В Москву!
Он нарочно, потрясенно понял Лёка; и больше ничего не успел ни сообразить, ни сделать. Двери зашипели и судорожно съехались; электричка, с громом передернувшись, потянула. Завыли моторы, сначала басом, потом выше, выше, переходя на раздирающий душу визг. Поплыли мимо, разгоняясь, светлые россыпи окон далеких домов.
Лёка на негнущихся ногах вошел в вагон и, словно мертвый, упал на деревянное сиденье рядом с сыном.
Тук-тук… тук-тук… Сердце об гортань – или колеса об рельсы?
Граница осталась позади. Электричка шла по России.
– Папа, – тихо сказал Лэй. – А мы к бабе Люсе-то попадем?
Лёка молча обнял сына за плечи.
Никого, кроме них, не было в последнем вагоне последней в этот день электрички прямого сообщения Тверь – Москва. И оттого возникало странное чувство потерянности: снаружи глухая тьма без конца и края, где, лишь подплескивая прогорклого масла в палящий душу ледяной костер тоски, изредка проплывали какие-то неживые огни, а внутри – гулкая от безлюдья и сумеречная от тусклых ламп, знобкая трясущаяся теснина да дверь, с бессильным лязгом мотающаяся то в паз, то из паза; и ряды, ряды пустых сидений. Вымерший мир. Одна пустота, топоча бесчеловечно ритмичную чечетку по рельсам, деловито бежала сквозь другую, и в этом не виделось ни малейшего смысла.
Лёка думал о пограничнике. И впрямь ли жуткий, колдовской удар Соляка не нанес ему серьезного вреда; не простудился ли он, пока лежал на холодном асфальте (а если в Твери уж и дождь пошел? тучи-то ползли с севера); не слишком ли жестоко накажут его по дисциплинарной части за то, что он их упустил… Некоторое время он ни о чем ином думать не мог – так было совестно перед мальчуганом.
Лэй думал о том, что таких обалденных каникул у него, верно, в жизни больше не будет, даже если папа как бы и останется. Поездка вышла конкретно угарная. А все еще только начинается.
Он и не заметил, когда даже в мыслях перестал называть Лёку папашкой.
Гнат с отстраненным удивлением вспоминал, что началось все с желания выследить старца и сдать его на блюдечке Сане – но это было уже так давно…
Я буду тот жандарм, думал он, который защищает людей от произвола, а не тот, который защищает произвол от людей. Не знаю, думал он, как там в их хваленой Америке… не знаю, как где. Это будет здесь.
Обиванкин думал о том, как рассказать. Не находилось убедительных слов. С чего ни начни – все вырождалось в какой-то сугубо специальный отчет перед вышестоящими инстанциями; а этому стилю сейчас не было места. Особенно тут, в бегущей по рельсам прямоугольной и мрачной, как гроб, пустоте.
– Прежде всего, – сказал он наконец, глядя на одного Лёку, – я хотел бы извиниться перед всеми и, главным образом, перед вами, любезный Алексей Анатольевич, за свое несколько… неадекватное поведение. Я, поймите, никогда не бывал в столь экстремальных ситуациях… и несколько растерялся. Простите старика.
Он умолк. Те слова или не те? Не надо было говорить «любезный», мучительно понял он. Точно барин с прислугой. Проклятая академическая привычка… совершенно иной словарный запас…
– Честно говоря, – ответил Лёка и чуть улыбнулся Обиванкину, – я в такой передряге тоже впервые.
Обиванкин облегченно вздохнул. На сердце стало теплее.
– Алексей Анатольевич, – сказал он с предельно доступной ему предупредительностью. Покосился на безучастно сидевшего рядом Гната. – Как вы полагаете? Мы можем верить… э-э… уважаемому господину Соляку?
На лице Гната не дрогнул ни один мускул.
Лёка куснул губу.
– Честно говоря, – ответил он, – я и вам-то теперь верить не могу.
Обиванкин тяжко вздохнул.
– Я вас понимаю, – сказал он.
– Пока вы не объясните, что вы затеяли, я…
– Именно это я и намерен сделать. С моей стороны было, видимо, бестактно… и бессовестно… использовать вас, ничего не рассказав.
– Видимо, – коротко согласился Лёка.
– Именно поэтому я и интересуюсь вашим мнением относительно нашего нового спутника.
– Может, мне отойти в тот конец? – осведомился Гнат.
– Не надо, – сказал Лёка. – Что за глупости, Гнат. Мы нынче все в одной лодке.
– Более, чем вы думаете, – сказал Гнат. – И это, кстати сказать, большая удача, что мы прыгнули не в тот поезд. И в нашем пассажирском нас наверняка уже ищут, и в Клину будут ждать, потому что пацан наверняка запомнил, что у вас подорожная до Клина…
– А в Москве не будут? – спросил Лёка.
– Если ума не хватит – не будут, – ответил Гнат.
– Ну, с умом у нас последние годы негусто, – сказал Лёка и невесело усмехнулся. – Так что есть надежда. Меня другое беспокоит: как мы будем обратно выбираться?
– Об этом не беспокойтесь, Алексей Анатольевич, – поспешно сказал Обиванкин. – Вот с этим как раз не будет проблем. И молодого человека я могу успокоить: вы обязательно попадете к бабе Люсе, и даже быстрее, быть может, чем попали бы обычными видами транспорта. А уж с каким триумфом!
Ни Лёка, ни Гнат, ни Лэй не нашлись, что ответить. Некоторое время слышен был лишь стук колес да заунывный скрежет катающейся двери.
– Так вот, – проговорил Обиванкин, словно начиная лекцию. – Должен прежде всего сразу оговориться: я очень рад тому, что мы продолжаем и дальше ехать вместе. То, что я хотел совершить в одиночку, мне в одиночку явно не совершить. Я это уже чувствую. Не исключено, и уважаемого господина Соляка судьба нам послала не зря. Наша поездка, не побоюсь этих слов, может иметь самое большое и непосредственно значение для восстановления величия России. Именно ввиду этого я и позволил себе некоторую бестактность в отношении… – Он запнулся, а потом выразительно посмотрел на Лёку.
Так, подумал Гнат. Допрыгался. Вот только восстанавливать величие России мне и не хватало. Всю жизнь мечтал.
– Давайте покурим, – предложил он. – Кроме нас в вагоне нету никого, а хочется смертельно. Если подрастающее поколение не будет против…
Одна, подумал он, надежда: что старец – псих.
На то похоже.
– Да я бы и сам, – нерешительным басом сказал Лэй. – А, пап?
– Убью, – ответил Лёка. Он тоже помирал без курева. Кинул взгляд на удрученно отвернувшегося сына. – Ладно, – не выдержал он. – Но с завтрашнего дня бросаем оба.
– Исессино, – с лихой готовностью согласился Лэй, обрадованный таким уважением до глубины души.
Странное, поразительное то было чувство: делиться сигаретами и давать огня тому, кому буквально вчера еще давал соску… буквально вчера вот к этим самым губам, которые тогда были с обидой сложены сковородником, а теперь из них торчит задымившаяся отрава, подносил ложку с супчиком и ласково уговаривал: за маму… за папу…
Нет. Отвратительное зрелище. Завтра бросим.
– Итак, – сказал Обиванкин. – В моей сумке… – Он осекся. Нет, не с того надо начать, подумал он. Главное, чтобы они сначала поверили. – Начну с истории, – поправился он.
«С истории болезни?» – чуть не спросил Гнат, но сдержался. Все превращалось в фарс.
– Начинайте, – сказал Лёка.
– В середине восьмидесятых годов прошлого века моя лаборатория… в составе трех человек всего лишь, но это были такие люди, смею вас заверить, что… – Голос Обиванкина пресекся, и лицо болезненно исказилось. – Из них уж один я остался, – сообщил он глухо. Помолчал. – Да. Мы создали несколько приборов и с их помощью провели на спутниках серии «Протон» ряд весьма обнадеживающих экспериментов по овладению эффектом антигравитации. – Выговорив безо всякого усилия мудреное по нынешним временам слово, он помолчал и обвел взглядом лица слушателей: поняли они? нет? – Значение овладения этим эффектом трудно переоценить. Наступила бы совершенно новая эпоха, в первую очередь – в космосе. Никаких жидкостных двигателей… ну и на транспорте вообще. Достаточно сказать, что потребности индустрии в нефти, вокруг остатков которой в последние десятилетия, собственно, и вращается вся мировая политика, сразу резко снизились бы.
Охо-хо, уныло подумал Лёка, дымя сигаретой. И из-за такого бреда мы с Лэем…Мать честная!
– К сожалению, эксперименты не были продолжены. Отчасти потому, что кое-кто в руководстве тогдашнего Союза именно эту опасность и увидел в наших исследованиях: не нужна нефть, стало быть, отменяется пресловутая нефтяная игла, питавшая всю экономику страны… падение мировых цен убьет кормушку, а они и в личный карман с нее немало имели… А с другой стороны, именно тогда в оборонных ведомствах впервые появился наш старый друг Акишин, – Обиванкин кинул искательный взгляд на Лёку: мол, вы-то уж меня поймете, вы его видели! – и перебежал многим фундаментальным исследованиям дорогу. Он был лучше приспособлен к тогдашнему нашему рынку: умение красно рекламировать себя, умение заручаться поддержкой сильных мира, умение пугать отставанием от Америки… Вслух, официально, он обещал одним махом решить все проблемы: от полета на Марс до сверхоружия. Ну а неофициально – обещал делиться с некоторыми генералами, от которых зависели решения правительства, сверхсекретными государственными дотациями, которые будут назначены на его авантюры. Словом, наши работы были прикрыты как неперспективные и чересчур затратные. На самом-то деле они стоили гроши по сравнению с тем, что сожрал Акишин и его прожекты… ну да ладно. Дело, однако, в том, что закрытие работ произошло в момент, когда мы уже доводили до ума действующую модель антигравитатора. Она должна была быть испытана во время второго или, в крайнем случае, третьего полета «Бурана». Я не раз бывал на Тушинском заводе во время сборки «Буранов», поскольку именно я отвечал за окончательную компоновку нашего изделия с приборным и энергетическим комплексами орбитального самолета…
Гнат с трудом подавил саркастический смешок. При чем тут какой-то их Тушинский завод? В Украине и ребенку уж известно, давно во всех учебниках написано, что «Бураны» эти и прочие советские ракеты делались на нашем «Южмаше». Просто потом Россия приписала заслуги себе.
Ладно. Не время считаться.
Но, кстати, можно считать доказанным, что старец, если он и впрямь уверен, будто ракету делали здесь, действительно ненормальный и не имел к реальной постройке никакого отношения. Сдвинулся на почве величия державы.
Фарс. Фарс. Как стыдно… во что я вляпался…
Обиванкин почувствовал, что говорит слишком долго. А чем дольше он говорит, тем меньше ему верят. Надо короче, сказал он себе. Он совсем этого не умел. Он привык, что если уж он говорит, его слушают. Пролетевшие с советских времен годы не убили привычку – ведь в новые времена он практически не открывал рта.
– Короче, – проговорил он, немного смешавшись. – Все это время я на свой страх и риск доводил антигравитатор у себя в гараже. Я добился успеха. Изделие у меня в сумке. Его надо установить на «Буран».
Он умолк, бегая глазами по лицам остальных. Ему было страшно. Не поверят, думал он. Не поверят.
– А вы не могли бы, – не спеша прикурив вторую сигарету от первой, осторожно спросил Лёка, – продемонстрировать нам его работу сейчас?
– Я не фокусник, – сухо сказал Обиванкин. – Что вы надеетесь увидеть? Как лампочки моргают? Это вам не ресторан «Старый Иоффе». Необходима система управления, необходимо стартовое энергообеспечение, необходим, наконец, планер с соответствующими аэродинамическими характеристиками.
Его деловитая убежденность подавляла. Лишала способности мыслить критически.
– И мы полетим к бабе Люсе? – завороженно спросил Лэй. Он даже забыл курить.
Обиванкин тепло поглядел на него.
– В том числе и к бабе Люсе, – ответил он. – Одно большое свершение решает тысячи мелких проблем. Это великая истина, Леня. Запомни ее.
Ох, не так все просто с большими свершениями, подумал Лёка. Помолчал, пытаясь стряхнуть гипноз простых, слишком простых и спокойных для бреда слов Обиванкина, потом беспомощно выговорил:
– Но там же сто лет уж аттракцион!
И, сказав эту фразу, сообразил, что, похоже, поверил. Иначе ему было бы все равно – аттракцион там или нет.
Да ни боже мой, подумал он. Не верю.
Всего лишь принимаю его правила игры…
Но он не мог понять, зачем и почему их принимает. Он просто задышал в них, будто ему давным-давно не хватало воздуха – а вот теперь кто-то сбросил колпак, под которым его душили много лет.
– То, что мне необходимо, не могло быть снято, – ответил Обиванкин. – Игрушка-то должна смотреться и работать: питание, натуральный пульт…
Наступило долгое молчание.
Электричка рвала ночь пополам, как черную холстину. По стеклам снаружи бежали, трепеща, косые ручейки дождя. Лязгала катающаяся дверь.
– И чего вы хотите добиться? – негромко спросил Лёка.
– Возрождения, – так же сдержанно ответил Обиванкин. – Это будет… я надеюсь, что это будет… прорыв. Знак народу, что не все здесь еще продано или сгнило за ненадобностью. Люди увидят, что есть еще великие цели и что, самое главное, они достижимы. Вы помните Гагарина? Какая радость, какая бескорыстная энергия кипела! И как бездарно она была растрачена тогдашним руководством впустую, на глупости, мерзости… Мы все давно тоскуем по Усилию. По Благородному Усилию с большой буквы. С тоски мы шалеем. Я в том уверен…
– Вы думаете, нынешнее руководство умнее? – помолчав, проговорил Лёка.
– Сейчас вообще нет руководства, – жестко ответил Обиванкин. Помолчал. – Но, быть может, сами люди немножко поумнели. Поняли цену красивым словам – и про военный престиж державы, и про пролетарский интернационализм, и про суверенитеты, и про права человека… Может, действительно надо было через все это пройти, пережить безмерные потери и угрозу полного исчезновения – чтобы… научиться отвечать за себя. Научиться хотеть и делать. Самим хотеть и самим делать… – Он помолчал, потом криво усмехнулся и неловко сказал: – Во всяком случае, я на это надеюсь. Надо же на что-то надеяться.
И тут Гнат подумал: а вдруг он не псих?
От неожиданной мысли засосало под ложечкой. Точно снова он, без пяти минут десантник, в первый раз готовился прыгать; люк открыт, твердый воздух, ровно поленом, бьет в лоб и в грудь, под ногами – бездна, а в бездне – несущийся заснеженный лес…
Выходит, ориентировка-то была права?
Вот и спасибо ей.
Как Саня сказал? «Будь ты хоть сто раз нерусский и независимый, ради бога – только врагом не будь!» Но врагом чего? Купленных и перекупленных контор? Или людей, которых до сих пор не удалось ни сломать, ни купить?
Быть им врагом я не смогу никогда. Да что там врагом! Эти трое – сейчас единственные, с кем мне хочется быть вместе и что-то делать вместе…
А не ровен час, они и впрямь свое величие восстановят?
Лэй, от избытка восторга перестаравшись с покровительственным тоном, словно старший товарищ хлопнул отца по руке и, красиво выпустив дым, сказал:
– Ну что, пап? Типа сбылась мечта идиота? На Нептун?
Лёка усмехнулся и накрыл его ладонь своей.
– Ох, сын, – ответил он. – Лучше сразу в Первую Звездную. Сперва к бабе Люсе, потом к маме, потом на Тау Кита.
– Чего кита? – не понял Лэй.
Головокружительный парк развлечений и аттракционов имени Эдуарда Амвросиевича Козырева был возведен в считанные месяцы на месте снесенной лет пять назад звездастой тоталитарной громады сталинского МИДа и лежавших окрест старомодных, неприбыльных арбатских закоулков, заняв немалое пространство вплоть до бывшего здания театра Вахтангова; на первом этаже его теперь расположился весьма престижный, особенно популярный среди выходцев с Кавказа мужской стриптиз-клуб «Вахтанг! Ты?» (задорным названием своим обязанный древнему анекдоту о том, как Гиви пришел в зоопарк и в орангутанге заподозрил старого приятеля), а на втором – дом изысканных гетеросексуальных свиданий «Принцесса Турандот».
Четверо нарушителей российской границы добрались к парку в начале третьего. По ночной поре таксист заломил с них такую цену, что денег не осталось даже на обратный путь в Питер; Лёку кидало то в отупение, то в панику. Без документов, практически без копейки, посреди огромной чужой столицы… с ребенком и стариком – вероятно, помешанным – на руках… Было от чего прийти в отчаяние. Наваждение отступило, едва они вышли из заблудившегося в ночи, как в космосе, вагона и реальная жизнь вновь стиснула их так, что сделалось не вздохнуть.
Словно бы молча сговорившись, они угрюмо, с маниакальным упорством продолжали путь – скорее, лишь оттого, что больше им некуда было деваться, оттого, что эту чашу надо было испить до дна и хотя бы так оттянуть момент, когда пришлось бы взглянуть правде в глаза и начать искать несуществующий выход. Лёка старался не думать и бессмысленно, сам не отдавая себе в том отчета, твердил про себя ни с того ни с сего всплывшую в голове при расчете с водилой фразу из какой-то пьесы о Жанне д’Арк – из Ануя, что ли; когда Жанна уговаривала французского дофина собрать армию и напасть на англичан, тот, жалуясь на состояние казны, ответил: «Мне не на что быть великим!»
Оставалось уповать разве лишь на транспортное средство, обещанное Обиванкиным.
Они рассчитывали проникнуть в новоотстроенный рай через служивший ему вратами грандиозный стереопавильон «История России в лицах и позах», где, если верить без устали призывавшей туда телерекламе, что ни день достигавшей и Питера, в режиме нон-стоп крутили мастерски сыгранные и снятые, крайне натуралистичные ролики о том, как извращенные до мозга костей правители «этой страны» дерут своих ни в чем не повинных противников. То Иван Грозный, по временам сладострастно ухая, по временам громко молясь Господу, разнообразно ставил раком волоокого красавца Курбского, то бешеный Петр Первый в исступлении истязал в зад безответного Мазепу, то Екатерина Вторая каким-то не вполне понятным образом насиловала перепуганно повизгивающего крымского хана Гирея, а то Ленин и Свердлов в два ствола куражились над святым Николаем Кровавым… Дольше всего, как поговаривали, длился сюжет о Сталине, потому что, расправившись с трясущим козлиной бороденкой Троцким, лучший друг физкультурников ухитрялся тут же, не давая себе ни минуты отдыха и даже не вынимая знаменитой трубки изо рта, решительно отдрючить весь троцкистско-зиновьевский блок подряд.
План провалился.
Над павильоном и взаправду полыхали, словно неопалимая купина, латинские буквы, складываясь в надпись «Non-stop»; однако ж гораздо ниже, уже на самой двери, была вывешена табличка с надписью по-русски: «Режим работы: 10.00—02.00». Не хватило каких-то тридцати минут, даже меньше; из павильона валом валили последние, наслаждавшиеся до упора зрители – возбужденно похохатывающие, обменивающиеся двусмысленными репликами, а то и открытым текстом, с большим знанием дела обсуждавшие подробности тех или иных актов; из их рыхлой толпы то и дело летели в стороны опорожненные бутылки и жестянки. Лёку поразило обилие женщин всех возрастов; казалось бы – ну что им-то здесь смотреть? Несколько мгновений растерянно поторчав, как хлипкие опоры рухнувшего моста, прямо на пути людского потока, четверо путешественников побрели прочь.
– Слушайте, – сказал Гнат. – В конце концов, мы все равно уже преступники.
– Если бы это само по себе облегчало жизнь… – пробормотал Обиванкин. Он уже еле шел и дважды глотал какой-то то ли валидол, то ли что.
– Само по себе ничего не делается, – сказал Гнат.
– Что вы предлагаете? – устало спросил Лёка.
– Я предлагаю перелезть через стену.
– Нормально, – с солидностью в голосе сказал Лэй.
– Давайте его поймаем… – пробормотал Лёка. И сам себе ответил: – Давайте… – Он одернул себя. Время жизнерадостно сходить с ума еще не пришло; нельзя позволять себе такой роскоши, пока они не выпростаются из навалившегося кошмара. – Вы считаете, это реально?
– А чего ж нет? – пожал плечами Гнат. – Не отсюда, конечно. Сзади. Со стороны, скажем, Староконюшенного переулка или Власьевского…
– Вы так хорошо знаете Москву? – спросил Обиванкин.
– Я много чего хорошо знаю.
– Вы москвич? – не унимался дотошный старец. Только этого не хватало, вздрогнув, подумал Гнат и с кривой усмешкой ответил:
– Нет.
Повисла неловкая пауза.
– Я через стену лезть не смогу, – тихо проговорил Обиванкин.
– Не беда. В крайнем случае я вас переброшу.
– А как насчет сигнализации? – спросил Лёка. Гнат пожал плечами.
– Давайте попробуем просто обойти парк по периметру, – сказал Лёка. – Для начала. В Питере я не видел еще ни одного забора без дырки. А в Москве что? Не русские живут, что ли?
И они пошли. Пошли, без колебаний оставив позади зазывное сияние Смоленской площади и арки над павильоном, не разбирая дороги, прямо по теряющимся в темноте, всплеснуто мерцающим под их шагами лужам, которые оставил недавно пронесшийся дождь.
Лаз они нашли через каких-то полчаса. Все было, как полагается: к стене примыкали старые гаражи, сбоку одного из них, крайнего слева, лежали почерневшие древние дощатые ящики. Их даже не надо было ставить друг на друга: кто-то давно поставил. С них – на гараж, с гаража на стену; а там уже дело техники. Застенчиво кряхтящего и задыхающегося, путающегося в полах плаща Обиванкина Гнат и впрямь принял на руки.
За стеной было темнее, стена отрезала скупой свет редких непогасших окон и еще более редких фонарей; лишь низкие тучи глухо тлели рыжим отблеском горячечно сверкающих проспектов центра. Пахло сырой землей и молодой листвой. Весна. Деревьям-то легко возрождаться… Покуда их не срубили.
– Ну и где? – спросил Гнат.
– Кажется, туда, – отдышавшись, сказал Обиванкин.
Поплутав по каким-то хитропутьям в кустах, исхлестанные мокрыми ветками, они вывернули на центральную аллею парка. Здесь, медлительно дрейфуя сквозь дымку испарений, в ватной тишине горели дежурные огни. Потерянное в черноте небо, слюдяной асфальт, невнятные громады аттракционов и деревья словно бы в неподвижном фосфорическом пару… Зачарованная страна. Шаги четырех пар насмерть усталых ног тупо и гулко били в ночную весеннюю морось. Мне не на что быть великим, твердил Лёка. Мне не на что быть великим. Мне не на что быть. Лэй молчал, терпел, как взрослый, и Лёка восхищался им. Впрочем, мальчик, наверное, не вполне понимал, что они пропали. Совсем пропали. Каких-то несколько часов, настанет утро, их найдут раньше или позже. И тогда… Лёка даже не мог себе представить, что тогда. Это было за пределами его познаний и представлений.
– Вот он, – сказал Обиванкин, и голос его дрогнул. Он даже остановился. Помолчал, звучно сглотнул. – Почти двадцать лет его не видел…
Крылатый стремительный корпус светился во мгле, словно призрак. Призрак несбывшегося будущего, подумал Лёка.
Слева от закрытой крышки входного люка даже при скудном свете ночных фонарей бросалась в глаза грубо намалеванная масляной краской заплата: когда-то там был флаг СССР. По верху фюзеляжа, будто встопорщенный гребень остервенелой рыбы, торчало мигающее неоном название аттракциона: «Простые парни из Айовы спасают мир!»
Ну, наворотили, с привычной тоской подумал Лёка.
Во что превратили машину, с болью подумал Обиванкин.
Во что превратили гордость «Южмаша», с бессильной злостью подумал Гнат.
Вот это, блин, игрушка, восхищенно подумал Лэй. Супер! Днем бы сюда попасть, когда работает… Интересно, почем билет?
Молча и спокойно, словно имея такое право, они поднялись по трапу к люку, простецки запертому на огромный висячий замок. Обиванкин нерешительно тронул кончиками пальцев тяжелую влажную железяку – та заскрежетала.
– Ага, – сказал Гнат. – Понял вас, товарищ научный руководитель. Опять мой выход.
Он порылся у себя в карманах, достал перочинный нож со множеством лезвий и инструментов; он никогда с этим ножом не расставался. Что бы они без меня делали, умники, подумал он без тени превосходства и тщеславия, наоборот, даже с радостью какой-то: хорошо, что я с ними оказался. Попробовал так, попробовал этак… Увлекся. Остальные стояли и безмолвно наблюдали, ожидая; Лёка, обняв сына за плечи, прижимал его к себе – ему все казалось, что мальчик мерзнет. Замок крякнул и, рывком обвиснув, скособочился.
– Прошу, – сказал Гнат.
– Спасибо, – едва слышно проговорил Обиванкин. И тут настал черед Гнату удивляться: старец вынул из кармана плаща фонарик. Кое о чем он и сам догадался позаботиться, подумал Гнат, не только об антигравитаторе своем. Он отступил на шаг в сторону, пропуская Обиванкина. Тот бесстрашно шагнул в черную бездну люка; оставшиеся на трапе видели, как беспросветную внутреннюю тьму продавил широкий конус желтого бледного света и стал удаляться.
– Подождите заходить, – донесся изнутри старческий голос. – Я найду дежурное питание… Однако, подумал Гнат. Специалист.
– Как это ты классно выругался, когда Гнат отключил пограничника? – вполголоса спросил сына Лёка. – Я не запомнил…
Лэй покраснел.
– Не скажу, – пробормотал он.
– Очень сильное выражение, – сказал Лёка, через силу улыбнувшись Лэю. – Как раз для моментов экстремального изумления…
Лэй отвернулся и едва слышно повторил:
– Пиздохен швансен…
– Класс, – сказал Лёка. – Я просто прусь.
– Ага, – сказал Лэй, – запомнил!
– Я же с языком всю жизнь работаю, – сказал Лёка. – Слова – это мои доски и кирпичи. Воспоминания – мои склады. Должен с первого раза ловить и не терять по возможности ничего.
Даже того, от чего больно и что все нормальные люди стараются забыть поскорее, подумал он. Но не произнес вслух.
– Этот оборот я обязательно себе отложу. Но он редкостно экспрессивный, не разменивай его по мелочам. Береги для самых крайних случаев, хорошо, сын?
Лэй молча кивнул.
В люке полыхнул свет, и немедленно раздался надтреснутый от усталости, немощно торжествующий голос Обиванкина:
– Есть ток! Заходите!
Внутри корабль до странности напоминал не так давно покинутый ими мрачный вагон электрички: то же длинное, прямоугольное пространство и те же ряды кресел. Кресла, правда, были поудобнее, как в самолетах, с ремнями-фиксаторами – но их, не тушуясь, безо всякого там нелепого благоговения перед бывшим чудом техники тоже сумела обработать прохожая публика: прорезы, рисунки, афоризмы… На противоположной стене салона прямо напротив входа красовалась сделанная распылителем размашистая надпись синей краской: «Здес иблис John и Мила». А поверху победно сверкало алым, тоже напыленным: «Иблис – это типа шайтан, дэвил крутой. Учи рашн, ебло заморское!»
– Лучше не смотреть, – с виноватой улыбкой сказал стоящий у пульта в переднем конце салона Обиванкин и даже чуть развел руками, словно он считал себя за всю грязь в ответе. – В мое время такого не было.
– Было, – сказал Гнат. – Только не здесь.
Обиванкин смешался.
– Ну, – проговорил он, отворачиваясь, – я, собственно, именно это и имел в виду. – Помолчал. – Простите великодушно, но вам придется поскучать. Прикройте, пожалуйста, люк от греха подальше… вдруг кто-то заметит. И – присядьте. Я тут… э-э… осмотрюсь.
Его обходительность была как антикварный серебряный сервиз в столовой сумасшедшего дома.
Лёка показал Лэю на сиденье; тот плюхнулся и с наслаждением подобрал ноги под себя, уткнув подбородок в колени. Лёка сел рядом.
– Как ты? – спросил он тихо.
– Нормально, – сказал Лэй. – Не боись, живой.
– Ну и прекрасно.
Гнат прошелся по узкому проходу между стеной и креслами в хвост, зачем-то поскреб обивку стен. Ведя пальцами по одному из толстых кабелей, шедших вдоль стены на высоте его роста, вернулся. Сел на крайнее сиденье перед Лёкой. Обернулся к нему, словно желая что-то сказать – но не решился. Отвернулся.
Преобразившийся Обиванкин мудрил у пульта, что-то мурлыча себе под нос. Плащ он скинул на пилотское кресло, и теперь то присаживался на корточки, щупая что-то одному ему ведомое в пазухах пульта, который и Лёке, и Гнату казался стопроцентно игрушечным, киношным, чуть ли не надувным; то вновь вставал, оглядывая и ощупывая эффектные ряды приборов на верхних панелях. Иногда под его пальцами что-то пощелкивало или поскрипывало. Потом, когда он в очередной раз с кряхтением присел, щелкнуло погромче, и откинулась какая-то крышка почти у самого пола.
– Ну вот, – удовлетворенно сказал Обиванкин. – Я же знал!
И опять принялся за свое.
Лёка уже не мог ни возмущаться, ни надеяться, ни ужасаться. Смертельно хотелось спать. Но стыдно было отключиться, пока сын бодрствует. Вот дождусь, когда Лэй задремлет, – и отрублюсь, думал он. А утром… будь, что будет. Наверное, не расстреляют. Да, ведь у нас же нет смертной казни уже… В ушах зазвенели далекие горны, стриженый мощный затылок Гната, хладнокровно ждавшего впереди, косо потянулся куда-то вверх и вбок.
Он уже не видел, как Обиванкин расстегнул наконец свою заветную сумку и с умеренной осторожностью извлек из нее прямоугольный прибор, похожий то ли на видеоплейер, то ли на ноутбук без крышки. Более-менее выспавшийся днем Гнат смотрел во все глаза, но так и не смог уразуметь, полная ли тут фанерная бутафория или просто купленная в комиссионке бытовая электроника. Антигравитатор пробыл в поле его зрения считанные секунды; Обиванкин наклонился и без особого нажима вогнал свой прибор в какую-то щель в цоколе пульта. Что-то щелкнуло, словно сработали некие зажимы или захваты; Обиванкин шумно выдохнул (оказывается, во время этой процедуры он забыл дышать) и медленно выпрямился. Постоял несколько мгновений, глядя то на пульт, то в лобовое стекло планера, за которым дымилась промозглая ночь, – и медленно опустился в пилотское кресло.
В животе у Гната вдруг холодно оборвалась, заклокотала и подкатила к горлу сладкая жуть.
– Ну что? – стараясь говорить спокойно, спросил Гнат.
– Все, – просто ответил Обиванкин, не оборачиваясь. – Установил и подключил.
– Сейчас полетим? – спросил Гнат.
Обиванкин не ответил.
Лэй локтем толкнул Лёку в бок и зашипел:
– Папа!
– А? – вскинулся Лёка, ничего не понимая со сна. – Что?
– Папа, просыпайся, он установил! И подключил!
Лёка озверело принялся тереть глаза.
Гнат смотрел в спину Обиванкину. Тот не шевелился.
– Что, – спросил Гнат, стараясь говорить как ни в чем не бывало, – энергия в батареях накапливается?
Его сердце невесть от чего принялось дубасить в грудную клетку, точно заваленный обвалом шахтер.
Лёка, вытянув шею и окаменев, смотрел на лопоухий седой затылок чародея. За шиворот и на ребра будто начали сыпать ледяную крупу, и мурашки, суетясь, сшибаясь лбами и искря, побежали по коже.
А потом – на Тау Кита…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































