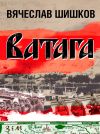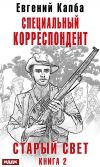Текст книги "Ватага (сборник)"

Автор книги: Вячеслав Шишков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц)
Глава XX
Зыков еще не совсем справился с болезнью. Последние месяцы – от расправы в городишке до тайного убежища на заимке Терехи Толстолобова – искривили его душу.
Настроение его было неровное, зыбкое, как трясина. Его взвинченному воображению то рисовались великие подвиги и слава, то позорный невиданный конец. От этого страшно скучало его сердце, он хотел открыться Татьяне в своем малодушии, но не хватало воли.
– Эх, какой я стал…
Была истоплена баня жаркая, Зыковская. Топил сам Зыков.
Степаниды не было, Тереха, захватив ружье, гайкал на весь лес, искал ее.
Таня сидела в своей горнице под раскрытым окном. Она вся еще была в прошлой ночи, улыбалась большими серыми глазами, прямые темные брови ее спокойны, сердце под черной шелковой кофтой бьется ровно, отчетливо. Как хорошо жить… Скорей бы приходил к ней Степан. Нет, никогда не надо думать о том, что будет завтра…
Зыков разделся. Кто-то ударил снаружи в дверь. Он отворил:
– А, Мишка!.. Ну, залазь.
Медвежонок, набычившись, косолапо вошел с обрывком веревки. Морда и глаза его улыбались по-хитрому. Облизал ноги Зыкову, повалился пред ним вверх брюхом, благодушно заурчал.
Зыков большим пальцем ноги почесал ему брюхо, потом взял винтовку, кинжал, десятифунтовую гирьку на ремне, револьвер и вошел в мыльню. Эх, хороша баня, всю хворь прогонит. Зыков вымоется на всю жизнь теперь. Ну, баня.
Едва он окунул ковш в кадку с кипятком, куда бросали раскаленные камни, как во дворе раздался резкий заливистый собачий лай, а в предбаннике рявкнул Мишка.
– Кой там черт еще! – буркнул Зыков, ковш замер в его руке, а Таня всполошно отскочила от окна и глянула из-за кисейной занавески на двор.
Один за другим въезжали в ворота всадники, их человек двадцать. Раздался выстрел, Таня заметалась, все, кроме одного, соскочили с коней.
– Занять выходы! Встать у каждой амбарушки! – деловито командовал всадник. Он с большими серыми глазами юноша, сухое загорелое лицо, кожаная, выцветшая по швам куртка, ствол винтовки из-за спины, кожаная шапка.
– Боже мой, Николенька, – всплеснув руками, прошептала Таня, и ноги ее подсеклись.
Голоса на дворе, нервные, крикливые, робкие, злые:
– Где хозяин? Эй, тетка!
– Нету, батюшки мои, нету… Бабу убег искать.
– Здесь Зыков? Ну?.. Говори! Где?!
– Ой-ой… Ничего я не знаю… Пареньки хорошие… Вот хозяин ужо придет.
– Взять ее!
– Я знаю, где… – раздался хриплый голос. – А ну, робенки, побежим.
– Николенька, Николенька, – взмолила Таня. Держась за косяк, она полулежала на лавке у раскрытого окна.
Юноша слез с лошади, глянул через окно:
– Сестра!.. – И быстрым бегом в горницу. – Как, ты здесь?.. Татьяна… Тебя Зыков украл? Да?
– Нет… Я сама пошла к нему…
– К нему?.. Сама?!. – Лицо юноши вытянулось, и сама собой полезла на затылок шапка. – К Зыкову?!
– Да. Сама, к Зыкову. – Девушка сразу преобразилась, встала и, сложив руки на груди, засверкала на брата взглядом.
– Татьяна! Ты ли это говоришь?
– Да, я говорю.
– Брось глупости, Татьяна. Ты вернешься с нами. Будем работать… Таня, сестра, голубка…
– Брат… Я люблю его. Умру за Зыкова.
Зыков отпрянул прочь от низкого оконца бани, и волосы его зашевелились: ему померещилось, что с улицы, к самому стеклу, сделав ладони козырьком, приник Наперсток.
Зыков закрестился, закричал:
– Покойник!.. Покойник!.. – и бессильно шлепнулся на пол.
Горбун толстогубо дышал в стекло, и оловянные глаза его шильями сверлили Зыкова, широкие ноздри раздувались.
– Здеся! – крикнул он, радостно подпрыгнул и ударил себя по бедрам: – Ей Бо, здеся!.. Хы!.. Как тут и был… Эй, робенки!..
Горбун рванул в баню дверь… Вдруг Мишка всплыл на дыбы и рявкнул. Наперсток в страхе отшатнулся, но Мишка свирепо двинул его лапой. Наперсток, как лягуха, пал на карачки, заорал. Красноармеец всадил меж лопаток Мишке нож, Мишка оскалил зубы, заплевался и бросился с ножом в лес, широко раскидывая передние ноги и мотая головой.
Внутреннюю дверь красноармейцы быстро снаружи приперли бревном.
– Эй! Живые или мертвые?! – кричал запертый Зыков.
– Живые!.. – хрипло взвизгивал в самую дверь Наперсток. – Ведь я, Зыков – батюшка, Степан Варфоломеич, колдун… Траву-кавыку жру. Ты меня в прорубь спустил, а я рядышком в другую вымырнул… Не досмотрел ты, маху дал… Хы-хы-хы!.. За должишком к тебе пришел… Добрых людей привел.
– А не мертвый, будешь мертвый, собака! – крикнул Зыков.
Сжимая кулаки, юноша шипел:
– Не смей меня называть братом… Я не брат тебе…
– А ты не смей трогать Зыкова… Зыков мой муж! Слышишь? – шипела в ответ сестра.
– Дура, тварь…
– Ой, Боже…
– Тварь!.. Зыков бандит, палач, враг Советской власти. А ты… Еще последний раз говорю: опомнись. Скорей, Татьяна! Могут войти. Тшшш… – Он взмахнул предупреждающе рукой и обернулся к двери:
– Сейчас, товарищи!.. Одну минуту… – и к Тане: – Ну, решай. Со мной или с ним? Сестра, умоляю… Ради нашего детства…
– С ним.
Юноша на мгновение закрыл глаза ладонью.
– Поторопись, товарищ Мигунов!.. Зыкова нашли… В бане… – горячо дышали в дверях три красноармейца.
– Караульте эту! – твердо крикнул юноша. – Не выпускать…
– Скорей, товарищ Мигунов, скорей… – хрипел Наперсток, завидя Мигунова.
Рукава рваного его армяка по локоть засучены, фалды подоткнуты под кушак. Он жался к углу бани, повернувшись боком к бежавшему юноше. Горбун походил на широкоплечего мужика, которому обрубили по колена ноги, всего изувечили, башку отсекли и приткнули кой-как на уродливую грудь, из-под волосатого затылка торчал огромный горб, жирное, коричневое, как сосновая кора, лицо обрюзгло, потекло сверху вниз, все в лишаях, кровоподтеках, ссадинах.
Юноша с брезгливостью окинул его взглядом.
Резко, коротко ударил выстрел.
– Ох, стреляет, черт! – вскричал горбун.
Юноша покачнулся, мотнул ногой и, схватившись за живот, отпрыгнул в сторону.
В бане загремели брань и хохот.
Наперсток хватил в прискочку из-за угла дубиной и вышиб раму:
– Эй, вылазь добром!
– Убивают! Зыкова убивают! – Татьяна птицей выпорхнула из окна и понеслась.
– Стой! Стой! – гнались за ней красноармейцы и стреляли в воздух.
Петух с криком взлетывал, как ястреб, порхали утки, курицы.
Вдруг один красноармеец опрокинулся навзничь и стал недвижим. В бане опять раздался хохот Зыкова.
Наперсток неистово орал:
– Куда?!. Не бегай тут!.. Перестреляет всех!.. Убьет!
Татьяну смяли, поволокли, она билась, кричала, проклинала брата.
Юноша крепко стиснул зубы. Он был бледен, его колотила дрожь, в испугавшихся глазах металось страдание и смертельная тоска.
Собаки заливисто лаяли, растерянно крутили хвостами, но их глаза были люты и оскал зубов свиреп.
Из лесу выбежал Тереха Толстолобов, он остановился, вильнул взглядом туда-сюда и, сразу все поняв, бросился к бане:
– Что, Зыкова добываете? Бейте его, варнака! Жгите его!.. Через него баба моя задавилась… Ой-ты!..
Он шатался, как пьяный, весь был дик, походил на лишившегося рассудка.
– Тащи соломы да хворосту! Чего слюни распустили? – щелкая зубами и воя, кричал он.
Юноша сдерживал стоны и тихо охал. Он лежал на пуховике, под головой подушка.
– Навылет, товарищ Мигунов… Авось, обойдется, – маленький, черный, с черными усиками красноармеец, сбросив куртку, обматывал раненому поясницу и живот бинтом, бинт быстро смочился кровью. Рана была большая и рваная, от медвежачьего ружья.
Красноармейцы – бегом, вприпрыжку – тащили из дому холст и тряпки, стригли, рвали их лентами.
– Товарищ Суслов, – юноша поискал взглядом высокого, загорелого, с белой бородкой красноармейца. – В случае… вы будете командовать… Что, не вылезает? Поджигайте баню…
– Поджигай!!.
– Поджигай!.. Где серянки?..
– Стой! Сдаюсь… – закричал Зыков.
– Стой! Сдается! Зыков сдается…
– Эй, Зыков! Давай оружие сюда.
– На! – Он выбросил винтовку. – На еще, – выбросил пистолет. – Все. Отворяй дверь, выйду.
– Врешь, нож у тебя, – хрипел, сплевывая и матерясь, Наперсток. – Вижу, нож!
– Нету, все…
– Поджигай!
– На, на! – Ножище сверкнул в окне, как на солнце щука. – Где Татьяна? Покличьте Татьяну сюда.
– Вылазь! Бросай гирю…
Гиря бомбой брякнулась на землю.
– Вылазь!
– Открой дверь, дай я оболокусь. Нагишом, что ли?
– Эге! Нет, брат Зыков, – подмигнул горбун и отчаянно сморкнулся из ноздри. – Ты, этакий леший, выберешься, дубом тебя не свалить… Вылазь в окно!
Наперсток и другой плечистый красноармеец прижались к самой стене по обе стороны оконца. В их настороженных руках арканы.
– Вылазь!.. Вылазь, кляп те в рот! – В один голос закричали горбун и Тереха. – А то живьем сгоришь.
– Жги. Не вылезу нагишом. Где Татьяна? Жги.
– Ребята, подкаливай со всех углов!
Солома вспыхнула, густой желтый дым, загибаясь, повалил в баню.
– Сдаюсь, – упавшим немощным голосом сказал Зыков, лохматая голова и широченные плечи его, изогнувшись и царапаясь о косяки, показались в окне. Живо скрутили под мышками арканом и, как коня на поводу, человек десять красноармейцев повели его к Мигунову. Зыков давил ногами землю, словно великан, красноармейцы казались пред ним ребятами.
Наперсток, подбоченившись и слюняво похохатывая, ужимался, опаски ради, в стороне:
– Что, сволочь, хы-хы-хы, будешь честных людей под лед спускать? – Изверченное, будто картечью, лицо его подергивалось, подмигивало, облизывало толстые, покрытые пеной губищи. – Хотела синичка море зажегчи, море не зажгла, а сама потопла.
– Еще пострадавшие есть? – спросил Мигунов. Голос ослаб, прерывист.
– Алехин убит.
Мигунов неспешно, мутными глазами повел от голых коленей Зыкова вверх, чрез живот, чрез грудь, но до головы не добрался, голова где-то высоко, выше сосен, и в глазах Мигунова темнело.
– Расстрел на месте, – сказал он, приподняв и вновь опустив кисть умиравшей, вытянутой вдоль тела руки.
– За что расстрел? – глухо спросил Зыков. Он внешне был спокоен, но лицо потемнело от напряжения воли и потемнели серые глаза. – Я работал на помощь вам.
– Ха-ха! Хороша помощь! – наперебой закричала молодежь. – В городе сколь народу искромсал, вот начальника нашего изувечил, товарища убил.
– Анархия, разбой, Советская власть не потатчица, – резко проговорил Суслов.
– В городу расправлялся по-вашему. Сам в газетине читал, как вы кожу с живых сдираете.
– Врешь, брешут твои газетины! – кричали красноармейцы. – Контр-революционеры пишут твои газетины! Над мирным людом сроду мы не изгалялись.
– Расстрел на месте, – открыв глаза, еще раз сказал Мигунов и быстро приподнялся на локте. – Пить.
Глаза его то вспыхивали, то погасали, как догоревшая лампа. Он жадно глотнул ключевой воды.
Зыкова повели. Он кричал:
– Что ж, милости у тебя, малец, просить не стану! И правде повреждения не сотворю! – Он остановился, и все остановились, он потянул за концы аркана, красноармейцы, взрывая землю пятками, надувшись и кряхтя, подъехали к нему и захохотали:
– Ну, конь.
– А вот скажи мне на милость, – Зыков уставился в грудь, в мутные глаза сидевшего Мигунова. – Бога признаете вы, Господа нашего Исуса Христа? – В голосе его было страдание, последний крик, настороженность.
Мигунов резко потряс головой:
– Нет.
Зыков закачался, по лицу, как ветер по озеру, пробежала судорога, он крякнул и твердо сказал:
– Стреляй тогда…
К нему вдруг вернулось спокойствие, лицо посветлело, на губах появилась улыбка и взор стал радостным, отрешенным от земли.
– На обрыв, на обрыв! Шагай на обрыв! – кричали сосны, люди, камни. Зыков шагал уверенно и твердо, обернулся, проговорил Мигунову душевным голосом:
– Прости меня, милячок… Согрешил пред тобой… Ау! А жену мою Татьяну, – крикнул он громко, – не трог, ради Христа!.. Может, из-за нее гибну, а духом радостен. Ну, ладно. Других умел, сам умей… Прощай, солнце, прощай, месяц, прощай, звезды, прости, матушка сыра-земля.
И вновь закричали люди, закричали сосны, закричали небо и камни. Наперсток с Терехой Толстолобовым трясли кулаками, хохотали в тыщу труб, плевались. Зыков ни разу за все время не взглянул на Тереху. Мигунов застонал, повалился на бок, скорчился, зачмокал губами, во рту было сухо, горько.
– Пить…
Возле него на коленях и на корточках четверо красноармейцев, среди них – Суслов, в круглых очках с остренькой белой бородкой. Лукерья, всхлипывая и кривя рот, сновала от умирающего в избу и обратно, тащила то святой воды, то ручник, то какого-то снадобья в пузырьке, вот принесла черную в светлом венчике икону, поставила и в изголовье умирающего, закрестилась.
Грянули выстрелы. Лукерья ойкнула, подпрыгнула и, заткнув уши, побежала домой.
Мигунов открыл глаза:
– Красному зна… Товарищ Суслов… – голос слабел, углы рта подергивались, дыхание было короткое, горячее, большие, как у сестры глаза глядели в пустоту. – Там, в городе… Целую красное знамя… передайте… Умираю… Девчонку расстрелять…
– Она ваша сестра, товарищ… – откликнулся Суслов, зашевелил бровями, очки на переносице запрыгали. – Она говорила, что…
Мигунов поймал ртом воздух.
– Расстрелять, – и глаза его стали стеклянными.
Татьяна стояла на краю обрыва, как на облаке. Она не чувствовала ни своего тела, ни страха, ни земли.
Кто-то звонкоголосо, страшно кричал, раскачивая небо:
– Ха-ха… Сейчас к дружку кувырнешься, свадьбу править.
Татьяна оглянулась как во сне. Обрыв глубок и камни остры. Меж серых остряков застряло желтое, большое. Узнала: Зыков. Глаза ее мгновенно расширились и сузились. Все плыло, качалось пред ее глазами.
Восемь винтовок, как черные пальцы, прямо указали ей на грудь.
– Пли!!.
Но залп прогремел впустую: Татьяны не было, пули унеслись в тайгу. Наперсток вырвал у кого-то топор и, гогоча, бросился лохматым чертом к пропасти, где лежали два мертвые тела, он с проворством рыси начал было спускаться, но две железных руки схватили его за опояску, встряхнули и вытащили вверх. Наперсток опамятовался, дышал хрипло, глаза налились кровью и вертелись, как у сыча. Он сбросил шапку, отер полой потное лицо и, протягивая руку Суслову, сказал:
– С благополучным окончанием дел… А кто? Я все. Кабы не я, – черта лысого вам Зыкова сыскать… Ручку!
Суслов быстро убрал свои руки назад.
– Наградишка-то будет, ай не? – И широкий рот горбуна скривился в подхалимной, как грязная слизь, улыбке.
Суслов отступил на два шага и громко сказал:
– Бывший партизан Наперсток за кровожадную бессмысленную жестокость, проявленную им при разгроме города…
Наперсток радостно улыбался, торжествующе поглядывая в застывшие лица красноармейцев, он не слышал, что говорит товарищ Суслов, и только одно слово, как полымя, пронизало оба его уха:
– Расстрел.
– Хы-хы-хы, – ничего не соображая, бессмысленно загоготал Наперсток, однако глаза его заметались от лица к лицу и сразу провалились, как в яму, в рот товарища Суслова.
– Взять! – резко открылся и закрылся рот.
Наперсток сразу вырос на аршин, сразу до земли согнулся. Залп – и уродливое тело его заскакало по камням в смерть.
Был поздний вечер, тихий и теплый. Девки пригнали коров и овец. Двор оживился.
Над свежей могилой под зеленой лиственницей, куда зарывали двух красноармейцев, прогремел последний залп в память со славою погибших. Пели революционные псалмы и стихиры. Товарищ Суслов говорил речь.
Тереха Толстолобов с красноармейцем поехали «на вершних» в лес, сняли удавленницу Степаниду с петли и привезли домой. Тереха положил ее в той комнате, где ночевала Таня, зажег лампадку и свечи, крякал, пил вино, утром собирался за попом. Но ему был дан приказ – с зарею вывести отряд на дорогу.
Красноармейцы торопливо обстругивали большой надмогильный крест, Суслов сделал надпись. Крест белел даже среди ночи, на нем висел из хвой венок.
Ночь была холодная, как в сентябре, серпом стоял в небе месяц…
Утро было все в тумане. Тереха повел отряд. Лукерья с девками боялись мертвецов, ушли в лес.
И опять спустилась ночь, темная, без звезд и месяца.
В пропасти кучкой лежали трое: кержак, каторжник и купеческая дочь. В избе, с темным и страшным лицом – Степанида. Возле заимки, с ржавым меж лопатками ножом, уткнув в мох морду, – медвежонок.
Заимка была пуста. Слеталось коршунье.
ТАЙГА
I
И тогда небеса с шумом прейдут, в стихии же, сжигаемы, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят… Но мы нового небеси и новой земли чаем, где правда живет.
Второе послание ап. Петра,гл. III, ст. 10 и 13
Кедровка – деревня таежная. Все в ней было по-своему, по-таежному. И своя правда была – особая, и свои грехи – особые, и люди в ней были другие. Не было в ней простору: кругом лес, тайга со всех сторон нахлынула, замкнула свет, лишь маленький клочок неба оставила.
Деревня – домов тридцать, а кладбище за поскотиной большое, хватило бы на добрый городок.
Когда она появилась на божий свет, – никто путем не знал. Только дедка Назар, вот уже второй век коротавший, сидя на печи, говаривал, еле ворочая непослушным языком:
– Еще когда Петр царем служил, наша деревня-то народилась. Дедушка мой Изот Кедров, покойна головушка, с каторги быдто бы бежал да сел тут. Так и пошло, благословясь, от нашего кореню.
Земли в Кедровке было немного: кой-где по увалам и падям, вдоль речки, да там, на той горе, что приподнялась желтой лысиной над тайгою. Впрочем, мужик и не дорожил землей: ему тайга давала все – и белку, и соболя, и медведя, и орех. Но за последнее время стал падать зверовой промысел, вздорожал хлеб, – и тогда топор загулял по тайге, глубоко врезаясь в ее недра.
Затрещала тайга, заухала, в спор вступила с человеком: насылала медведей на его жилище, пугала лешими. Но устоял человек, все перенес, а тайгу все-таки покорил. И там, где к небу вздымались вековые деревья, теперь зелеными коврами легли веселые нивы.
Деревня жила день за днем, год за годом. Проходили десятки лет.
Старики просили тихой смерти, безропотно умирали, крепко надеясь, что вот там, за могилой, начнется что-то хорошее и светлое, то самое, о чем так болело сердце, скучала душа.
Старики любили друг другу жаловаться на сыновей и внуков, что отбились от рук, совсем из отцовской воли ушли, никого знать не хотят – ни Бога, ни черта.
– Мы за Богом-то эва как следим, – корили они молодежь, – а вы что?.. Эх вы, окаянные!..
Но и старики, и старухи за Богом следили плохо. Да как же: вот какая свара идет между народом, друг другу рады горло перегрызть. А из-за чего, спрашивается, – путем никто уяснить не может.
У солдатки Афимьи телка сдохла – рады. Петруха Тетерев с вина сгорел, Акулину оставил саму четвертую – рады. У Якова мальчонка кашей подавился, помер – рады. Жена Обабка, баба беднеющая, тройню родила – рады! И всегда так случалось, что сначала как будто жалость падет на сердце, словно кто свечку зажег и осветил душу, тепло так, приятно, а потом подошел черт с черной харей, дунул на эту свечечку и притоптал копытом. Вдруг становилось темно в душе, вдруг начинало ползать в ней что-то холодное и подмывающее, и тогда про жену Обабка говорили, зло пыхтя и ворочая глазами: «Так ей, суке, и надо». Но почему работящая жена пропойцы Обабка – сука, какое она кому зло сделала, – разве не больно, разве не обидно ей? Никто такого вопроса себе не задавал, каждому казалось, что эта тихая Обабкина жена действительно всем надоела и всех обидела, действительно виновата, что все, сколько есть в деревне народу, из-за нее, суки, так плохо живут, впроголодь живут, неумытые и темные, донельзя забитые нуждой, озверелые люди, всеми забытые и брошенные, как слепые под забор котята.
Так каждый ко всем относился, все к каждому.
А вот Ивану Безродному прошлой зимой шесть лисиц в кулемки попали, а нонче у Петрухи Зуева рожь хорошая вымахала: у иных градом прибило, у него стена стеной. Этих ненавидеть стали, «черт помогает», говорили. Вдовуха Лукерья лавчонку открыла и богатеть начала – гумно спалили: «не смей». Дядя Изот пьянствовать бросил: «Врешь, старик, на небо полез?..» – засмеяли мужика, проходу не давали, пить стал пуще, с вина сгорел.
Кедровцы не любили, чтоб кто-либо выделялся из них: «Лучше других захотел? Нет, стой, осади назад».
Так и жили в равненье и злобствовании, в зависти и злорадстве, жили тупой жизнью зверей, без размышления и протеста, без понятия о добре и зле, без дороги, без мудрствований, попросту, – жили, чтоб есть, пить, пьянствовать, рожать детей, гореть с вина, морозить себе, по пьяному делу, руки и ноги, вышибать друг другу зубы, мириться и плакать, голодать и ругаться, рассказывать про попов и духовных скверные побасенки и ходить к ним на исповедь, бояться встретиться с попом и тащить его на полосу, чтоб Бог дал дождя.
Мужья били жен молча и стиснув зубы. Били, не находя никакой вины за бабой, а так просто, со злобы, вымещая на ней сердце за свою никчемную жизнь. А потом жалели их, целовались и плакали вместе, но проходил день, проходила неделя – и опять повторялись драки, и опять слышался рев то в одной, то в другой избе. Когда мужики отправлялись в тайгу, на промысел, бабы иной раз заводили шашни с оставшейся молодежью, с кем попало – с прохожим молодым бродягой, с попом-кутилой, с политическим ссыльным. И не всегда ради разврата, и иной раз по озорству, из желания отомстить мужу, сделать ему больно.
Стешка, любясь с пастухом Сидоркой, отлично знает, что кумушки все, с прикрасой, разболтают мужу, наскажут то, чего и не было, – отлично все это знает и нарочно, может, только потому и делает так, что вот взбесится муж, будет тиранить ее, упрекать, изгаляться, а она, вся избитая, выбежит на середину улицы и заорет на весь белый свет: «Уйду, жиган, уйду, пропойца, к Петровану-слесарю, царскому преступнику, уйду!»
Детей рожали без боли и приготовлений, где придется: в лесу и в поле – все равно. Детей у всех было помногу: «Вали, Мавруха, ни-и-чего, хуже не будет».
Жизнь деревни Кедровки – испокон веку так завелось – кололась всегда надвое: то черная полоса, то светлая.
Уродится хлеб, удастся пушной промысел – светло на душе, отрадно. Ходят веселые и довольные, заломив набекрень шапку, разрядившись в сарафан поярче и со скрипами полусапожки. О нужде забыли: ведь вот только что была, еле убралась со двора, еще след не простыл за воротами, но ее не помнят и начинают жить так, как будто заказали ей все пути к возврату. Сладко принимались есть, фамильным чаем обзаводились, одежду справляли, – какую надо и какую не надо, – так, для форсу, гармошки двухрядные покупали, а наипаче предавались пьянству. Пили все, не исключая малых ребятенок, едва отвыкших от соски.
Лица у всех становились веселыми, ясными и приветливыми, злоба на душе таяла, обиды предавались забвению, прежние враги мирились за бутылкой водки, лезли друг к другу целоваться и, плача пьяными слезами, клялись быть «побратимами» до гроба, а в подтверждение слов выползали на улицу и брали в рот землю.
Проходит год, идет другой. Мужики еще с весны начинают примечать, что белки нынче не жди. Это плохо. «Черт с лешим в карты, знать, играли, и леший проиграл всю белку». Зато хлеба будут хороши, вон какие вымахали, любо!
Но вдруг среди лета внезапно падал страшный гость – ранний иней, за ним другой. И все гибло.
Наступала тогда черная полоса жизни.
Эта полоса была живучая, годом не кончалась: жди два, а то и три года: «С ним, с Богом-то, драться не полезешь».
Тогда постепенно, исподволь, как день сменяется вечером, снова наплывало на деревню зло. Со всех сторон, из болот и падей, вместе с туманом, неслышно, по-змеиному заползало оно в избы, туманило всем головы, разъедало сердца и рычащим бешеным псом ложилось у порогов.
По деревне, от двора к двору, натягивались тогда какие-то невидимые дьявольские нити. Кто их плел? Конечно, враг человеческий. В воздухе припахивало недобрым, и все становилось унылым и мрачным. Не услышишь больше светлого смеха: засмеются – зло горохом рассыплется; не услышишь и разухабистой вольной песни: запоют – словно кого хоронят; не звенит ласковый голос девушки: «Ах ты, Ваньша, карий глазок», – слышится вздох молодой, тронутой горем, груди.
Лица становятся хмурыми, глаза голодными и завидущими, рот жадным, руки неудержными, в сердце нарастает боль. Хочется кого-нибудь укусить, уколоть, урвать, выругать, сжить со свету. А иной раз хочется – и откуда прилетит вдруг хотенье! – встать посередь улицы и каждому сказать: «Ребятушки, а ну, пойдем, а ну, наляжем – не подастся ли?» Куда пойдем, на что наляжем – кто его знает. «Ребятушки, ворочай все сверху донизу!» Пожалуй, надрывай глотку. Тайга обратно вернет крик и захохочет.
Вот Спирька-солдат из Питера пришел, домой вернулся, – Спиридон Павлыч Иконников. Всем насказал разных небылиц: и какие города бывают, и какие там люди, и какой свет по ночам пускают… Мало ли он рассказывал!
Потом ушел, окаянный, не захотел остаться дома: «Нешто можно здесь жить… Что я – зверь, что ли?» Побахвалился-побахвалился – да ушел-таки… Слоняется где-нибудь, легкой жизни, сукин сын, ищет… Лодырь.
И так и этак ругали солдата Спирьку, что взманил, что указал перстом в небо, туда, где зори плавают, где все не так, все не по-здешнему, но в душе любили часто вспоминать его речи и втихомолку вздыхали.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.