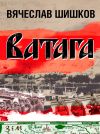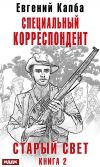Текст книги "Ватага (сборник)"

Автор книги: Вячеслав Шишков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц)
XIX
У полумертвых, изувеченных бродяг трещали в ушах бубенцы и барабаны, перед глазами кувыркались, мяукали какие-то черные хари, все горело внутри, и не хватало воздуху: словно их закружили в дикой пляске черти и, не дав отдышаться, бросили в вонючий провал.
Антон, опираясь на колени и локти, припал к грязному полу, словно воду из ручья собрался пить. Он тяжело охал и стонал.
Ванька Свистопляс, размазывая по скуластому лицу кровь, все норовил приставить и удержать оторванное свое, висящее «на липочке» ухо. Он, весь съежившись, сидел горшком под единственным оконцем и скорготал зубами, пытаясь облегчить боль.
Тюля лежал рядом с Ванькой, закинув руки за голову, и молча смотрел в потолок подбитыми глазами.
Бродяги нутром чуют: быть грозе, – дело одним политиком не кончится, дойдет черед и до них.
Надо бы бежать, но где схоронишься? Догонят, разорвут, в землю втопчут, осиновый кол вобьют. Куда бежать? В тайгу? Но у них все отобрали, ружьишко – и то отняли. Выскочить да караульного зарезать? Красного петуха пустить? Но крепок запор, а маленькое оконце железной решеткой оковано. Нет, не уйдешь: суставы повывернуты, ребра сломаны… Думай не думай – крышка…
По своим углам товарищи забились, молчат.
Только Лехман, растянувшись на полу огромным телом, тяжело сопит, хватаясь за отбитую кирпичом грудь, и злобно ругает всех сплеча: и Свистопляса, и широколицего, с затекшим глазом Тюлю, и Антона. Тем и так тошно, душа изныла, а он без передыху поливает и их, и свою мать, что на свет породила, и тайгу, и жизнь проклятую, и смерть, что не идет за ним.
– Мы тут ни при чем, – стонет Тюля…
– Ни при че-о-ом?!! – гремит Лехман и сердито плюет в воздух.
Сам знает, что ни при чем: судьба сюда свильнула, под обух поставила, но разве судьбу проймешь, разве ей влепишь затрещину? А кулаки зудят… ух, зудят!
Лехман, хрипя и ругаясь, вскочил по-молодому, лицо дикое, схватил за ножку железную печь и, размахнувшись, грохнул ею в стену.
– Товарищ! Что ты? – взмолил Антон.
Лехман зубами скрипит.
– Замолчь, свято-о-оша!! – К Антону медведем бросился, сутулый, страшный, лохматый.
Антон смирнехонько на полу лежит, большими глазами, жалеючи, смотрит на Лехмана.
Враз остановился Лехман, словно с разбегу в стену, голова его затряслась, заходила борода.
– Робя-а-тушки…
Он схватился за лысый череп и отрывисто застонал, словно залаял, потом сразу присел и пополз на четвереньках в угол, а борода по полу волочится, заплеванный пол метет, древняя, седая.
– Товарищи, милые… – глухо стонет Лехман и валится вниз лицом.
Антон уж возле Лехмана, спину его сухую гладит:
– Ах, дедушка ты мой, родной ты мой…
Ванька с Тюлей, стуча зубами, косятся то на Лехмана, то на дверь, за которой гудит народ. И уж не могут понять ни отдельных резких выкриков, ни ругани, что влетают с улицы в решетчатое окно вместе с красной полосой солнечного заката.
– Тюля, – шепчет Ванька. – Чу… кричат…
А народ пуще загудел и вдруг осекся: враз смолкли звуки, отхлынули прочь, тихо стало.
– Ково? – гнусаво и удивленно кричит у двери на улице каморщик. – Бородулин? Вот это та-а-к…
И слышно, как выколачивает о каблук трубку и сам с собой громко рассуждает.
Солнце садится, последним лучом с бродягами прощаясь: ему все равно, все дети кровные. Антону в глаза ударило ласково, Антон щурится, в окошко заглядывает, вздыхая, провожает солнце: может, завтра не увидит его.
Лехман уснул, стонет во сне и охает.
– Антон, – говорит Ванька, – а ты хочешь есть?
– Нет, милый… до еды ли тут?.. Вот испить бы…
Тихо в каталажке, сумерки сгущаются. Где-то корова мычит, ребенок заплакал, собака тявкает.
– Я бы попросил воды, да боюсь, – говорит Ванька.
– Чего ж бояться-то?..
Ванька усиленно сопит и, помолчав, отвечает:
– А как убьют?..
Скоро в каморке совсем темно сделалось и тихо. Уснули, что ли, все или так примолкли.
Кто-то на коне едет.
– Матушка, встречай, – женский доносится голос. И опять все замерло. Лишь каморщик мурлычет песню и кашляет, да бредит Лехман.
А у оконца Ванька с Тюлей. Шепчутся то один, то другой, громко скажут слова два и опять шепотком.
– Антон, – тихо позвал Ванька.
Ответа нет.
– Дедушка!..
Молчит и Лехман.
– Спят, – сказал Тюля.
Ванька Свистопляс почесался во тьме, поворочался и дрожащим голосом тихо заговорил:
– Ох, товарищ… Не приведи Бог, ежели мужики в ярь войдут.
– Да-а-а, – тянет Тюля.
– Аминь тогда наше дело… Эна как мы, рестанты, в остроге четверых надзирателей кончили, всей оравой-то… Вот так же вечером, темь. Уж больно они мытарили нас, прямо зверье… Ну, мы, значит, и сговорились… Пришли это они с проверкой, мы на них… Те, как зайцы, запищали… Знаешь, зайца, когда собака сбреет, он должен как дите заплакать… В ногах валяются, пощады молят… Куда тут… Троих-то сразу кончили, головы о стену разбили. А четвертому, а четвертому-то, Тюля… Мы его… Мы ему…
Тюля долго сопел, потом раздраженно сказал, ткнув в бок Ваньку:
– Не хнычь… Че-орт… Слюнтя-а-ай…
Ванька оправился и приподнялся:
– Мы его, Тюля, свалили да арканом ноги у ляпустей связали, а другой-то конец через спину перекинули да за горло, да и начали в дугу гнуть, пятки к затылку подтягивать. Сначала дурью ревел, как чушка под ножом, потом визжать стал. А мы, черти, ржем, любо… Человек хрипит, а мы пуще налегаем, грудью-то на пол его поставили, быдто колесо какое… Тот хрипел-хрипел – навовсе уснул. Ноги-то крепче оказались, а горло-то, Тюля, не вынесло, хрящ лопнул… Как захрусти-ит… Мы прочь… Ух ты!..
– Ну тя к лешему, – сказал Тюля и сплюнул.
И долго лежат оба молча, хлопая во тьме глазами.
Робость овладела Ванькиной душой, внутри все горит и холодеет. А думы на прожитую дорогу увлекают Ваньку, по тайным тропам тащат, на провалы, на звериные указывают дела. Он ли это делал?.. Да, он, молодой парень – Ванька Свистопляс.
«Я человек темный, я ни при чем, – оправдывается в мыслях Ванька. – Я – сирота… Мне батька чугунным пестиком башку прошиб… Мой батька мамыньку зарезал, а сам задавился…»
Но совесть молчать не хочет, глушит Ваньку его же делами, его же мыслями; видит Ванька убитую, в красном платье, бабу, видит молодую растерзанную девушку и чует: хрустят под арканом хрящи надзирателевой глотки.
«Я… Я… Мой грех…»
– Ты, чертова голова, о чем это думаешь? – строго спрашивает Тюля. – Опять?!
– Я ни о чем… Мне бы вот… Этово… Как его… табачку…
Слышат оба: стоит кто-то у оконца, дышит.
– Эй, есть кто живой?
Поднялся Ванька. Две бутылки с молоком просунулись сквозь решетку, калач пшеничный, картошка, лук.
– Примите-ка, несчастненькие… – сказала женщина и пошла прочь, заохав и запричитав.
А Ванька, прильнув к решетке и придерживая оторванное ухо, ей вдогонку посылает:
– Прости нас, бабушка, грешных… То ли бабушка, то ли тетушка…
Жадно вдыхал Ванька ядреный воздух наплывающей ночи и ловил каждый звук, каждый шорох. Но было тихо вблизи, лишь где-то далеко мерещились еле внятные людские голоса.
Тюля чавкал хлеб и запивал свежим молоком.
– Огонька бы, – сказал, опускаясь на пол, Ванька.
– А у тебя серянки есть? – вдруг спросил все время молчавший Антон. – У меня свечечка есть, огарочек… последний…
Ванька обрадовался его тихому голосу.
Зажгли огарок и укрепили у стены, на воткнутой щепке.
Заколыхался тусклый огонек, задрожала тьма.
– Вот так и жисть наша… вроде как огарок, – раздумчиво сказал Ванька, – догорит, и аминь тому…
– Ну, ты, пое-е-хал… – огрызнулся Тюля.
Ванька, весь всклоченный и измазанный кровью, сидел, обхватив колени, на полу против Антона и смотрел на него тусклым, немигающим взглядом.
– Шел бы в уголок: ты страшный, – сказал ему Антон, – а я помолюсь, у меня дух чего-то запирает, истоптали меня всего…
Ванька отполз послушно в угол и оттуда сказал:
– Вот ты бы поучил меня, как молиться-то… Надо бы… А то я все матерком да матерком…
Антон вынул из мешка завернутый в тряпку медный образок и поставил возле себя на пол.
Вдруг Лехман так пронзительно и тонко взвизгнул во сне, что всех перепугал, все враз крикнули:
– Дедка, дедка!
Тот быстро приподнялся, протер глаза, поводил хмурыми бровями и изумленно огляделся кругом.
– Ты чего это?
– Так… Ничего… – октависто сказал и лег.
– Помоги… Настави… Укрепи, – громко и выразительно шепчет Антон и, распластавшись на полу у иконы, лежит, трясясь всем телом.
Огонек колышется, играет. Антон за всех молится. На душе у бродяг потеплело.
XX
Вся деревня обрадовалась Анне.
Только и слышалось:
– Аннушка… Краля наша… Умница…
И мужики, и бабы, и старые старики, и ребята. Про молодежь и говорить нечего.
Варька черноглазая первая прибежала. Танька пришла. Сенька Козырь с Мишкой Ухорезом пришли. Тереха-гармонист пришел.
Варька Анну к себе ночевать увела: в избе у Анны – покойник, страшно.
Молодежь всей гурьбой провожала Анну. Лишь вышли на улицу, Тереха по всем переборам саданул, девки подхватили проголосную, заунывную:
Уж и где ты, ворон, побывал,
Где, черной, сполетывал?..
Анну под руки вели подруги. Варька за талию обняла ласково.
Все веселы хорошим весельем, тихим.
Сумрачно было. Звезды мерцали с серого неба. Лица Анны не видать. Анна в белом. Анна низко наклонила голову, и как-то незаметно, сами собой, покатились из глаз слезы. А сердце такой светлой радостью вдруг переполнилось, что Анна не выдержала, к подругам на шею бросилась, парней обнимать начала:
– Девушки… Молодчики…
Парни смутились, встревожились, самые ласковые слова в ответ подбирали и пофыркивали носами.
И ни один из них, и никто в деревне даже взглядом не оскорбил приближавшегося Анниного материнства.
– Мы за тебя, Аннушка, горой!.. Только бровью поведи…
Дальше пошли. Черный жучок Тереха не сразу в гармонь ударил: руки тряслись от волнения, сердце шумно билось, – эх, зачем он таким сморчком, замухрыгой уродился!
До Варькиной избы Анну довели, а сами на горку повалили разводить ночные плясы.
Поздний вечер. Сторож с колотушкою начал дозор.
У Прова полна изба народа, мужиков меньше стало, все бабы, старухи, ребятенки. Бородулин на лавке лежит, Пров «шевелить» его не велел, завтра с понятыми подымут, в Назимово потащат, на родную землю. Бородулин весь белыми холстами да темным рядном прикрыт, – старухи натащили, за упокой души жертва.
– Прими… – шептали сокрушенно и клали земной поклон.
Лучина в светце теплилась, пламя дрожало, и дрожали по белым, известкой мазанным стенам большие тени.
Как пчелы, жужжали женщины, про покойника вспоминая: вот какой здоровый, а Бог прибрал, жить бы да жить, всего вволю – богачество, почетливость, – а вот поди ж ты, смерть-то не спрашивает…
– Раздайсь, дай пройти! – сказал, протискиваясь с книгой в руке, Устин, усердный Господу.
Все зашевелились, пуще завздыхали и нетерпеливо закашляли: Устин очень хорошо читает по покойникам, уж таково ли заунывно, таково ли жалостливо.
– Салты-ы-рь, – деловито протянул мальчонка Митька, указывая кулачком на книгу.
Дедушка Устин, лицо тревожное, поклонился в ноги покойнику, народу поклонился, поставил на стол опрокинутую кадушку, на кадушку псалтырь положил, нос очками оседлал, откашлялся и, часто закрестившись, начал. Он ни аза в глаза не знал, в книгу глядел зря, но это ему очень льстило: пусть будет он во всей деревне единый грамотный, и хоть частенько подумывал Устин о своей гордыне, но искушение всегда брало верх. Вот и теперь: зорко смотрит в книгу, тягучим голосом читает, где запнется, пониже к книге склонит голову, свечкой тычет: две свечки горят – одна на кадушке, другая у Устина в левой руке.
Старухи крестятся, охают и вздыхают.
С улицы к открытому окну сторож прилип, снял шапку. Постоял-постоял, прочь пошел и вдруг ударил в колотушку так громко, что задремавший было Митька вздрогнул.
– Салтырь, – опять сказал Митька и сел на пол.
А Устин, как шмель, бубнит без передыху разное:
– Утулима богомать… Святы отцы Абросимы… Сорок мучельников… Помилуй нас… – потом передернет плечами, стряхивая дрему, и умиленно возгласит: – Со святыми упокой, Господи, новопреставленного раба Ивана… Жил еси, жил, в землю отыдеши… Утулима Божжа Мать…
Разбредаются бабы помаленьку. Митьку домой повели. У него одна штанина засучена, другая по полу волочится. Митька трет кулачком сонные глаза и, семеня ногами, бормочет:
– А он будет кадить?.. Устин-то?..
Свечки тают, роняя восковые слезы.
Устин утомился: лысая голова, как росой, кроется потом, голос просит отдыха, гнется чрезмерно спина. Час поздний.
Даша неожиданной смертью Бородулина была потрясена. Что-то закачалось в душе ее, охнуло и порвалось.
Она, приехав, лишь скользом взглянула на покойника, потом забилась к печке за занавеску и, вся дрожа, приникла к Матрене.
Та принялась про все выпытывать, выведывать. Обняли друг дружку, зашептались.
Старушонки поближе к занавеске подвигаться стали, насторожили жадно слух, опасливо поглядывая на покойника.
Дарья все пересказала Матрене: и про Андрея-политика, и про Бородулина, и про Анкино горе: «девка брюхатая, девка не в себе». И на жизнь свою жаловалась, и на мужа-солдата: с какой-то «фрей» в городе снюхался, ее, Дарью, на грех толкнул…
– Нет болезни, печаль, воздухания, – тянет дедушка Устин.
Дарья встала.
– Прощай-ко-ся, тетынька… – надвинула на глаза черную шаль и по стенке вышла на улицу.
Она пришла в запертую Варькину избу. Анна спит крепким сном. Варька на гулянке, отец ее где-то с утра куролесит, пьяная мать под столом храпит.
Испила Дарья воды, взглянула в зеркало, изумилась: чужое лицо на нее смотрит, бледное, глаза чужие, унылые. И не хочется Дарье верить, что это она в зеркале, она – Даша-ягода, Даша-солдатка разудалая, говорунья и песенница.
Садится Дарья у стола, подпирает рукой голову.
Тихо в избе. Лампа чуть светит, выгорает.
Дарья вся во власти дум, собой распорядиться не может: надо спать идти – к месту приросла.
И вьются мысли возле Бородулина, не мертвеца, над которым гудит Устин, а возле живого, сильного, бородатого. И уж от живого Бородулина, от поселенца-вора Феденьки направляются мысли к мертвецу, ее вихлястой дорогой идут, крученой и неверной. И зачем сюда клонят мысли? Бородулин жив… Кто сказал, что помер? Жив! Когда придет в себя, Дарья во всем ему покается: и как Анну хотела извести, и как с Феденькой деньги воровала. Она проклянет ворищу Феденьку, в город уедет, служить будет у барыни, мужа разыщет – примет, священнику хорошему на духу откроется, к главному архиерею говеть пойдет. Жив Бородулин, жив!..
Вспыхнула вдруг Даша, взвилась: кто-то по щеке хватил. Метнула взглядом: никто не прикасался. Это сама себя спросила: «Неужто умер?» – вся кровь в виски ударила. Даша похолодела.
«К добру или к худу?» – опять тайно спросила себя и почувствовала, как черное берет в ней верх.
Но чтоб не видеть, не слышать, прихлопнуть черное, Даша, вся дрожа, шепчет:
«Умер… Пошто ж ты умер-то, Иван Степаныч?..»
И стало ей жаль Бородулина. По-настоящему жаль, до нестерпимой боли.
«Иван Степаныч, Иван Степаныч…» – стонет она. Но черное выше подымается, не дает покоя, душит Дарью.
Это Феденькин охальный взор буравит сердце, это Феденька, подбоченившись лихо, стоит и хохочет, это он, чужой, пришелец, оголтелый, сатана! Его рожа в окно смотрит, он деньги купеческие украл, он подучил Дашу, не словами подучил, глазами воровскими приказал. И уж шипит подлец: «Ты – убийца, ты!» – «Врешь», – хочет крикнуть Дарья, но не может: целая ватага стоит перед ней оборванцев, бродяг, бузуев, незнаемых, стоят нетвердо, топчутся, безликие, безголовые, серые, и в голос орут: «Ты – убийца, ты… И Бородулина убила, и нас убьешь… Тварь, подлая…» Крепко зажмурилась Дарья, – но и так темно, лампа догорела, – крепко виски ладонями стиснула, встала, топнула: «Прочь!» – и сама себе сделала приговор: «Да, я – убийца… я подлая… я тварь».
И как призналась себе, утвердила в сердце признание, точно нагишом перед народом встала: «Потаскуха… тварь…» Ох, если б нож! Лезвием его нанесла бы Дарья радость сердцу.
Мечется Дарья, ломая в потемках руки: «Матушка… заступница…» – и слышит: «Кайся, полегчает». Тут запрыгал вдруг подбородок, зашептали сами собой уста обрадованные речи. И уж некогда ей одуматься, некогда умом прикинуть, ноги несут Дарью к той избе, где еще светит огонек, где страшным сном спит Бородулин. Там Даша скажет миру, там покается, прощение вымолит у живых и мертвого, с незнаемых бродяг, бузуев, лихой навет снимет, себя на растерзание отдаст, – не себя, а тело свое, – не тело, а грех свой: пусть плюют, пусть топчут, пусть!!
Бежит не чуя ног: радостный ветер ее подгоняет, росистые ночные травы ковром легли… Хорошо, свободно.
Тюрьма… Нет, мир все простит, все покроет… А вору Феденьке, мучителю ее – крест… А Дарьиным делам, что через Феденьку объявились, и всей ее паскудной жизни – крест!.. Да, хорошо, хорошо… Вот и избушка, да, избушка. Благослови, Христос…
XXI
Постояла Даша у двери, крепко схватившись за скобку, минуточку подумала: так ли, нужно ли? Но уж ответа не было.
Она быстро шагнула в избу: два огонька дрожат, две свечки восковые. Устин скрипит, на лавке три старухи головами встряхивают, борются с дремой.
Не подымая глаз, подошла Даша к мертвому, опустилась на колени:
– Прости меня, Иван Степаныч, грешную… Это я все, я…
Устин читать остановился, на Дашу смотрит. Старухи проснулись, рты разинули.
Встала Даша с полу – ноги не свои, дрожат, все тело дрожит. Чтоб взять над собою верх, быстро повернулась.
– Вот что, дедушка Устин, да баушки… да мир хрещеный…
Злые шаги застучали по крыльцу: рванув дверь, грозно вошел в избу Пров.
– Лешие! – зарычал он. – Вот лешие-то, вот окаянные-то… Матрен!..
Все насторожились.
– Это что же такое, Матрен… – тяжело дыша, говорит Пров Михалыч проснувшейся жене. – Ведь всех наших коров варнаки зарезали…
– Как? Кто?! – всплеснула руками Матрена.
– Вот, Устин, будь свидетель… трех коров моих, последних, кончили, белых… у Федота двух телков зарезали…
Матрена завыла в голос, старухи, ударяя себя по бедрам, стали ахать и причитать. Устин со свечкой в руке стоял, сгорбившись, и не знал, что делать.
– Это все бродяжня, бузуи-висельники!.. – гремел Пров. – Н-ну, погод-ди!..
Пров суетливо схватил фонарь и вышел на улицу. Воздух в избе вдруг наполнился злобой. И пламя покаяния в Дашиной душе погасло.
Даша стоит как стояла, словно в пол вросла. Лицо красными пятнами пошло, раздуваются ноздри, все тело огнем палит. Иной стала Даша, прежней, назимовской.
– Вот что я хотела… Помер ли Иван-то Степаныч? Может, так зашелся… – как кипятком окатила она Устина и, упруго вздрагивая ядреным телом, будто издеваясь над ветхими старушонками, проворно вышла.
Устин, разинув рот, проводил ее до двери взглядом:
– Сатано… сгинь, лукавая сатано… Тьфу!
Серая ночь была. Звезда покатилась по небу, вспыхнула и осияла сумрак. Идет улицей солдатка – мыслей нет, и уж не ветер радостный подгоняет ее, а черти хвостами подстегивают, не росистая трава стелется у ног, а сам дед-лесовой разметал по дороге свою зеленую бороду и, надрываясь, шипит: «Дура… эх ты, дура!..»
Враз все запело внутри и захохотало, все приникло, все покорилось в Дарье, груды золота рассыпались и зазвенели, а неверное сердце требует: «Бери!.. Все твое…»
Крик стоит в Федотовом дворе. Тесовые ворота настежь. Федот пуще всех горланит:
– Ну, так вот, молодцы… так тому и быть… И чтоб ни гугу, а то всем – край!..
– Это как есть… Чтобы с согласия… Как мир…
– Но, айда по домам!..
– Айда, айда!..
– Погоди: «айда»… Дай Пров придет.
Сторож с колотушкою прошагал. Петухи перекликаются. На горе три костра горят тремя звездочками. На горе песни звенят, гармошка голосит, визг, крики, хохот секут ночной свежий воздух.
Тереха «Барыню» на гармошке жарит, парни подхватывают:
Барынька, не сердись,
Туды-сюды повернись…
Опять крик, опять хохот, и девичьи смеющиеся свирельные голоса.
Два человека к чижовке подошли, уперлись лбом в верзилу Кешку-караульщика, шепчутся. Кешка руками размахивает, что-то говорит, спорит, плюет сердито. Пошептались, ушли.
– Ну и дьяволы!.. – крикнул Кешка, поправил кушак, потоптался на месте и постучал кулаком в двери чижовки:
– Эй, робяты!..
Еще звезда сорвалась, слезинка небесная. Журчала бессонная речка. Из-за тайги желтым шаром вздымается месяц. А парни на горе катали трепака, били в ладоши и звонко голосили:
Дулась-дулась – улыбнулась…
Дулась-дулась – перевернулась…
– Эй, робяты… упреждаю… Слышите?..
Прислушался, склонив ухо к щели… Ответа не было. Огромный, похожий на медведя Кешка, кашляя и сопя, обошел чижовку и, поравнявшись с окошком, еще раз громко крикнул:
– Эй, робяты!
Зашевелились там, заговорили.
Кешка забрал в грудь побольше воздуха и просто сказал:
– Приготовьтесь, робятушки… Завтра вам… тово… утречком…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.