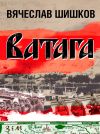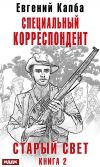Текст книги "Ватага (сборник)"

Автор книги: Вячеслав Шишков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 21 страниц)
VII
Вот и наступил в Кедровке праздник.
Утренняя заря как-то особо нарядно пала на тихие, еще не пробудившиеся небеса. Восток алел и загорался.
Солнца еще нет, но и слепой, настороживши душу, не ошибется указать, откуда оно, сверкая, покажет свое лучистое чело.
Чудилось, что там, на востоке, шепчут стоустую молитву и поют радостную песнь, которую никто не может услыхать, но всяк чувствует.
Чувствует малиновка, разбуженная лучом зари: встрепенулась, открыла глазки и огласила утро трелью. Чувствует сторожевой журавль: стоял-стоял на одной ноге, очнулся, вытянул шею, взмахнул крыльями и закурлыкал. Медведица спала в обнимку с медвежатами, но холод разбудил ее – ага, утро! – встала, рявкнула, всплыла на дыбы, медвежата очухались, посоветовались глазами с матерью и пошли все вперевалочку к ключу умыться. Ярко-золотая полоса восток прорезала, грядущему не терпится – надо заглянуть, надо обрадовать – свет идет!
– Светает, – шепчет старая Мошна и, шамкая и прожевывая что-то беззубым ртом, спускается в подполье – целы ли двадцать два рубля.
Золотая полоса на востоке все шире, шире – кто-то приник к ней пламенным оком и заглядывает на зеленый мир.
Раскачивая ведрами и крестя на ходу сладкий позевок, идет к речке молодуха. Холодно. Вздрагивает плечами и прибавляет ходу.
Где-то ворота проскрипели. Другие. Третьи.
Мычит корова. Баран проблеял, десяток откликнулся веселыми, бодро звучащими поутру голосами.
Столетний дедушка, в белой до колен рубахе, шаркая ногами, вышел из калитки, сделал руку козырьком и, обратясь серебряным лицом своим к востоку, истово закрестился, приговаривая:
– Праздничек Христов, помилуй нас.
Молодуха назад идет:
– Здравствуй, дедушка…
– Здорово, батюшка… Кто таков?
– Я – Наталья… Не признал?
– А-а-а… Ну-ну… Наталья Матреновна. Как не признать… Здравствуй, Машенька, здравствуй… Спасет господь…
Та улыбается – лицо свежее, умылась на речке студеной водой – и, упруго покачиваясь, уходит.
Солнце встало. Весь мир светом наполнился. Вспыхнули огнем окна сцепившихся друг с другом, как в хороводе девушки, и приросших к горе избушек. Повеселел бархат пасмурной тайги. Засеребрился, заискрился крест часовни, а ворковавший на нем белый голубь стал розовым. Небо, чистое и бледное вверху и на востоке, все еще серело мглой на западе: туда умчались сраженные светом остатки ночных сил.
Деревня проснулась. Собачонки по дороге носятся, облаивая стадо. Баба помои из лохани вылила, сороки тут как тут, скачут, вырывая из-под носа у сонных ворон самые вкусные куски. Жучка на трех лапах – четвертую медведь отгрыз – лает на сорок: сама помои любит. Но те враз заливаются хохотом и, взмахнув крыльями, усаживаются на прясло.
Люди во дворах, в избах, на улице перекликаются ласковыми голосами: Иванушка, Дуня, братец.
Попахивает дегтем, навозом, гарью. Но вот повыше заберется солнце, тогда из-за реки повеет хвойным, таким бодрящим, острым запахом.
В логах и распадках речки еще стоят белые туманы. Раздумывают: растаять бесследно или спуститься к воде и припасть к зеленой щетке камыша?
Теплей и теплей становится. День будет жаркий. Солнце все выше забирает.
К часовне торопится старик Устин, усердный господу. Росту он маленького, лицом светел, в седенькой бородке, весь обликом в Николу-угодника, и взгляд голубых глаз такой же строгий, но милостивый. Сапоги его медвежьим салом смазаны – собаки принюхиваются, щетинят спины и отрывисто хамкают, показывая злые зубы. Рубаха на Устине длинная, новая, еще не мытая, топорщится нескладно на сутулой спине, подпоясана тунгусским, шитым бисером поясом. В гору подымается Устин, а сапоги грузные, а в ногах силы мало, натрудил, болят, трудно идти в гору. Он еле отрывает сапоги от земли, сам весь вперед подался, с надсадой тащит за собою ноги как ненужную ношу и кряхтит.
– Батю-то будить? – кричит ему Федот, выставив из калитки тугой живот в жилетке с цепью.
– Буди: вот чичас ударю… Уж время. Эн где солнышко-то.
Вскоре прозвучал первый радостный удар небольшого колокола; удар за ударом лились от часовни звуки, катились в тайгу, а навстречу им в деревню торопливо плыли такие же, но далекие и робкие звоны неведомой часовенки, только что родившейся в тайге.
Петька, трех годов парнишка, прижимаясь к ногам матери, удивленно шептал, заложив в рот кулачок:
– Мамынька, это кто звоняет? – и кивал головой на тайгу, где была неведомая, как в сказке, часовенка.
– Дедушка Устин.
– Устин-то э-э-вот. А там медведь?
Старики и старухи поплелись, часто перебирая ногами и медленно подвигаясь вперед. Мужики тоже выходили на улицу и лениво шагали, заложив руки назад, или усаживались где-нибудь на завалинке, чтобы в виду была часовня: пусть Устин дергает за веревку, идти что-то не хочется, вот батя выйдет да пока еще обрядится, да женщины иконы поднимут, с крестами из часовни мимо на пашню пойдут – тогда можно и пристать. Вина-то хватит-ли? К Мошне сбегать можно, денег нет – ничего, поверит, вот белки Бог пошлет… Бом-бом… Медведь… Вот бы штук пяток промыслить, две красных шкура. Нет, лучше на прииски идти, там какую копейку заработать можно… В город бы, чего там есть – поглядеть бы… Тут в тайге умрешь, ничего не увидишь… Как бы к девкам не полез… Он у нас проворный, подберет полы да вприсядку… Ха-ха… Поп. Бузуям – бродяжне – надо окорот сделать, лабазы, паршивцы, грабят… Пакостники… Бам-бам… Господи помилуй, праздник… Баба на сносях, холера… Вот Палагу надо в сеновал затащить, девка добрая, леший ее задави… Бам… Бам… Господи спаси… Праздник… Тьфу ты пропасть, грех! Никола милостивый…
И лезут грешные мысли, лезут. Принюхиваются мужики, пахнет хорошо: убоинкой пахнет – щи преют, оладьями пахнет. Вином по деревне понесло: рано бы, еще вино в подполье стоит, не откупорено, но у мужика в носу свербит, он заранее охмелел, веселые бесенята в глазах скачут, в ушах комариками кто-то попискивает. Глядят мужики на Устина, а тот все еще за веревку дергает, колокол поет, а в тайге откликается зеленая часовенка.
Федот прошел в суконном пиджаке и в шляпе. Народу на горе много собралось. Мужики встали с завалинки, пошли гурьбой к часовне. Федот что-то говорит в толпе, руками размахивает, волосы коровьим маслом смазаны – блестят, цепь на брюхе блестит.
– Вот это поп, – говорит Федот, – открыл это я, значит, завозню, батя лежит вверх бородой, мычит… Мухи на рыло-то ему насели, быдто пчелиное гнездо… Что, думаю, такое…
– Надо подымать! – кричит Устин.
– Подымал, ругается.
– Иконы подымать, – поправляет Устин. – Без него управимся!
– А батя-то не придет? – спрашивают бабы.
– Даже невозможно. Он ночью-то, робяты, встал, да бражки сладкой с четверть и ополовинил.
Бабы улыбаются. К часовне молодяжник с ружьями подходит. Бабы прихорашиваются, поджимают поприветливей губы и наполняют праздничным смехом глаза.
Устин вдруг из звонаря главным человеком сделался.
– Тимоха, наяривай вовся! – командует он. – Ну, бабы, да и вы, мужички, которые попоштеннее, айда, благословясь.
Тимоха, в розовой рубахе парень, весело идет к звоннице и, широко улыбаясь, хитро подмигивает девкам и начинает радостный трезвон.
Из часовенки, мерно выступая, выходит с образом Божьей Матери Федот. За ним, по две в ряд, зардевшиеся и сразу похорошевшие, молодые бабы. Каждая пара несла икону, убранную крестиками, ленточками и бумажными цветами.
Когда вынесли крест и фонарь, вышел, держа в руке курящееся кадило, Устин, усердный Господу. Народ с иконами стоял по обе стороны крыльца, Федот с Казанской на ступеньки забрался, держа на животе образ.
Устин в новой своей рубахе, обливаясь каплями пота, струившегося с морщинистого лба и лысины, низко по три раза кланяясь, покадил сначала Федоту, потом каждой иконе по очереди и махнул свободной рукой в сторону свирепо названивавшего, все еще улыбавшегося придурковатого Тимохи.
Но тот, привстав на цыпочки и яростно перебирая колоколами, не догадывался, что надо кончать: служба начинается.
– Шабаш! – крикнул Устин, сердито покадив в сторону расходившегося звонаря.
Потом одернул рубаху, крякнул, переложил кадило в левую руку, поправил усы и бороду и бараньим голоском благоговейно начал:
– Благословен Бог наш, робяты, навсегда и вныне и присно и во веки веков!
Сказав это, Устин усердно закрестился, а народ пропел: «Аминь».
Тимоха волчком подкатился к иконам, – ждать некогда, – бухнул каждой в землю, торопливо приложился, чуть образ у Федота не вышиб, тот сказал ему: «Легше!» – и, протолкавшись сквозь толпу, опять встал под колокола.
Устин, воодушевившись, вновь замахал кадилом и запел:
– Радуйся, Никола и великий чудотво-о-рец!
Многоголосая толпа подхватила.
– Наддай! – весело крикнул Устин, подав знак Тимохе.
– Айда, благословясь, робяты… Трогай…
Толпа всколыхнулась и запела под заливчатый, плясовой Тимохин трезвон.
Но вдруг, заглушая все, загромыхали выстрелы. Ребятенки, взвизгивая и хохоча, били в ладоши, кувыркались перед поспешно заряжавшими шомпольные ружья парнями.
– Пли! – неистово кричал, задыхаясь от радости, парнишка Митька.
Парни палили залпами и в одиночку.
– А ну, громчей! – надсаживался Митька.
Все, предводимые Устином, двинулись вперед, медленно переступая и вздымая по дороге пыль.
Всполошенные на веревках псы одурело выли, пела толпа, трещали всю дорогу выстрелы, а вдогонку летел веселый медный хохот.
Устин чинно шел впереди, окруженный беспоясыми, чумазыми, поддергивавшими штаны босыми мальчишенками, время от времени взмахивая кадилом, и заливался высоким голосом.
Митька раза три забегал вперед Устина и, повернувшись к нему лицом, пятился задом и нараспев слезливо просил:
– Дедушка Устин, покади-и-и мне… А деда, покади-и-и…
Но тот, весь ушедший в небеса, отстранял парнишку рукой и выводил:
– «Ну, взбранный воевода победительный…»
Митька вновь неотступно вяньгал:
– Покади-и-и…
– Пшел! – шипит Устин. – Вот я те покадю!.. – И, догоняя бабьи голоса, подхватывает: «Тираби, твои, богородицы…»
Вся деревня шла за крестным ходом в поле.
Столетний Назар далеко отстал. Он с горы-то шибко побежал, девки шутили: «Куда ты, дедушка, успеешь…» Да и теперь, кажется, переставляет ноги быстро, локтями стучит старательно, а – удивительное дело – отстает. И у деда слезы на глазах, лицо все в кулачок сморщилось.
– Отстал, спасибо… – шамкает столетний и плачет, утираясь подолом рубахи. Сел на луговину, уставился мутными глазами на высоко поднявшееся солнышко.
– Праздничек Христов, помилуй нас.
Крестный ход остановился под тремя заповедными лиственницами, у большого, еще прадедами врытого на самых полосах, креста.
Толпа стояла под лучами солнца. Было жарко, и всем хотелось попить холодненького и поесть.
А Устин все новое и новое заводит. Бабы устало повизгивали, мужики подхватывали сипло и неумело.
Красноголовый, весь в веснушках дядя Обабок, чтобы заглушить куму Маланью, рядом с ним ревевшую диким голосом, оттопыривал трубкою губы, выкатывал большие глаза и, подшибаясь каждый раз рукой, пускал местами такую оглушительную, не в тон, завойку, что ребятенки испуганно оглядывались на него и изумленно разевали рты, а мужики смеялись:
– Эк тебя проняло! А ты за Устином трафь… Чередом выводи, а не зря…
Устин без передыха пел, перебирая разные молитвы.
Слова молитв были чужие, непонятные для молящихся, они сухим песком ударяли в уши и отскакивали как горох от стены, не трогая сердца. И только сознание, что сами поют и сами служат, окрыляло души, и у некоторых глаза были наполнены слезами.
Иногда Устин долго мямлил, не зная, как произнести возглас, крякал, махал усиленно кадилом, громко приговаривая:
– Вот, ну… Паки… паки…
Но ничего не выходило.
Пользуясь такой заминкой, лавочник Федот повернулся к Устину и произнес многолетие, после которого красноголовый Обабок, нимало не жалея горла, так сильно хватил врозь, что все сбились и засмеялись, даже строгий Устин улыбнулся. Красноголовый сконфузился, отер мокрое лицо, протискался в самый зад и молча стал на краю, задумчиво обхватив живот.
Наконец Устину подсказали:
– Станови народ на колени… Давай свою хрестьянскую…
Тогда Устин передернул плечами, задрал вверх бороду и громко прокричал, подражая священнику:
– Вот… ну… Айда на коле-е-ени!..
Толпа, словно дождавшись великой радости, многогрудно вздохнула, опустилась на колени и дружно приготовилась слушать свою «хрестьянскую».
Устин, весь преображенный и напитанный воодушевлением, четким и трогающим голосом, то повышая, то понижая ноты, начал:
– Господи ты наш батюшка, воистинный Христос…
Все еще раз вздохнули, закрестились, забухали головами в землю, с надеждой поглядывая то на безоблачное, ласковое такое небо, то на седенького, в розовой новой рубахе, лысого Устина.
А тот, все больше и больше воодушевляясь, продолжал:
– Вот, всей деревней просим тебя, Господи, помази рабам своим: дождичка нам пошли ко времени, хлебушка хошь какого уроди, пропитай нас всех, верных твоих хрестьян…
– Пропитай, Господи, – вторила молитвенно толпа.
– Чтобы зверь лесной скотину не пакостил, чтоб белки поболе было в тайге, чтоб лиса в кулемки попадалась, чтоб всем нам, хрестьянам твоим верным, в животе и покаянии скончати… Вот… ну… этово…
– Конопля проси… Конопля… – глотая слезы, шепчут бабы.
– Бабам! – радостно восклицает Устин, потерявший было нить. – Бабам, верным нашим рабам, конопля уроди, Боже наш. Чтоб всем нам в согласии жить, полюбовно, значит, без обиды, чтоб по-божецки… Да…
И Устин, уперев кулаками в землю, тяжело поднялся и, еле разгибая спину, закончил высоким выкриком:
– И во веки веко-о-в!
Многие из молящихся плакали от таких простых, милых сердцу слов молитвы.
Вскоре все кончилось, и толпа пестрой волной поплыла обратно в часовню, где неугомонный Тимоха так яростно набрякивал в колокола, словно желал во что бы то ни стало выбить из них голосистую душу.
С пригорка от часовни был виден кусочек сверкавшей на солнце речки и барахтавшееся в ней большое желтое бабье тело. Это поп выгонял из себя хмель, плавал, сильно ударяя по воде ногами, и гоготал на всю деревню.
Посмеялись крещеные и стали разбредаться со счастливыми лицами по домам.
Праздник начался хорошо.
VIII
Бахнул выстрел.
– Гоп-го-о-п… – чуть послышался голос.
– Это чалдон ревет, – сказал Лехман.
– Не черт ли, дедушка? – прошептал Тюля, уперев руками в землю и готовясь вскочить. – У нас, бывало, в Расее…
Светало. Туманом заволокло всю тайгу, и бродяги казались друг другу в неясной утренней полумгле какими-то серыми, словно пеплом покрытыми, огромными птицами.
Где-то тревожно кричит кукушка, над бродягами белка скачет: сухая хвоя полетела и густо падает в бороду Лехмана.
– Надо выстрел дать, – советует он Тюле.
Тот взял ружье, насыпал на полочку пороху, досуха вытер отсыревший кремень, свежий трут положил. Курок щелкнул, но трут не воспламенился, новый вставил – не берет. Бросил. Распятил рот до ушей, вложил четыре пальца и таким лешевым свистом резанул воздух, что, показалось Антону, дрогнул туман. Кукушка враз замолкла, белка оборвалась с лесины в потухший костер и, взмахнув хвостом, скрылась.
Бродяги захохотали и вдруг смолкли.
– Братцы… Постойте!..
– Иди-и-и!.. Сюда-а-а!.. – гаркнули бродяги, враз поднявшись.
Затрещали сучья, зашуршала хвоя, все ближе, ближе, опять послышался крик почти рядом и вдруг, как из-под земли вырос, встал из туманной мглы человек.
– Братцы…
Донельзя ободранный, высокий и согнувшийся, он стоял перед бродягами, покачиваясь и зябко подергивая плечами.
– Братцы… – еще раз сказал, опустился на землю и положил возле себя ружье.
Плечи острыми костяками торчали вровень с макушкой головы. Лицо изможденное, весь колючий, всклокоченный, черный, глаза дикие.
Ванька испугался глаз, за Лехмана спрятался, а Тюля, засопев, пробормотал:
– А ну, перекрестись…
Лехман зыкнул на него:
– Разводи костер!
– Дедушка…
– Что, сударик? Это ты где себя? – и сел возле пришельца.
Тот схватил руку Лехмана, уперся в его плечо лбом и от сильного волнения едва выговорил:
– Чуть не сдох, братцы… Чуть не пропал…
Антон уж на коленях перед ним, гладит его по голове, душевно говорит:
– Ни-и-че-го-о… Ишь ты как… а?
Туман начал подбираться, сгущаясь в рваные, тянувшиеся понизу, плоские облака. Только в логах, где мочежины, он густо и надолго залег белым молоком.
Сквозь сонные вершины пробрызнули лучи восхода. Раздвинув ласково туман, они упали на корявый ствол распластавшегося над бродягами кедра. И полилось и заструилось небесное золото, закурились хвои, замерцали алмазы ночных рос. Всеми очами уставилась тайга в небо, закинула высоко голову, солнце приветствует, тайным шелестит зеленым шелестом, вся в улыбчивых слезах.
Благодать золотая на мир опускается, млеет тайга. Пойте, птицы, выползайте из нор, гады ползучие и кусучие, – грейтесь на солнце: солнце пожрало тьму. И ты, медведь-батюшка, иди гулять, иди: вон там холодная речка гуторит, вон там в дупле пчела пахучий мед кладет. Пойте, птицы, радуйтесь, славьте яркое солнце! Хозяин лесной, а ты не кручинься, – сгинь, сгинь! – иди в болото спать, ты не печалуйся: над тайгой солнышко подолгу не загащивается.
Пред сосной, в тени, бьет Антон земные поклоны, умиленно взглядывая на медный, прислоненный к стволу, образок. Лехман с Тюлей все еще у ключика полощутся, Ванька чай кипятит.
Все зашевелились, к котелку примащиваются, расцвели все на солнце, зарозовели. Ожил и пришелец. Он улыбался, чашку за чашкой пил с сухарями чай: он неделю ничего не ел, вот белку третьего дня убил, пробовал – невкусно, душа не принимает, порох кончился, спички кончились, без огня – смерть.
Бродяги его не расспрашивают, неловко. Сам стал рассказывать, как еще раннею весной из дома вышел. Он в тайге сколько раз хаживал, тайга ему знакома: то по солнцу идет, то по приметам. На пятнадцатые сутки, когда уж хотел домой идти, стал через речку по буреломине переходить, да и оборвался. Вода сразу обожгла, ножом резанула, а ночью холод ударил, иней пал. Простыл, свалился, сколько дней без памяти лежал – не знает. А пришел в чувство – во всем теле слабость, и соображение изменило, и нюх пропал сразу как-то, вдруг. С этого и началось. Бродил-бродил – не может как следует утрафить, все возле речки кружится. Нашел переход через речку, ту самую лесину отыскал, – переполз кое-как на карачках, шел, шел, шел – тайга. Все места одно с другим схожи до крайности: листвень, ель, сосна, кедр, кедр, а вверху – небо с овчинку. Солнце в это время не показывалось: целую неделю морока стояли, весенние дожди выпадать начали. Что тут делать? Он в одну сторону, он в другую – нет, чует, что закружился окончательно. Глядит: опять к той – проклятой – лесине вышел.
– Тьфу! Сел под елью, с досады слезы покатились. Три заряда у меня осталось. Эх, думаю, трахну в рот. Представил себе это: вот я, молодой, сильный, кругом сосны шумят, птицы, цветы… и вдруг… Нет, думаю… еще рано…
Антон, вскинув брови, набожно перекрестился и жалеющим взглядом уставился на пришельца.
Все выше и выше вздымалось солнце. Туман исчез, и тайга ярко-зеленым живым морем вновь охватила сидевших у костра людей.
Каша упрела хорошо, обед был сытный.
– Ну что ж, товарищи, как? – спросил Лехман, засовывая за голенище бродней тщательно облизанную ложку. – Дальше пойдем али как?
– Я не могу, я очень утомился…
– Ну, так чо! – весело воскликнул Лехман. – Тогда, робята, давай отдыхать седни… Куда спешить!
Ванька, насвистывая плясовую, на рыбалку отправился. Пришелец лежал, закинув за голову руки, глядел в небо. Дед корзину из молодых веток плел, Антон сидел возле него и чинил шапку.
Тюля так налупился каши из украденной крупы, что брюхо барабаном вздулось. Он, самодовольный, подполз к пришельцу и ядрено заулыбался:
– А ты, мил человек, женат?
– Женат.
– А ты из каковских?
Тот покосился на него, сказал:
– Я политический.
Тюля в ответ боднул головой, вскинул брови, крепко зажмурил глаза-щелочки, пошлепал, втягивая воздух, толстыми губами и принялся чихать:
– А я… ч-чих… а я… расейский… Ачих-чих! Тьфу!
– Эк тебя проняло!.. – крикнул дед.
– Ччих! Комар… комар в ноздре… Дык спалитический?
– Да.
– Ну, стало быть, земляк… – еле переводя дух, заключил Тюля и вновь, под общий смех, на все лады принялся чихать: он ползал враскорячку по земле, неистово тряс головой, таращил на смеющегося Лехмана глаза и, весь багровый, грозил ему веселым кулаком.
Потом вдруг вскочил.
– Ах, обить твою медь! – и опрометью бросился в кусты.
Лехман, повалившись на бок, закатился громким хохотом:
– Вот так это Тюля, вот так расейский человек!
– А где мы примерно находимся? В каком месте? – осведомился пришелец.
– Да, однако, днях в трех-четырех от Кедровки, – ответил Лехман.
– Что?! – быстро приподнялся тот и уперся о землю локтем. – От какой Кедровки?
– От какой… Кедровка одна в этих местностях… От Назимовской…
Пришелец встал, встряхнул волосами и во все глаза уставился на Лехмана.
– Ух ты дьявол! – вдруг взвился вдали резкий, отчаянный Ванькин крик. – Оле-ле-о-о!.. Ух ты! Дедка, дед, ташши ружье!.. Медведь, вот те Христос, медведь! Ух ты дьявол! Оле-ле-о-о!..
Лехман засуетился, с ружьем, согнувшись, к Ваньке кинулся, а навстречу Тюля из кустов чешет.
– Назад, дедка!.. Ведмедь там, ведмедь!..
Когда все успокоилось, Тюля развел от комаров курево и принялся врать Антону:
– Я, это, как отбился от своих от расейских самоходов, на Амур-реку ударился. И вели мы там, Антон, просек, чугунку ладили… Дык этих самых ведмедев-то, однако, штук шестьдесят враз на деревню выгнали… Ну, мужики тут их, голубчиков, и умыли. Мужики передом на них прут, а мы, значит, сзади напирам… Как начали качать, да как начали… Аж пух летит… Кто топором, кто из стрелябин… Знашь, така машина анжинерска… как порснешь-порснешь…
Андрей-политик лежал на спине, смотрел, не мигая, в небо и прислушивался к пушистому шелесту хвой.
«Неужели – близко?»
Много за это время Андрей передумал, много перечувствовал.
– Анночка, – шепчет Андрей и видит голубые глаза, такие грустные и укорные, что сердце глухо замирает, а губы от волнения дрожат и прыгают.
И опять думает Андрей и не может оторваться от думы: колышется возле, шепчет, вдаль влечет, торопит – скорей, не медли…
И уж кружатся мысли радостные, радостно в ладоши бьют, звенят колокольчиками. Все страшное изжито, впереди радостный труд, впереди Аннины лучистые глаза и ее душа особенная, новая, не как у всех, новая Аннина душа.
– Вот ты, говоришь, спалитический… А скажи, сделай милость, что они, эти самые сполитики? – подает Лехман голос. – У меня один знакомый такой был, вроде как из ваших… Что же, у вас шайка, что ли, такая?
Андрей не сразу оторвался от дум. На Лехмана смотрит: Лехман корзину плетет, Ванька с Тюлей за грудки друг друга берут, борются.
– За кого они, к примеру, стоят, в кого веруют?
– За народ стоят, за правду.
Лехман, положив руки на колени, долго и внимательно разглядывал Андрея, потом сказал:
– Так-так-так… Стало быть – верно: не впервой слышу… Дело доброе…
Солнце спускалось за тайгу. Наплывали сумерки.
А как замигала в небе бледная звезда, повел Ванька, лежа на брюхе, сказку:
– И вот, значит, жила-была парица-змеица, прекрасная королица… И пошел к ней мужик, по прозвищу Борма, правду искать… Вот ладно… Шел, значит, он, шел… И вдруг как выскочит из-за кустов страшный Оплетай, одна рука, одна нога… «А-а, правды захотел?!» – да как вопьется ему в лен, значит, в шиворот, и начал кровь сосать…
Андрей борется со сном, но глаза сами собой смыкаются, все куда-то плывет и затихает…
… – «Ты кто таков?» – «Я страшный Оплетай, одна рука, одна нога»…
Андрей перевернулся лицом к кедру и крепко заснул.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.