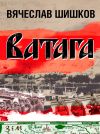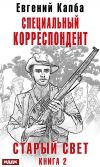Текст книги "Ватага (сборник)"

Автор книги: Вячеслав Шишков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 21 страниц)
XVI
Солнце стояло высоко. Матрена пошла к завозне – храпит купец. На речку сбегала – не едет ли хозяин? Нет. Пошла вдоль улицы.
У сборни мужики. Лица мятые, глаза красные, заплывшие. Обабок в кумачной рубахе, в новых продегтяренных чирках, с фонарем под глазом, но при бляхе.
– Надо обыскать… – говорит он, поправляя начищенную кирпичом бляху.
– А по-моему, выпустить, да и все… Народ, кажись, смирный, – несмело заводит пьяница Яшка с козлиной бородой.
– Сми-и-рный?! – наскакивают на него. – А помнишь?!
У Яшки в груди хрипит, он кашляет, словно собака костью подавилась, и, уперев руки в колени отекших ног, жалеет:
– Мне што ж, мне все равно… Хошь век держи их… Хошь на цепь посади, а только что… Полегче надо бы…
Мимо них по улице священник верхом на Федотовом коне едет. За ним кривая Овдоха на кобыленке тащится.
– Здорово, батя! К домам?..
– Восвояси, отцы, восвояси… – хрипит батя, щуря на них узкие свои глаза.
– А молебен-то?
– Да чего, отцы… Простыл в речке… Еле жив… Не знаю, как и доплетусь.
– Грива! – злорадно взвизгивает бабьим голосом угреватый парень и, быстро присев, прячется за мужиков.
Батя, понукнув коня, надбавляет ходу.
– Вот это поп… – хохочут мужики, – этот поповать может подходяшше-е-е… Ха!
Подошла Матрена.
– Ну, как?! – спрашивают мужики, поздоровавшись. – Хозяин-то вернулся ли? Анка-то какова, краса-то наша?
– Да, вишь, нет еще Прова-то… Гость у меня, Бородулин.
– Бороду-улин? Ребята, айда с проздравкой! – радостно вскрикнул черный, в плисовых штанах, дядя, по прозвищу Цыган.
– Ну, дак чо, мо-о-жно, – откликнулись, а подыматься лень – сидят.
– Куда… Он спит, разнемогся: лихоманка, чо ли… – сказала Матрена и пошла.
– А-ах! – крякнул Цыган и, состроив плутоватую рожу, поскреб под картузом висок.
– Надо бы выпить-то, – сказал он, сплевывая.
– Ну дак чо? И выпей. Купи у Федота.
– Ха-ха! – хохочет над собою черный, вывернув карманы плисовых штанов. – Купи! Купило-то притупило. Вишь?
И у всех так, год плохой был, денег нет, а выпить хочется. В долг придется взять, без этого не обойтись: можно теленка заколоть да – Федоту, свинью заколоть да – Федоту, самовар стащить, машину швейную стащить – берет. Только баба ругаться станет – пусть, бабу по уху. Дочка? Дочку за косу. Двустволку можно в заклад пустить. А к Бородулину с проздравкой надо обязательно, подаст хоть по стакану.
Обабок вдруг басом рявкает:
– Робяты!..
– Чтоб те разорвало! – вздрагивают мечтающие мужики, смешливо отодвигаясь от Обабка.
– А може, как ежели пошарить, да у них окажется рублев пяток, а? Как вы понимаете?..
– А и вправду, – согласились мужики.
– Айда! – скомандовал Обабок, и все, не торопясь, пошли к чижовке.
Каморщик Кешка замочком щелк:
– Робяты, вылазь, начальство требует, десятский с сотским.
– В чем дело? – октависто рассыпался Лехман и появился в двери.
– А так что желаем обыск произвести, – подошел к нему Обабок, – револьвертов нет ли али бы чего… и все такое…
– Я те произведу! – сказал грозно Лехман.
Мужики опешили.
А тот, высовываясь из двери и держась рукой за косяк, говорил:
– Отпустите нас в тайгу. Мы шли стороной, вас не трогали, никакого худа вам не сделали. За что нас взяли?
– А очень просто!.. – кричал, не зная, что сказать, Обабок.
Лехман вышел, огромный и сутулый, перекрестился на часовню и направился к тайге.
– Стой, куда?! – враз вскричали мужики.
– За нуждой, – ответил тот, не оборачиваясь.
– Кешка, Сенька, бери топор, айда за ним! – командовал Обабок.
– У меня нож что бритва, – на бегу отвечает Сенька Козырь, за ним Мишка с колом, нагоняют деда.
К сборне, как и вчера, опять народ стал подходить.
Солнце к полудню не подобралось еще, а некоторые уже успели клюнуть, другие хмельны вчерашним. На душе тоскливо, нехватка в празднике, надо драку всей деревней завести.
Больше всех хотелось этого Обабку: забурлило в душе, как в бочонке брага, вот идет, идет – подступает к сердцу, нашептывает в уши, мутит башку.
– Эй, вы, шпана! – рычит он. – Выходи на обыск… Ты! Козья смерть!
Антон знает, что ему кричат, и ужасается: не было догадки перепрятать деньги.
– Ванюшка, голубчик… – шепчет посиневшими губами, – иди-ка ты передом-то… Ох ты, господи…
А Обабок уж в чижовке, за ним народ, заслонили дверь, стало там темно, внутрь взошли, чижовка большая.
– Робята, шарь, – распоряжается Обабок.
Принялись обыскивать Свистопляса: шапку вывернули, штаны прощупали, из рваных чирков всю солому вытрясли, выпал «клап виней», мешок перерыли, нашли рубль двадцать, отобрали.
Ванька ухмыляется, – слава богу, сошло благополучно, – и сыплет мужикам прибасенки. Те посмеиваются, с любопытством наблюдая, как два парня и Обабок выбрасывают из его мешка всякую рвань.
– Эх ты, искало-мученик, – весело подмигнул он Обабку. – Что, все? Боле не нашли?
– Все! – взмахнул Обабок кулаком.
– Стой, чертило этакий, – увернулся Ванька. – А это что? Все? – и в руке его блеснул полтинник. – Видишь? Ну-ка, понюхай, чем пахнет! – вскочив на ноги, сует в самый нос попятившегося Обабка. – Гляди, ребя: фють! – подбросил полтинник вверх, и тот бесследно исчез.
– Ха! – хакнула толпа.
– А теперича смотри! – вскричал Ванька, незаметно покосившись на копошившегося в темном углу Антона. – Раз – первый, два – другой, а серебруха-то у рыжего начальника под бородой! – он дернул за бороду Обабка и достал полтину.
Все захохотали, а Обабок, широко осклабясь и почесывая за ухом, милостиво приказал:
– Ослобонить!..
– Вот спасибо, ваше благородие, – хихикнул в кулак обрадованный Ванька.
Обабок гордо оглядел подбитым глазом толпу и поправил на груди бляху.
– Шарь другого!
Стали обыскивать Тюлю.
Народ стоял в чижовке, очень довольный тем, что видит: ни у кого не было в сердце злобы, все смотрели на Ванькин фокус с любопытством и чувствовали себя празднично, как у ярмарочного веселого балагана. Задние, скаля зубы, напирали на передних, а те, пыхтя, кричали: «Сдай назад, чего прешь!» – и ретиво осаживали. Девки и бабы, затесавшиеся в середку, вызывающе повизгивали.
Тимохе-звонарю больше всех фокус понравился. Чтоб покороче познакомиться с Ванькой Свистоплясом, сел возле него на корточки, хлопнул дружески по плечу и осклабился:
– Дай-ка, паря, покурить.
– Курила бы у тебя вошь в голове! – шутливо ответил Ванька, незаметно подталкивая к Антону свой, уже подвергшийся обыску, мешок.
– Говорок, язви его! – смеялись мужики.
– Говорок – съел у твоей бабы творог!
– Ха-ха-ха!.. вот и возьми его за полтора с полтиной…
Антон понял Ванькину подсобу: трясущимися руками всунул что-то в мешок и, крадучись, толкнул обратно.
– Ах, сво-о-о-олочь! – вдруг покрыл все голоса Обабок.
Толпа замолкла и метнулась в тот угол.
– Это у тебя откуда лисица, а?
– Я сам убил, вишь – ружье у меня, – робко ответил сидевший на полу Тюля.
– Сам?! И это сам?! – Обабок выкинул новые вожжи и со всей силы двинул сапогом Тюлю в бок.
Тот взвыл и, обомлев, пополз к стене.
Толпа замерла. Похолодел Антон.
– Выть?! Ты еще выть, жаба?! – орал Обабок, подскакивая к Тюле.
– Ой, дяденька… Не бей! – в ужасе закрылся тот рукой.
Обабок, прикрякнув, двинул Тюлю кулаком.
– Негодяй!.. – вдруг вскочил в своем углу Андрей и шагнул к Обабку. – Как ты смеешь, негодяй?! Как ты смеешь?! – Он был страшен и диким выражением лица и вмиг взвившимся резким голосом.
– А-а-а, – протянул, подбоченившись и чуть попятившись, Обабок. – Ишь ты! А ежели я тебе в ухо порсну?! – Пальцы правой его руки заиграли. – А ежели я тебя… – и он, стиснув зубы, сжал кулак.
– Ты кто? Ты десятский?! – еще смелее наступая на Обабка, кричал Андрей. – Десятский?!
– Пшел, погань!.. Не замай!!!
Ванька Свистопляс, врезавшись между ними, испуганно молил:
– Андрей… Андрей… Уймись, пожалуста… – и, растопырив руки, легонько отодвигал политика к стене. – Плюнь, не вяжись!
Обабок кашлянул, поутюжил бороду и повернулся к Андрею задом.
– Шарь этого… холеру-то… – кивнул он головой на притихшего Антона.
Андрей-политик мешком сидел на полу, растерянно хватался за голову, споря и ругаясь с Ванькой.
– А я чо-то зна-а-ю… – протянула, склонив набок голову, белобрысенъкая девочка Акулька.
– Старик пришел, пустите старика, – послышалось с улицы.
– А я чо-то зна-а-аю, дяденька Обабок, – опять пропищала Акулька, – он эвот куда схоронил… Вот подохнуть. Грамотку какую-то…
– Ково? – переспросил Обабок и вместе с Акулькой нагнулся к мешку Ваньки Свистопляса.
Антон открыл рот и впился глазами в руки Обабка, торопливо развязывавшие мешок.
– Ведь искал… брось!.. – несмело сказал Ванька.
– Удди!
В чижовке было жарко и душно, пахло потом, винным перегаром, луком и махоркой.
– А! Вот оно что! Ребята, деньги!.. – Обабок тряс над толпой пачкой бумажек.
– Деньги!! Ура… Деньги!
– А они твои? – раздался с улицы голос Лехмана. – Пусти-ка меня… Ну, сторонись, что ль!!
Передние сразу посунулись.
– Милый… – на коленях просил Обабка Антон. – Ради Христа…
– Расступись!! – гремел Лехман… – Это что, грабить?!
– Ради Христа… Ради господа…
Лехман схватил Обабка за горло и грохнул его на пол. Все растерялись. Задние повыскакали на улицу. Ванька в суматохе быстро вырвал деньги из рук Обабка, но Цыган ударил Ваньку по затылку, выхватил у него пачку и, подняв руку вверх, сильным плечом проложил себе дорогу на улицу.
– Эво они!.. Вяжи, ребята, бузуев… Выходи на улку… Эво они!..
Андрея-политика охватила дрожь.
Лехман, прислонившись спиной к стене, тяжело пыхтел. В его руке сверкал клинок ножа.
– Изувечу! Убью!.. – хриплым, уставшим в схватке голосом рокотал он. – Мне каторга не страшна… Только тронь хошь одного, всем вечную память загну!!
– Мы вас, варнаков, нешто шевелили?! – кричал Обабок. – Ты мне, старый черт, полбороды выдрал!..
– Полезешь – башку оторву да в бельма брошу!
– Милые мои, – хныкал Антон, – я вам в ножки поклонюсь.
– Отдай, чалдон, деньги! – сказал грозно Лехман. – Добром отдай…
– Обабок, выходи! – кричали с улицы.
– Кешка, запирай! – скомандовал Обабок, и все, пятясь к двери и со страхом следя за сверкающим ножом деда, высыпали на улицу.
– Еще мы тебя спросим, ворина, где деньги взял? – пригрозил, отдуваясь, Обабок.
– Господом прошу: отдай… В Россию, к своим иду, помирать иду… В земельку свою лечь… – стонал Антон и, поднявшись с полу, со скрещенными на груди руками, несмело подходил к стоявшему за порогом на улице Обабку. – Прошу… умоляю… – Глаза Антона были полны слез, и тряслась хохолком бороденка. – Десять лет копил. Ребят обучал по деревням.
– Кешка, залаживай!
Когда захлопнулась дверь, Антон стал что есть силы бить кулаками и коленками в запертую дверь.
– Отдай!! Отдай!! – вопил он исступленно. – Деньги отдай!.. Мои кровные отдай!..
Голоса, шумя и пересмеиваясь, удалялись.
– Так твою так… вот это – встретили! – вздыхал Ванька, щупая затылок.
– Ах, обить твою медь, – подхватил и Тюля.
Лицо Антона вдруг помертвело.
– Ребятушки… Смерть… – Антон с размаху сел, словно ему перешибли ноги, свесил на грудь голову и распластался на полу.
– Воды давай! Тащи к окошку! – суетился Лехман.
Андрей-политик, уставив в решетчатое окно голову, пронзительно кричал:
– Эй, эй… Отопри!.. У нас человек помирает!..
Но кругом было тихо. Лишь вдали наигрывала гармошка, и выводили песню два мужских голоса: на лугу у речки собиралась молодежь.
XVII
Дедушка Устин, сгорбившись, петухом наскакивал на мужиков, сидевших на завалинке:
– Ограбили – и квиты?! Ах вы, непутевые!
– Иди-ка, дедка, иди! Вот тебе на церкву две красных… и проваливай… – сказал Обабок.
Он вытащил из кармана горсть денег и отсчитал трешками, выбирая самые старенькие, двадцать один рубль.
– А достальные возворотите, грех… По правде надо.
– Ну, ладно, возворотим… Проходи!
Устин строго посмотрел на мужиков и пошел к часовне, устало переставляя согнувшиеся в коленях одеревеневшие свои старые ноги.
А мужики разделили по пятерке на дом, остальные решили в пропой пустить: гуляй вовсю, на неделю хватит.
Девчонка Акулька тем временем прибежала к избе старосты Прова и, запыхавшись, крикнула:
– Тетынька Матрена, а у бродяг-то деньги…
– Врё… Много?
– У-у-у, папуша… Вот подохнуть… Мужики за вином побегли.
– Врё?..
– Вот подохнуть…
И припустилась рысью сказать мамке, чтоб пятерку у тятьки отняла: пропьет.
Бородулин чайничал у Матрены. Не дослушав Акулькиной речи, вскочил, табуретку опрокинул, сорвал с гвоздя картуз, да на улицу:
– Это мои, обязательно мои…
А в ушах его шум гулял, болезнь из головы выходила, и в этом шуме грезилось: «Деньги найдешь, – быть»…
И, не спрашивая встречных, – сами ноги несли, – спешил к той заветной, пьяной завалине, где ходила уже чарка зелена вина.
– Братцы, у меня деньги пропали!
Точно бичом хватил: чарка остановилась, Обабок сразу присел на луговину, все затихли и, разинув рты, смотрели на Бородулина.
– Какие, Иван Степаныч, деньги, когда? – притворчиво спросил Цыган.
Бородулин все подробно рассказал: как с топором бежал по улице за жуликом, как в волость ездил, и про видение сонное в тайге: денег не жаль ему, лишь бы вора изобличить, только бы найти разгадку сну.
Мужики смотрят на него, дивятся: заикается Бородулин, руками машет, не в себе.
– Вы у бродяг, братцы, деньги-то отобрали?.. Обязательно мои…
И опять:
– Кешка, отворяй!
– Робенки, выходи!
Лехман высунул из двери голову и кивнул своим:
– Кажется, старшина, товарищи, пришел. Ну-ка…
Один за другим вышли четверо. Ограбленный Антон оправился и весь вдруг наполнился надеждой: глаза сразу Бородулина разыскали, улыбнулись ему и запросили пощады и милости.
– Который? – Всех четверых взял взглядом Бородулин.
– Вот, – сказал Обабок, указав ногой на Антона.
Тот поклонился низко Бородулину и заговорил:
– Мои, господин старшина, у меня отобрали… кровные мои.
– Не он, – перебил Бородулин, – этого наздогнал бы.
– Отпустите нас, сделайте милость, мы своей дорогой шли… – загудел и Лехман.
Андрей из чижовки вышел.
Что-то ударило купца по сердцу, кто-то в уши крикнул: он!
– Это кто?!
Лехман, оглянувшись, куда показывал Бородулин, сказал:
– Это Андрей, политик тут один, недавно в тайге к нам пристал.
Зашатался Бородулин, защурился: так ярко вспыхнул в глазах огонь, все сказавший, на мгновение туманом все покрылось, – и вдруг:
– Он!!
– Бородулин, Иван Степаныч! – радостный голос раздался, и Андрей шагнул к Бородулину. – Иван Степаныч!
– Он! Ребята, бей!!
Бородулин крякнул, привскочив: трах! – мимо, увернулся; трах! – кто-то на руке повис.
– Бей!.. Кто это? Нож, нож, нож, лови, держи, режь!
А в гору во весь дух летит он, враг, он, окаянный, живой оборотень, он!
– Держи-и-и!!
А сзади мужики с кольями, с ножами, с кулаками:
– Держи! Держи!!
Тропинка в тайгу стегнула. Андрея не видать, прытко бежит, смерть по пятам несется.
– Напересек, напересек ему!!
– Держи-и-и!!
Сучья трещат, гам, ругань: ломится тайгой деревня, осатанели мужики. Бородулин впереди, легче пуху, себя не чувствует.
– Обутки сбросил, стервец… За мной!..
– Айда!!
Тропинка на луговой пригорок взметнулась, хорошо видать: нет врага, скрылся…
– Ребята! Сюда!.. Эн шапка!..
И слышит притаившийся в чаще Андрей, как, тяжело пыхтя, бегут мимо него, незримого, незримые люди: обманул их, бросил шапку вперед по тропинке, а сам в чащу, замер.
Кончилась лихая вереница, три мальчонка в хвосте бежали.
Андрей, пригибаясь к земле, бросился наискосок к речке и, еле переправившись вброд, пал в кусты, потеряв сознание.
А у чижовки оставшиеся мужики вихрем налетели на бродяг:
– Бей! Рр-работай! – сшибли их с ног, и началась расправа.
Все в клубок смешалось. Ревом и стонами задрожал воздух; лаяли собаки, визжали и плакали женщины, надрывались, яро хрипя, хмельные мужики. Бродяг били кулаками, били палками, топтали огромными подкованными сапожищами, где-то кирпич нашли – били кирпичом.
Вдруг:
– Стой! Что вы, окаянные!.. Стой!
Лысый, с грозным огнем в главах, Устин совался возле кучи извивавшихся тел и взмахивал руками:
– Стой! Остановись!..
Не сразу очнулись: руки ходу просят, осатанелые глаза кровью налились, на кулаках вбросили бродяг в чижовку, с руганью захлопнули дверь и, надсадисто дыша, буйно повалили в тайгу, на подмогу погоне за Андреем.
А старый Устин, в большущих своих сапогах, все также подгибая ноги, торопливо вслед мужикам кинулся и не переставая звал:
– Воротись, лиходеи!.. Прокляну!.. Стой!!
В свалке Лехман кудрявого парня ножом пырнул. Парень лежал у чижовки вниз лицом и стонал, а на него лили ключевую воду. Плакала над ним в голос мать, ахали и ругались оставшиеся возле мужики, а пьяный отец, по прозвищу Крысан, лез драться к ключарю Кешке и диким голосом ревел на всю деревню, взмахивая огромным топором:
– Отопри, тебе говорят!.. Всех один кончу… Всех!!
Был полдень.
XVIII
В это время тайгой ехали трое: Анна, Пров, Даша… Эта насильно увязалась, упросила Прова Михалыча: праздник, погулять охота.
Отец с дочерью впереди, Даша далеко отстала: конь уросит, а Даша отвыкла от седла, боится.
У Прова душа играет, он глядит в спину дочери, на статную, крепкую, с обнаженными белыми икрами, фигуру, радуется: дочь говорит правильно, про все выведывает, все знать хочет, болезни не видать.
Дарья, как въехала в тайгу, вздохнула отрадно полной грудью.
Она давно не бывала в тайге, забыла ее ласковый говор, смолистый запах ее. А когда-то, лет пять тому, в девичью чистую, золотую пору… Эх, матушка-тайга!..
Чувствует Даша: творится что-то в душе, какие-то мысли, какие-то слова на языке вертятся… сердцу тяжело.
Тихо едет Даша, вся в себя ушла, осматривает пугливо свою солдаткину жизнь.
Как познакомилась с купцом да связалась с Феденькой, жизнь пьяной сделалась, соромной: то с Бородулиным гуляет, то с уголовным, надвое себя рубит. И пока пьяная, пока бушует кровь – все нипочем, а вот ляжет Дарья спать, – весело ляжет, весело уснет, – но сны видит страшные: по ночам стонет, кричит, сама себя пробуждает. Перевернет мокрую от сонных слез подушку, закинет руки за голову и задумается. Хочет мысль направить на новый путь – не может, душа не принимает, очернилась, других дум требует: пьяных и разгульных, как ее, Дарьина, гулящая жизнь.
«Эх, все равно», – махнет, бывало, рукой и даст дорогу пагубным своевольным своим мыслям. А досыта надумавшись, вновь заснет веселым, улыбчивым сном. Наутро глядь: сердце тоской зашлось.
И вот уж Дарье невтерпеж: Феденька ножом грозит, перед народом стыдно, на божий свет глаза не подымаются, а впереди страх: придет домой муж-солдат – расплата коротка.
Дарья ищет забвения, до бесчувствия пьет, часто посматривает в сеновале на перекладину, веревку в мыслях примеряет, но вовремя рубит мысль, сама себе приказывает: нет! И, прижавшись щекой к стене, ревет в голос.
– Эй, Дарья! – крикнул Пров.
Даша очнулась, оглядела тайгу и стегнула лошадь. Лицо ее разрумянилось, печальные глаза в слезах.
– Богородица!.. Ангели!.. – шепчет Даша, прижимая ладонь к груди.
– Не отставай! – вновь крикнул Пров.
Сливаясь своим серым зипуном со стволами деревьев, он ехал впереди; за ним, в белом, – Анна. Даша взглянула ей в спину и открывшимся сердцем вдруг неожиданно потянулась к ней, как дым к небу. Словно кровное, самое родное учуяла в Анне.
«За что же я ее? Ангели!..» – скорбно укорила себя Даша.
И стало ей жаль Анну, в первый раз пожалела, с собой сравнила, вспомнила, как отравой собиралась опоить, и еще жальче стало Анну, тихую и неповинную.
Вся в порыве, хлестнув лошадь, нагоняет Анну.
Хочет упасть перед нею на колени, многое хочет ей сказать, но кто-то отстраняет ее от Анны.
– Анна! – позвала Даша. – Аннушка… Дяденька Пров!
Молчат, не откликаются. Тайга молчит. Жутко стало.
Пров остановил лошадь:
– Ну-ка, передохнем не то…
Стали чай варить. Анна живо насбирала сушняку, веселая ходит, светлая, костер разложила, на отца смотрит ласково. А Даша пригорюнилась, губы кусает, опять жизнь свою издалека осматривает, от начала дней, как стала себя помнить.
Пров за дочкой ухаживает: то хлеб ей пододвинет, то комаров черемуховым веником смахнет с ее лица.
– Ты у меня разумница… Помощница моя, утеха…
Обо всем его расспрашивает Анна: о матушке, о дедушке Устине, о буренке. Отец отвечает, шутит с ней, прибаутками говорит.
Анна улыбается, а отец пуще рад. И вдруг неожиданно кидается Анна отцу на шею:
– Ох, родимый ты мой… Во всем тебе откроюсь… все скажу… Одного только мне…
– Н-и-ичего, доченька, – утешает Пров и косится на ее живот.
– Батю-ю-шка…
Только лишь на лошадей сели: поп едет по тропинке, за ним, попыхивая трубкой, грудастая Овдоха.
– Здорово, Пров Михалыч…
– Ах! Батя… – крикнул Пров, – а мы только что почайпили…
– Эка штука… Не знал… Мы тоже недалече вот с кумой-то, с Авдотьей Терентьевной, тово… Чайком, значит, побаловались… Хе-хе…
Овдоха вспыхнула и, одернув красный сарафан, испуганно уставилась кривым глазом на попа.
– Ну, как там у нас, в Кедровке? Молебен-то служил?
– Слу-у-жил… – улыбнулся батя.
Овдоха выхватила изо рта трубку, хихикнула в горсть и, покрутив носом, насмешливо кашлянула.
– Ну, прощай, батя, – сказал Пров, тронув коня, и, обернувшись, крикнул: – а Бородулин у нас?
– Не видал! – прокричал батя. – Слушай-ка, дядя Пров! А у тебя водчонки нету?
Но Пров уже скакал, нагоняя дочь и Дашу.
И вновь едут трое таежной тропой, сумрачной и тихой.
Вечерело. Замыкалась тайга, заволакивалась со всех сторон зеленым колдовством.
У Анны дрожит душа, от ветерка неверного колышется, невидимое чувствует, видимое обращает в сказку.
И уже замелькали меж стволов лесовые шиликуны, тени кой-где ходили и прятались, огоньки вспыхивали и гасли. Шорох плыл, и посвистывал в болоте леший.
Пров ничего не видит, ничего не слышит, шапку надвинул на брови, молчит.
Дарья вся в себе: ставни наружу закрыты, псы сторожевые спущены. Нет Дарьи, солдатки оголтелой, веселой Даши, говорухи и песенницы, здесь только голубиная женская душа.
Сумрак наплывает, прохладный и сырой. Ночь близится.
– Ну, теперича, девахи, недалече! – кричит Пров и проверяет взглядом знакомые места.
Собака Лыска уж не забегает в гости к каждому кусту и пенышку, прямо бежит перед лошадью, язык на плечо – устала.
Что-то белеет впереди, расступилась тайга, тропинка на долину вышла: белый туман по речке лениво стелется, в деревне огни.
Анна увидела родные места – перекрестилась, глаз оторвать не может от мелькающих знакомых огоньков.
– Матушка!.. – кричит она. – Эй, матушка! Встречай!!
К броду спускаются – нет матушки, в деревню въехали – нет матушки, и не видать на улице народу.
Только в том конце, где дом Прова Михайловича, что-то неспокойно.
– Ой, худо у нас! – не то подумалось Прову, не то Анна проговорила.
Упало у мужика сердце.
Подъезжают. У открытых ворот толпа. Увидали – гвалт подняли:
– Ну, с гостьей тебя, Пров Михалыч… Да еще с гостем. Иди-ка, брат, в избу, гляни!.. От-то шту-у-ка!..
Забыл себя Пров, страх вломился в душу, боится и во двор вступить…
Матрена вышла, подбежала к Анне, целует, плачет и сквозь слезы и ласковые слова кричит Прову.
– Бородулин-то… Ох, светы мои…
Но уж Пров в избе, изба народом полна, душно, но тихо и торжественно.
На лавке – с закрытыми глазами Бородулин.
И в двадцатый раз говорит Матрена:
– И как прибежал это он, батюшка, с бою-то… глаза выкатились, трясется. «Ой, что-то, говорит, Матренушка, дух заняло…» Прислонился к забору да как рухнет!.. Только и жил…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.