Текст книги "Христианство и зло"
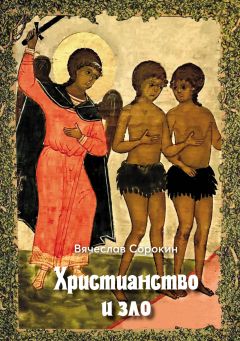
Автор книги: Вячеслав Сорокин
Жанр: Религиоведение, Религия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Но чуда не произошло: параллельная нравственность не была принята разумом и духом в полной мере.
Оттого-то и не следовали никогда народы внушениям богословов и философов, следуя вместо этого естественному моральному закону – в той мере, в какой это было возможно. Одновременно с осознанием нравственного долга является понимание необходимости его исполнения, но осознание необходимости исполнения не влечёт за собой с необходимостью исполнение. Морально необходимое не является необходимым как действие. Этим человеку как бы предоставляется возможность действовать также в пользу своего интереса, вместо того чтобы действовать всегда в пользу интереса другого. В этом моральный закон коренным образом отличается от законов природы. Действие этого закона словно ограничивается особым механизмом, не допускающим со стороны человека моральных действий в таких масштабах, когда они были бы губительны для него самого. Как в удовлетворении всех других потребностей необходимо соблюдение меры, чем ограничивается возможность злоупотреблений, так соблюдение меры необходимо и в удовлетворении нравственной потребности, и по той же причине. Это позволяет обеспечивать сохранение тонкого равновесия интересов между социальными группами и индивидами.
Тем, что десять заповедей не стали для человека непреложным законом, подтверждается их небожественное происхождение. Какими бы обещаниями и угрозами требование следовать заповедям ни обставлялось, человек не будет следовать им так, как он следует естественному моральному закону. Если Богом уже вложена в душу каждого способность к переживанию морального веления, что могут добавить к этой естественной моральности наставления богословов и философов, которые сами часто далеки от того, чтобы следовать собственным наставлениям? Если бы Бог хотел, чтобы заповеди исполнялись, он бы придал им достаточную принуждающую силу. Но Бог не сделал этого, чем показал, как мало значат для него эти заповеди, авторство которых было приписано ему Моисеем. Место аподиктических моральных принципов не в библейских мифах и легендах, но там, где они пребывают от века – в глубинах духа. К этому духовному сокровищу, которым все народы наделены в одинаковой мере, ничего не могут прибавить десять произвольно подобранных правил поведения, из которых первые четыре вовсе не имеют отношения к морали.
Моральные поступки во всей их разновидности сводимы к одному единому основанию – к морально должному. Когда убивать недопустимо по моральным соображениям, должное для человека не убивать; когда убить необходимо по моральным соображениям, должное для него убить. Ни одна из заповедей не воспринимается сознанием как обязательная к исполнению; но воспринимается как обязательное к исполнению должное. Даже не исполняемое, должное воспринимается как обязательное к исполнению – в этом состоит отличие морального закона, который от Бога, от заповедей Декалога, которые от человека.
VIII. Неприложимость категорий истинное и ложное к суждениям веры
Инакомыслие не враждебно истине, но враждебно всякому другому инакомыслию. Для церкви большей опасностью всегда было внутреннее инакомыслие, чем инакомыслие язычников. Едва складывались два взгляда или два подхода в христианской мысли, логически равноценные, но исключающие друг друга, пускалось в ход всегда то же оружие – обвинение другой стороны в еретичестве. Раздвоение христианской мысли всякий раз, когда возникали разногласия, было бы неминуемо, если бы оно насильственно не подавлялось. Преследованиями и кровавой борьбой, так мало сообразной с христианским идеалом любви и кротости, сопровождалось всякое отклонение от официальных канонов. Развитие христианской мысли не было ориентировано на объективную истину – объективная истина чужеродное понятие для всех религий. Это развитие изначально имело вид разнонаправленного движения беспорядочно сменявших друг друга воззрений и концепций. Таково в природе броуновское движение. Это заставляет поставить вопрос о боговдохновенности христианских догматов. Если Бог допускает возможность разброда и разногласий в такой сфере, где действителен принцип боговдохновенности, сам этот принцип оказывается под вопросом: не может быть двух взаимоисключающих боговдохновенных истин. Что возможно для повседневного и даже для научного мышления – взаимоисключающие взгляды, для религиозного мышления не должно быть возможным. Когда каждая партия объявляет свою позицию боговдохновенной, а противоположную еретической, результат предсказуем – взаимная вражда и ненависть. Христианство могло бы принять и совершенно иные формы, и оно не напоминало бы сегодня и отдалённо само себя в его нынешнем виде. Еретиками в конечном итоге объявлялись сторонники побеждённой партии, хотя еретиками друг для друга были те и другие. За побеждённой партией предикат «еретики» закреплялся канонически. Принцип любви и терпимости всегда был для христианской церкви принципом формальным и отвлечённым. Живая мысль заключалась в жёсткие рамки требований каноники. Никогда не могло быть предугадано заранее, какая из враждующих партий победит. Дух свободного поиска жестоко подавлялся; в этом был залог сохранения христианством хоть какой-то формы единства. Так оно ограждало себя от грозящих ему со всех сторон расколов. В науке и философии такое положение немыслимо. Религиозная мысль, поскольку она поставлена над законами логики, может быть как угодно далека от всякого подобия истине, и у разума не будет оснований упрекнуть её в этом – абсурдно указывать на несоответствие истине там, где истина подчинена вере. Принцип любви никогда не был для церкви фактически обязательным. Этот принцип и жизнь церкви, домостроительство, существовали параллельно – первый как отвлечённое начало, второе как живое дело. Менее всего принцип любви соблюдался при религиозных распрях, которые были изначально беспредметны в буквальном смысле слова – для религиозных понятий нет коррелята, они ни с чем реальным не соотносятся, а истинность суждений в таких случаях не только не установима, но сама эта логическая категория неприложима к ним. Все догматы и установления религиозного характера такого рода, что контрадикторно противоположные им положения не ложны и не истинны, потому что первые не истинны и не ложны. Подчинение принципу противоречия для религиозного мышления тем не менее так же обязательно, как для философского и научного мышления. Но религиозному разномыслию присущ особый характер, отличающий его от философского и научного разномыслия. Особенно для последнего характерно, что при столкновении взаимоисключающих суждений одно должно быть истинным. В несколько ином положении находится философская мысль, и в совершенно ином мысль религиозная. Из двух контрадикторно противоположных религиозных положений одно не с необходимостью истинно; более того, оба могут быть неистинными. Большинство положений христианства, с точки зрения рассудка, бессмысленны, поэтому им не могут быть присущи истинность или ложность.
Рассмотрим для примера взаимоисключающие положения «Святой Дух сотворён» и «Святой Дух не сотворён». Первое положение, отстаиваемое в четвёртом веке Македонием, было осуждено на Втором вселенском соборе, но с равным основанием могло бы быть осуждено второе, более того, с точки зрения здравого смысла, оба положения могли бы быть осуждены как бессмысленные. И так же может быть оценено абсолютное большинство канонических положений христианства. Предикаты «истинное» и «ложное» неприложимы к таким положениям в том смысле, в каком они приложимы к положениям науки или философии. Ещё до того, как решать вопрос о сотворённости или несотворённости Святого Духа, должно быть твёрдо установлено его существование. Оно постулируется христианским богословием, но здравый смысл не следует в этом христианской канонике. Но если нет Святого Духа, то вопрос о том, сотворён он или не сотворён, бессмыслен. Мы не получим истинного высказывания ни в том случае, если ответим на этот вопрос положительно, ни в том, если ответим на него отрицательно. По отношению к тому, чего нет, одинаково бессмысленно как утверждать, так и отрицать что-либо. Существование Святого Духа – предмет веры, а положения веры, если они несовместимы с разумом, для христианства сверхразумны. Но в таком случае к ним неприложимы категории истинности и ложности, поскольку истина и ложь категории рассудочного мышления. Если сообразно одному мнению, согласному с верой одного человека, Святой Дух сотворён, а сообразно другому мнению, согласному с верой другого человека, он не сотворён, а сообразно третьему мнению, согласному со здравым смыслом, Святого Духа нет, то для первого человека второй человек еретик, а третий богохульник. Осуждению подлежат для него тот и другой. Точно так же для второго человека первый еретик, а третий богохульник, и оба тоже подлежат осуждению. Для нас в данном случае важно, что в строгом согласии с логикой выявляется, что положениям веры не могут быть присущи истинность или ложность. Поэтому во внутрирелигиозных спорах побеждает не правое мнение, но мнение, объявляемое правым победившей партией.
На том же основании бессмыслен спор, родила ли Мария Бога, будучи девственной. Спорить допустимо только о том, родила ли Мария Бога, и только при разрешении этого спора в положительном смысле имеет смысл ставить вопрос, была ли она при этом девственна. Но в мифе допустимо всё, кроме логического противоречия. Если возможно для обычной женщины родить Бога, то отчего не должно быть для неё возможным быть при этом девственной? Первое чудо по своим масштабам гораздо более невероятно. Оно невероятно даже для мифа. Ещё пример того же рода: не может быть истинным положение «Бог милосерден», как не может быть ложным положение «Бог не милосерден», пока твёрдо не установлено, что Бог есть. Но даже в этом случае оба эти положения абсурдны, поскольку категории милосердие и немилосердие неприложимы к существу, природа которого непостижима. Мы ничего не знаем о Боге. Непостижимость Бога означает абсолютное незнание его природы и абсолютную неприложимость к Нему как к предмету мышления рациональных понятий и категорий.
Самыми знаменитыми спорами, в значительной мере определившими будущие пути христианства, были спор о сущности Иисуса – единосущен ли он Богу или подобосущен, и спор о том, исходит ли Святой Дух только от Отца или тоже от Сына (Filioque). Но если Святого Духа нет, оба эти утверждения бессмысленны. То, чего нет, не может исходить от чего бы то ни было. Так же бессмыслен вопрос о степени идентичности Иисуса Богу до того, как твёрдо установлено его Божественное происхождение. То, что Иисус сын Бога, не самоочевидно и не может быть доказано, а другого источника истины нет. Жестокие споры, в которые на протяжении веков были вовлечены тысячи и тысячи участников с обеих сторон и которые ожидаемо перерастали в кровопролитные столкновения, имели целью выяснить, имеет ли место между Иисусом и Богом отношение омиусиос (подобосущие) или омоусиос (единосущие). Это был спор о различии между двумя понятиями, на письме выражаемом одной буквой. Рациональный подход в данном случае состоит в том, что этот спор логически бессмыслен до того, как твёрдо установлено, что Иисус сын Бога. Ни Арий, ни его противник Афанасий не спорили о чём-то реальном; спор шёл о присущности или неприсущности признаков «единосущен Богу» и «подобосущен Богу» понятию «Иисус», но признак в данном случае прилагается к понятию произвольно, поэтому спор бессмыслен изначально, каким бы ни был его исход. Будущие поколения будут с удивлением взирать на двухтысячелетнюю историю христианства как на историю споров, не относящихся к реальным предметам. Это в буквальном смысле споры ни о чём. Наши потомки с удивлением отметят, что в своей значительной части история христианства представляет собой историю произвольных решений о присущности или неприсущности какого-либо признака понятиям, которым в реальности ничто не соответствует. Тем удивительнее масштабы кровавых эксцессов, которыми сопровождались такие споры. Кровь лилась не ради реального дела, но за право добавить к значению какого-либо понятия, в логическом смысле пустого, какой-либо признак. Если жив Иисус и восседает «одесную Отца», удивительно его равнодушие и невмешательство в эти масштабные кровавые конфликты, которым он был единственной причиной.
Замечательно то рвение, с каким в христианской традиции истина отстаивается предположительно против лжи. Тот накал враждебности, какой царит при богословских спорах, невозможен между учёными, которые внутренне всегда должны быть готовы к тому, чтобы признать истинной противоположную точку зрения. Ненавистью к еретикам и отвержением всего, что противоречит произвольно установленным догматам, религиям обеспечивается сохранение. Принцип любви и смирения поэтому не может лежать в основании религиозных споров. Для религий потрясение основ гораздо большая катастрофа, чем для философии или науки. Философия и наука не могут быть враждебны к новым открытиям, даже если эти открытия противоречат принятым воззрениям. Потрясение основ есть в таком случае прогресс, и оно желанно; но не может быть желанным изменение внутри канонически утверждённых систем религиозных взглядов. В целях защиты и сохранения систем религиозных воззрений изменения внутри них должны предотвращаться любыми способами. Для христианства при этом всегда было безразлично, как эти способы сообразуются с принципом любви. Этому вслух заявляемому принципу в практической жизни церкви уделяется ровно столько внимания, сколько может быть уделено без вреда для её интересов. Принципы, исключающие любовь и смирение, если они практически полезны, негласно предпочитаются. Отсюда та нескончаемая череда компрометирующих христианство как расходящихся с его учением позорных дел, которыми отмечена история христианства во все периоды его существования.
Враждой и насилием возможно достичь большего, чем любовью, это очень скоро поняло христианство. Миссионерство, действующее любовью, не принесло ожидаемых плодов. Его сменили христианские воины и огнём и мечом легко достигли того, что оставалось недостижимым словом любви. Принцип любви действителен для своей сферы, принцип вражды и насилия для своей, но сферы эти неразделимы строго. Сохранение в мире человека принципа любви при одновременном отказе от принципа вражды и насилия так же немыслимо, как в физическом мире немыслимо сохранение принципа притяжения при одновременном устранении принципа отталкивания. Притяжение и отталкивание, сближение и отдаление самый универсальный закон и физического, и животного, и органического, и духовного мира. Принцип вражды и насилия был взят на вооружение христианством ещё до того, как ему Константином было определено стать официальной религией. Но этим не принижается значение принципа любви, который соприсутствует во всяком деле, даже в злом, смягчая зло.
Попытки переосмысления канонических положений – явление характерное для всех этапов христианской мысли. Уже при своём возникновении христианские общины враждовали между собой более ожесточённо, чем с язычеством, которое было слишком сильно, чтобы быть для них противником. Само преследуемое язычеством, христианство преследовало инакомыслие внутри себя. А поскольку инакомыслие в таком деле, как становление новой религии, неизбежно, неизбежны и вражда, и насилие. Не любовью направлялись действия по отношению к инакомыслящим, тоже христианам, но враждой и ненавистью, выдаваемыми за любовь к истине. Взаимное уничтожение осуществлялось под знаком любви к общему богу. Одни ставили свою любовь к Христу не менее высоко, чем другие; она была единым побуждающим мотивом во всех межконфессиональных конфликтах и столкновениях. То есть вражда и насилие возникали и приобретали свои характерные формы на почве любви. Допустимо думать, что Христос попытался бы посредничать в этих конфликтах. Мыслимо также, что результатом его посредничества могли бы стать глубокие расколы в христианстве уже в период его становления. Возможно мыслить и поражение Христа в этих конфликтах. В этом случае мы бы имели ныне христианство без Христа либо вовсе не имели бы его.
Принцип любви не выше и не моральнее принципа вражды и насилия; зло может иметь своей причиной любовь, а вражда и насилие могут иметь своим следствием добро. Для достижения благих целей объективно пригодны все принципы, и то же верно в отношении целей аморальных. Любовь не универсальный и не единственный путь к добру. Но и путь добра не универсальный и не единственно обязательный для человека. Невозможно воплощение ни принципа любви, ни принципа добра, ни принципа вражды или ненависти – и никакого иного принципа – взятых в отдельности. Воплощение одного принципа предполагает вовлечённость других. Действуя совокупно, разнородные принципы порождают один общий результат. Для воплощения принципа любви необходима элиминация всего, что препятствует этому, в том числе, как это ни парадоксально, элиминация и самого этого принципа. Феномен любви внутренне противоречив: дело, задуманное из любви, на каком-то этапе может вступить в противоречие с принципом любви, и он должен будет быть принесён в жертву целесообразности.
Не любовь направляет человека к тому, что должное для него, но само должное, представление о нём. Лежит ли любовь, ненависть, зависть или гнев в основании поступка, поступок морален, если он сообразен с морально должным. Если любовь несообразна с морально должным, а мы тем не менее любим, наша любовь аморальна. Если долг требует ненавидеть, и мы ненавидим, наша ненависть морально оправданна. Если долг требует любить, и мы любим, наша любовь морально оправданна, но она по своему моральному содержанию не выше ненависти, если последняя тоже морально оправданна. Любой поступок морально оправдан через свою причастность к морально должному. Христианская мысль не то чтобы не была в состоянии подняться до такого взгляда; она не могла позволить себе принять этот взгляд. Ни в Ветхом, ни в Новом Завете нет попыток обоснования принципа любви. А если бы такая попытка была предпринята, обнаружилось бы, что этот принцип необосновываем. Но и принцип морально должного необосновываем, но по другой причине – в силу его самоочевидности.
IX. Принцип наибольшего блага
Принцип любви, на первый взгляд, не требует обоснования – слишком очевидно, какое великое благо любовь. Но тут следует различать два момента: не то же самое быть любимым всеми и любить всех. Каждый охотнее согласится быть любимым всеми (но не навязчивой любовью), чем любить всех. Сам замысел найти такой общеприемлемый принцип поведения, которому бы каждый следовал охотно, диктуется соображениями общественного мира и порядка. Но когда человека не устраивает имеющий место социальный порядок, он легко отказывается от принципа любви в пользу принципа насилия, нисколько не сомневаясь в правомерности такой замены. Для поддержания социального мира нет нужды любить ближнего больше, чем того требует справедливость. Понятие справедливости прирождено человеку – не в том смысле, что каждый рождается с готовым понятием справедливости в голове, но в том, что каждый человек по мере своего взросления и развития на каком-то этапе с необходимостью открывает для себя этот принцип. Принцип любви при таких условиях излишен, коль скоро уже есть принцип, объединяющий всех вокруг общей положительной цели. И если бы справедливости не противостоял эгоизм, препятствующий её осуществлению, заповедь любви была бы бессмысленна. Но если уже нереализуем в полной мере принцип справедливости, то тем более нереализуем в полной мере принцип любви к ближнему, который в ещё большей степени противоречит любви человека к самому себе.
Из сопоставления принципа любви и принципа насилия самих по себе не очевидно, что первому до́лжно следовать скорее, чем второму. Положительный смысл примысливается к обоим принципам в зависимости от обстоятельств и выбирается тот поступок, который связан с очевидно большим благом или более сообразен с моральным законом. Но и в последнем случае выбирается большее благо. Над всеми практическими принципами главенствует принцип большего блага, но этим не исключается, что большее благо может состоять в моральном поведении. Когда благо состоит в изменении существующего положения дел, поведение подчинено тому принципу, который успешнее способствует этому изменению. В таком случае попирается принцип любви, если это необходимо для пользы дела, но по-прежнему остаётся незыблемым принцип подчинения моральному закону. Он не может быть отменён. Другое дело, что этот принцип может отступить на второй план перед принципом выгоды. Но не может отступить на второй план принцип большего блага. Этому принципу подчинено в своих действиях всё живое. Но для человека – и это отличает его от других животных – большим благом может быть морально должное. И тут возникает вопрос, может быть, самый трудноразрешимый для этики: не поступает ли человек одинаково эгоистически в обоих случаях – когда он следует принципу выгоды, предпочитая выгоду морально должному, и когда он следует морально должному, предпочитая его выгоде? В том и другом случае он выбирает большее благо для себя; выбрать из двух благ меньшее априори невозможно, человек не запрограммирован на такой выбор. Каждый предпочтёт моральный поступок аморальному, если первый для него большее благо; но будет ли этот выбор морален, и есть ли в этом случае возможность морального выбора? Нет заслуги в том, чтобы выбрать большее благо – независимо от того, выбирается морально должное или выгода.
Невозможно одновременно следовать принципу выгоды, требующему от человека аморального поведения, и морально должному, требующему от него морального поведения, но следуют попеременно то одному, то другому принципу – одни склоняясь больше к моральному, другие к аморальному выбору. Это и есть тот универсальный закон, которым поведение человека определяется во всех жизненных ситуациях. Лишь в редких случаях возможно руководствоваться исключительно выгодой либо исключительно моральным законом. Как правило, выбирается средний путь. Так поведение, с одной стороны, оказывается в достаточной степени сообразным с морально должным, а с другой – не направлено всецело против собственной выгоды. Человек колеблется, склоняясь то на сторону выгоды, то на сторону морально должного, смотря по тому, что для него большее благо. Но в таком случае он не ведёт себя более морально, когда он ведёт себя морально, чем когда он ведёт себя аморально. Чтобы спасти возможность морального поведения, нужно спасти для морали возможность быть, а для этого нет другого пути, кроме как признать, что подчинение поведения моральному началу нравственно выше, чем когда такое же поведение подчинено принципу выгоды, хотя в обоих случаях человек следует эгоистическому принципу большего блага.
Великие исторические события были бы невозможны, если бы исторические деятели в своих поступках всем другим принципам предпочитали принцип любви. Под вопросом оказались бы возможность исторического прогресса и само существование человека. Так обстоит дело в реальности с принципом любви: он не ценнее для человека, чем любой другой действенный принцип. Тот принцип выше, который способствует достижению большего блага. Но выбор большего блага остаётся за человеком, а для него большим благом может стать как моральный, так и аморальный поступок. В последнем случае выбор затрудняется его аморальностью, но соображения выгоды могут перевесить веление совести. Из этой дилеммы нет выхода.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































