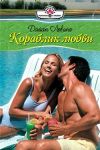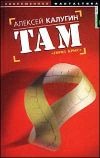Текст книги "Холм псов"

Автор книги: Якуб Жульчик
Жанр: Триллеры, Боевики
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Миколай
Транспортный «пежо» подпрыгивает на дырах в асфальте, что занимают больше поверхности, чем сама дорога; собственно, она – вся одна большая неровная дыра с маленькими, неравномерными фрагментами плоскостей. Юстина беспокоится насчет подвесок, но отец отмахивается. Естественно, ответственны за состояние дороги люди бургомистра. Делают все быстро и зло, по пьяни и на отлюбись, заливают дыры горячим раствором, а тот крошится при первом же морозе. Всякий раз, когда машина подпрыгивает, мою перебинтованную голову прошивает длинная тонкая игла. Эта боль немного похожа на звук. Юстина не поворачивается в мою сторону.
За окном проклевывается рассвет. Он туманен, весь в патине, уже не взрывается, а медленно просачивается в небо, словно кто-то вводит шприцом красноту в черноту. Этот рассвет – не обещает солнца. По радио яростные бредни двух политиков, что-то насчет внезапного обострения международной ситуации. Мой отец, послушав, приглушает звук.
– Они так плюются, когда говорят, что мне, когда слушаю, лицо приходится вытирать, – говорит он.
* * *
Я сижу посредине на двухместном пассажирском сиденье, глядя между отцом, который ведет, и Юстиной, которая смотрит в окно, ничего не говоря и куря сигарету. Отец позволил ей курить, потому что, как говорит, у него есть элементарное чувство справедливости. Ольчак и Одыс, работники отца, каждый день ездят в этой машине и тоже в ней курят.
– Когда дымят, то хотя бы на миг пасти затыкают, – говорит отец.
Сейчас пять утра, в салоне пахнет бензином, испорченной едой и свежим хлебом; этот последний запах – такой вездесущий, что кажется искусственным, словно мы везем сзади не несколько десятков лотков с булками, а канистры концентрированного запаха для распыления в гипермаркетах.
– В какое село сначала? – спрашиваю отца.
– Туда, где можно увидеть, что тут на самом деле происходит, – отвечает он.
– То есть – куда? – спрашивает Юстина.
– Сначала в Пустынь. А потом в Пепельный Сад.
Эти названия едва ли что-то мне говорят, я знаю, что они существуют, я слышал о них – но и все.
– Ты поднял нас в такую рань, что я сперва подумал, будто мы едем на рыбалку, – говорю лишь для того, чтобы не молчать.
– Вы для рыбалки не подходите. Не умеете сидеть тихо, – отрезает отец.
– Я ничего не говорю, – отзывается Юстина.
– Зато вертишься, – отвечает он.
Мы едем туда, куда едем, потому что отец развозит хлеб. Ежедневно утром в половину магазинов в Зыборке, а потом – по всем окрестным селам. Он мог бы этого и не делать, но не доверяет никому. Без него тут никто ничего нормально не сделает, говорит он. Нанял трех пекарей, а еще Ольчака и Одыса, которые в пекарне выполняют все, кроме печения, – убирают, возят, грузят на лотки, разгружают.
Отец развозит хлеб и тем, кто не может купить еду. Его хлеб обычный, ни хороший ни плохой. Обычный. Как и булки: познаньские, с «жопкой», нам давали такие на большой перемене в средней школе с гомогенизированным творогом и стаканом какао.
Когда мы доезжаем до села, уже светает. Отец останавливает машину на обочине. Село протянулось вдоль дороги, это десяток домов, некоторые старые, из красного кирпича, еще довоенные, другие выстроены после войны, плоские и запущенные.
Мы останавливаемся перед магазином, серо-бурым домиком, словно слепленным из глины и пыли. Цветная металлическая табличка просто объявляет: «МАГАЗИН». На стене – доска объявлений, на ней – информация о диско-концерте группы «Анекс», объявление: «Не подписывай договора, потеряешь право на возмещение, контакт», еще объявление: «Не у кого занять, кончились возможности, кредит с хорошим процентом, без документов, телефон», поблекший желтый плакат, рекламирующий близящийся фестиваль «Праздник Колоса», некролог чувака, которого звали Эдмундом Магерой, прожил 85 лет. Дверь в магазин преграждает ржавая решетка.
Отец отодвигает щеколду, некоторое время смотрит на лотки с хлебом, смотрит на дорогу, и тогда, словно по его желанию, появляется едущая машина, постукивающий серо-грязный «гольф». Отец глядит на него некоторое время, потом подходит к решетке и начинает ее трясти, скоба металлической защелки постукивает о ржавые прутья.
Из машины выходят Ольчак и Одыс. Я уже успел с ними познакомиться, вчера, после похорон. Это черствые и прямолинейные люди. Производят впечатление мужиков посерьезнее, чем предпочел бы думать о них отец. Ольчак – высокий, хорошо сложенный, лет сорока, у него модная прическа, кривые зубы и отблеск безумия в глазах. Он дерганый, движется в такт песне, которую слышит только он, то и дело оглядывается и давит сапогом землю, словно тренируясь гасить сигарету, что все еще у него на губе.
– Ха, а с тобой что случилось? – спрашивает Ольчак, глядя на мою повязку. Видно, что он человек, которого интересуют проблемы.
– Споткнулся на лестнице, – отвечаю я.
Он пожимает плечами.
– Или головой в стену колотил? – спрашивает Одыс, его коллега. Это мужик постарше, за пятьдесят, с редкими, всклокоченными, давно не стриженными волосами и помятым жизнью и водкой лицом, в котором, однако, есть и хрупкость, ум – возможно, из-за его резкого, птичьего рисунка.
Я не помню их. Ольчака не знал, поскольку тот ходил в технарь, а я не слишком хорошо знал чуваков из технаря, то есть знал их в той степени, в какой они нас порой гоняли, трясли на мелочь и прописывали поджопники. Может, Ольчак и был среди них. Думаю, сегодня он никого не выставляет на мелочь, зато регулярно ходит в «Панаму», дискотеку, что находится в подвалах неработающего пивзавода, неподалеку от замка. Это заведение-конкурент «Андеграунда». Вроде бы даже получше – там больше света, громче музыка, владелец, некий Альф, приятель Мацюся по старым временам, не торгует паленой водкой в баре, как Чокнутый в «Андеграунде». Все это я знаю от Гжеся. От отца знаю, что Ольчак спускает в «Панаме» всю зарплату, а потом еще и одалживает; его профессиональный номер – это раздеться догола и танцевать макарену с голой жопой, а потом – ходить на руках. Мой отец считает Ольчака человеком, которому не поможет даже закрытое отделение в психбольнице.
– Его жена – нормальная девушка. Не хочу, чтобы тянула все это сама, потому он у меня и работает, – сказал он, когда я познакомился с Ольчаком впервые. Протягивая мне руку, тот сплюнул под ноги.
Теперь Ольчак без вопросов отталкивает Юстину плечом и, хотя заржавевшая решетка все еще закрыта, хватает поддон и с тихим сопением ставит его под дверью.
– Сколько им? – спрашивает у отца.
– Придет – скажет, – отвечает мой отец и еще раз встряхивает решеткой.
– Ну, уже идет, – со двора за магазином выныривает женщина: крепкая, неопределенного возраста, в свитере, трениках с четырьмя полосками и в шлепках, открывает калитку, раздраженная на весь мир, то и дело отгоняя невидимую, но надоедливую муху.
– Иду, иду, минутку, поспать не дают, – говорит она. У нее низкий и горький голос, словно бы изъеденный растворимым кофе на ржавой воде и дешевыми сигаретами.
– О, глянь, Магера помер, – говорит Одыс, глядя на некролог.
– Это который любовник? – спрашивает мой отец.
– Любовник? – Юстина удивлена.
– Печальная была история, – смеется он. – Очень печальная, почти романтичная.
– Жаль его, – говорит Одыс.
– Какая история? – спрашиваю я.
– Эх, этот Магера работал на железке. И влюбился в бабу, девушку, Элку Поверскую из Зыборка. Это было еще в шестидесятых. Любил ее безумно, понимаешь. Потом увидел ее на танцах, на моторе, с другим парнем. Ну и показал, чего стоит, честь, мужество, все такое. Парня прогнал, ее тоже прогнал, а потом выехал, понимаешь, в Германию, ну, поскольку был мазур. А потом вернулся, через тридцать лет, внезапно. Домик купил, вон тот, – Одыс показывает на едва живой домик в конце дороги. – Ну а как вернулся, первое, что сделал, это погнал к Эльке. Она уже вдовой тогда была. С букетом цветов к ней приехал, серенады выл под окнами. С ума сойти, сука, как он выл. Пока старый Галевский, что жил рядом, не захерачил в него горшком. Ну, через тридцать лет, представь себе.
– Ну и что дальше? – спрашивает Юстина. Я смотрю на нее, она не смотрит на меня, но впервые с вчера – улыбается. Это хорошо. Еще пару часов назад было так тяжело, что у меня до сих пор все болит. Особенно голова.
– Ну, и она пошла к нему, года три они вместе были, но потом она вдруг выставила его на улицу, пошла в суд, что он над ней издевается, а он за ней все с цветами лазил. Она говорила, что он ку-ку совсем, пыталась объявить его чокнутым, на самом деле ей тот дом нужен был и бабло, он тридцать лет в Германии работал, главным в поезде ездил, бабла было немерено, а в ее представлении – еще и в сто раз больше. Устроила скандал, что, мол, изнасиловал ее, бил. Переколбасила соседок, чтобы дали показания в ее пользу. Ну, всякая такая хрень.
– А он?
– Он пришел с цветами и кольцом. И куски «Ромео и Джульетты» цитировал. В зале суда, при людях, при всех. Он и правда был романтический парень, – заявляет Одыс и отпивает кофе, а Юстина снова начинает смеяться. Это хорошо, что она смеется.
Вечером она плакала. Я немного выпил. Сперва с Гжесем, потом еще немного сам, и всякое такое. Гжесь нашел смагу. На вкус – как навоз, била током; мы выпили немного, но все же. Слушали «Блэк Саббат». Я говорил о могиле мамы, что не знаю, почему отец считает ее грязной; Гжесь говорил о том, что Оззи Озборн должен бы уже давно помереть, хотя если бы они сыграли в Зыборке в оригинальном составе, то он, возможно, и пошел бы на их концерт. И всякое такое.
Потом Гжесь пошел куда-то в город, а я вернулся домой. Взобрался наверх. По дороге наткнулся на Агату. Она начала что-то мне говорить, что-то о Юстине, я сказал, чтобы отвалила. Смага была страшной настолько, что прежде чем поговорить с Юстиной, я пошел в ванную и облил голову холодной водой.
Юстина ненавидит, когда я пью. Считает, я тогда превращаюсь в живую половую тряпку. Что тогда она не прикоснулась бы ко мне даже через другую тряпку.
Когда я вошел в комнату, стараясь шагать ровно, увидел, что она лежит на постели и плачет. Горела одна ночная маленькая лампочка в солевом кристалле, которую она привезла из дому. В мягком желтоватом свете наша комната стала походить на то, чем когда-то была – на чердак.
Отреагировала чуть ли не на тринадцатый только вопрос: в чем, мол, дело. Показала пальцем на газету, которая лежала на столе. Я начал читать.
– Опубликовали твою статью? – спросил ее.
– Сука, ты такой пьяный, что даже не понимаешь, – ответила она.
– Я не пьяный, – соврал я как дурак.
– Ты не понимаешь, опубликовали все под фамилией какого-то пидора, – сказала она, плача по-настоящему, заливаясь слезами, красная и опухшая, словно ее в самый центр лица укусила огромная пчела.
Я сел на стул.
– Понимаю. Этот твой… парень, твой парень, господин управляющий, немного тебя натянул, – сказал я. Был пьян и доволен собой, потому что не сказал бы такого трезвым.
– Миколай, что ты плетешь? – ответила она. Встала с постели.
– Трахнул тебя. И буквально, и переносно. Трахнул тебя, скажем так, в полном смысле слова, – говорил я и чувствовал, что вот-вот начну смеяться от собственных слов.
– Слушай, иди к Гжесю. Иди к Гжесю, пока не стало поздно, – сказала она.
– А в смысле – «поздно», а, Юстина? Уже поздно, – ответил я, встал тоже, уже не обращая внимания, стою ли я ровно, взял газету, бросил на пол. Юстина крикнула, чтобы я валил.
– Мы, по сути, никогда об этом не говорили, – ответил я, поскольку это было правдой, мы, по сути, никогда об этом не говорили. – А поговорить нужно. Поговорим, Юстина. Поговорим, что случилось. Я не знаю, что случилось. Сколько раз ты с ним трахалась? Как долго ты с ним трахалась? Скажи мне. Скажи мне, я думаю, что имею право знать, – мне говорилось так легко, что казалось, будто я пою.
Люблю быть пьяным. Все любят быть пьяными, но я люблю вдвойне. Когда я пьян, перестаю переживать. Клал я на то, будет все хорошо или плохо. Совершенно перестаю напрягаться, бояться, думать о последствиях. Мозг, обложенный компрессами, освобождает тело, исчезают воткнутые в него провода, оно снова становится костями и мясом.
– Сейчас? – спросила она и ответила за меня: – Нет, не сейчас.
Я чувствовал себя страшно легким. Не пойми почему подумал, что так должны бы чувствовать себя одержимые.
– Он трахал тебя лучше меня? – спросил я.
– Перестань, – сказала она тихо.
– У него хуй длиннее? Я это понимаю. Правда. У меня ведь не… не знаю… – И, наверное, чтобы показать ей, о чем говорю, расстегнул ширинку.
– Не сейчас, – сказала она еще тише.
– Если я говно, ноль, Юстина, то хотел бы знать, отчего так, я ведь не просто говно, не просто потому что воняю и коричневый, и вылез из чьей-то жопы, неважно из чьей, потому что из всех жоп лезет одно и то же, верно? – я был убежден, что мои слова такие меткие и веселые, особенно когда я говорю их с полуспущенными штанами.
– Что ты делаешь? – спросила она.
– Помогаю тебе, – отвечал я, смеясь. – Уменьшаю твои угрызения совести.
– Ступай к Гжесю, прошу, – повторила она.
– Все для тебя. Только бы тебе помочь. Гляди. Помогаю тебе, – я взял что-то со стола, кажется, кружку, и метнул ее в стену.
Случилось что случилось, такое бывает, и нельзя отыграть такое назад, такие вещи оставляют неотстирываемые пятна, она подошла и толкнула меня, а я толкнул ее, она упала на постель и издала глухой крик, а я стоял некоторое время, а потом подбежал и уселся на нее сверху, и что-то (я был уверен в близости, в общности с этим «чем-то») заставило меня упасть на нее и накрыть ладонью ее лицо. Я почувствовал, как что-то заболело у меня внизу живота.
Я знал, что когда сниму ладонь с ее лица, она примется орать.
– Ну и что, господин Гловацкий? Бардак, верно? – спрашивает женщина.
– Ну что вы такое говорите, Зыборк – он словно «Северная сторона» [45]45
Сериал CBS «Northern Exposure» (1990–1995), действие которого происходит в маленьком провинциальном городке Сисели на Аляске.
[Закрыть], оазис спокойствия, – Ольчак смеется.
– Как по мне, у Берната просто маковка перегрелась, вот он и полез в лес и заблудился, – говорит Одыс, стоя рядом. С вожделением глядит на холодильник с пивом. На его седых усах остались следы от сигареты. У него поломанные черные ногти, до половины сожранные грязью.
– Это у тебя маковка перегрелась, Одыс, – говорит отец.
– Как у Ведьмака, – говорит женщина, заливая кипятком растворимый кофе в стакане.
Юстина фыркает смехом, впервые за две недели. Спрашивает:
– Ведьмака?
– Да есть тут такой, – отвечает отец и показывает пальцем на стакан с кофе. – Тереса, начальница ты моя, я бы тоже выпил.
– Ну, был тут у нас один такой, молодой Бляшка, который на лесника учился в Ручане-Ниде [46]46
Маленький город над Мазурскими озерами (чуть больше 4 тыс. жителей).
[Закрыть],– говорит госпожа Тереса, готовя кофе для моего отца.
– Да на какого там он лесника учился, он корзины плел в дурдоме, – говорит Ольчак, беря леденец из пластиковой чашки. – Он же чокнутый.
– А ты, блин, профессор, – отвечает Тереса, и все смеются.
– Ординарный, – ухмыляется Ольчак.
– Ну, Ведьмак – где покинутый немецкий дом в лесу, недалеко от реки, он туда въехал, без электричества жил. Библию наизусть учил, сам себя пытался распять, руку себе гвоздем к доске приколотил, но вторую – не смог. Антосяка молодого взял, чтобы тот ему помог со второй рукой. Но Антосяк взял деньги и удрал.
– И что, типа и Бернат так же сделал? – спрашивает Ольчак. – Типа так же? Цыгане из Млавы на всех разозлились, вот и все. На него, на Мацюся, на Мачеяка. Те стали неудобны, у Берната и вообще долг был у цыгана, у старого Гавола, как там его, Тобека…
– Ольчак, да закрой уже пасть, – говорит мой отец.
Тереса качает головой, вытирает нос платком. Она худая, жилистая и твердая, когда открывает рот, на верхней ее челюсти видна серебристая «единичка». Мой отец отставляет стакан с опивками на стол и вытирает рот.
– Нам нужно ехать, – говорит.
– Ну и как, когда делаете новый пикет? Потому что мы, из Пустырей, приедем, – говорит Тереза, выходя из-за прилавка. Мой отец смотрит на эту маленькую, жилистую, сухую женщину с вниманием и уважением.
– Теперь это уже референдум, – говорит отец.
– Солтыс приедет, все приедем. Ведь нельзя так, как эта сука себе надумала, чтобы людям дома рушить, – говорит Тереса и при слове «сука» машинально сплевывает на пол своего магазина.
– Нельзя, – повторяет мой отец, и она только тогда отпускает его руку, вытирая сапогом пятно слюны на полу.
Я снял ладонь с ее рта. Знал, что она не станет кричать, но боялся, что меня укусит. Хотел ее трахнуть. Хотел выгнать его из нее. Хотел таким образом его убить. Трахнуть ее так, как он ее трахал. Вот просто. Он над этим даже не задумывался. В этом я был уверен. Я был уверен, что он увидел ее где-то и подумал, что возьмет себе. Как человек думает, что сделает себе бутерброд или что выпьет пива. Неважно, что у нее было кольцо на пальце. Неважно, что сперва – вероятно – она ему отказала. Это не имело значения. Есть такие люди, которые видят что-то – и сразу суют себе в карман. Никогда не перестанут меня поражать. Такие люди – колдуны. У них невозможно выиграть, потому что они не признают правил, действуют поперек реальности. По сравнению с ними мы все – говно.
– Расскажи, как он это делал, – я пытался стянуть с себя штаны. Сперва она даже не реагировала.
– Это семейное изнасилование, – голос был холодным, как хирургическая сталь.
– Лизал тебе киску? – спросил я. Это и правда меня интересовало. Через секунду она и сама заслонила себе рот.
– Как вы это делали? Скажи мне, Юстина, – спросил я.
– Быстро, – ответила она.
– Быстро? – засмеялся я. Стянул ей штаны до колен, содрал трусики. Ее тело было холодным, все мышцы напряжены и сведены судорогой.
Я прижал губы к ее ладони, которую она держала на лице.
– Это изнасилование, Миколай, – сказала она снова. Очень тихо. Я услышал, как кто-то ходит по первому этажу. Наверняка Ясек пошел в ванную. Я улыбнулся ей. Тем более, она не могла кричать. Я подумал вдруг, не пойми отчего, что ненависть – это такая сильно измазанная любовь. Любовь, полная жирных пятен, любовь, которой вытирали пол. Я воткнул колено между ее ног, пытаясь развести те в стороны.
– Ты будешь об этом жалеть, Миколай. Будешь об этом жалеть, – сказала она. В ее глазах появились слезы.
– Тогда ты тоже плакала? – спросил я, пытаясь воткнуть в нее член.
С того времени, как она мне об этом рассказала, мы почти не спали друг с другом. На самом деле она даже ни разу меня не поцеловала. Прикасалась ко мне только случайно, натыкалась на меня, лишь когда мы не помещались в одном пространстве, в коридоре, в дверях. Наверное, это нормально. Наверное, так ведут себя люди, которые изменили. До какого-то момента. Измена. Думаю, что есть много нейтральных слов, которые расходятся со своим значением; много – но только не это.
– Ты будешь об этом жалеть, Миколай, – повторила она.
– Как ты, сука, вообще могла это сделать? – спросил я.
Сначала я ослеп, и только потом почувствовал боль, болело все сразу, и тогда я понял, что свалился с кровати. Боль разливалась по голове, как теплый парафин. Когда я открыл глаза, увидел, что она стоит надо мной с соляной лампой в руке.
– Сделай так еще раз – и я тебя убью, – сказала она.
Я почувствовал что-то теплое и липкое у себя на волосах.
– Вызови «скорую», – сказал я.
– Оставайся на полу, – ответила она.
Я хотел, чтобы она увидела, что сделала. Спрятал член в штаны. Попытался встать. Не получилось. Снова свалился на пол.
– Я уезжаю отсюда. Через несколько дней, – сказала она тихо и спокойно, как всегда, когда говорила всерьез, а я провалился в свинцовый и тяжелый сон и в последний миг при сознании думал, что умираю.
А потом проснулся от голоса моего отца, который спрашивал у нее, что случилось.
– Упал с лестницы, – услышал я, как она говорит, и должен признаться, что меня это даже позабавило. Меньше позабавила та херня, что я сделал собственной жене. Это до сих пор давит мне на череп. Словно кто-то привязал кусок резины к голове, чтобы сделать ее тяжелее.
Машина уже не подскакивает, голова чуть меньше болит, дорога в меру ровная, вдоль нее тянутся поля, перерезанные узкими туннелями речек и запруд. Уже светает, солнце несмело выглядывает из-за стены туч и смотрит в воду, на миг превращая речки в сияющих, огненных змей, оглаживая деревья, шесты, столбы, которые безо всякой системы покрывают эти будто бы и обитаемые, но дикие пространства. Дорога виляет, вьется, ведет к сосновому лесу, чтобы резко от него отвернуть. Она – сеть, которая соединяет разбросанные одиночные домики села Пепельный Сад. Где-то вдали, за деревьями, за столбами, видны контуры домов, я начинаю вспоминать их, мы ездили тут на велосипедах с Трупаком и Былем курить траву, там старый кирпичный завод, там – винокурня, а там, еще дальше, за лесом, – мебельная фабрика.
«Тот, кто рассказывает этот мир, явно рассказывает его плохо и навыворот, – думаю я. – Думаю, у него нечистые намерения; он рассказывает этот мир, словно тот из плохой сказки, он может обманывать, притворяться; особенно хорошо умеет делать такое при свете солнца, солнце – его лучший камуфляж; делает мир мерцающим и дрожащим, придает ему предательские отсветы».
Дорога резко сворачивает, отец притормаживает и въезжает на мост, который идет по еще одной плотине, потом еще некоторое время едет сквозь небольшую рощицу, потом вдруг выезжает к селу, рядом с маленькой, покрашенной в салатный цвет церковью. Сворачивает направо, даже не включив поворотник. Мы проезжаем мимо школы, прямоугольного, раскрашенного в оранжевый цвет дома, перед которым виднеется новый спортзал с раздевалкой, а рядом, будто в полной неуверенности, стоит ветхий деревянный сарай, потом доезжаем до большого хозяйства, состоящего из дома красного кирпича и двух прямоугольных, примыкающих к нему сараев.
Ольчак и Одыс вылезают из своей машины. Поприветствовать их выбегает стая собак. Они не кусаются, но надрывно лают; слышу из машины, как Ольчак кричит:
– Вот же, сука, нам что, снова в них петардами бросать?!
– Кыш! Кыш, шавки! – орет отец, вылезая из машины, и с полдесятка собак послушно, одной волной, убегают в сторону забора.
– Ох, к Валиновским нужно больше привозить, чем в магазин, – сплевывает Одыс.
– А у тебя что, мало было? Семь ребятишек заделал, – отвечает ему Ольчак.
– Не нужно мне постоянно об этом напоминать, – пожимает плечами Одыс, всовывая в пасть сигарету.
– Мне стоило это сделать, когда ты ту книжку писал, – отец поворачивается ко мне.
– Что сделать? – спрашиваю я.
Отец поводит рукой в сторону села, обнимая одним жестом небо, солнце, школу, забор, дома и собак.
– Привезти тебя сюда. Доставить. Показать это все, – говорит он. – Тогда, сука, может всякой херни не писал бы.
– Как видно, тогда тебя интересовали другие вещи, – напоминаю я ему.
На короткий миг у него то же самое выражение лица, которое было у него всегда, когда я пытался отбрехиваться. Лицо его тогда замирало, превращалось в маску, кожа на скулах и висках натягивалась, словно бы череп чуть вырастал; глаза сужались, а я не мог ничего с этим поделать, моментально сжимался – и тогда он улыбался уголком рта и на миг поднимал руку, будто собирался меня ударить, но просто почесывал голову или вытирал лицо.
– Входим? – спрашивает Ольчак.
– Они еще под одеялами, это ж шляхта, до десяти не встанут, – тихо отвечает Одыс.
Через двор, сквозь толчею умиротворенных моим отцом собак, идет женщина, худая, со стянутыми в узел волосами, в цветном свитере, в леггинсах и древних шлепках. У нее специфическая красота, миндалевидные глаза и смуглая кожа, она идет прямо и энергично, с силой ступая по земле.
– Привет, уважаемые, – говорит, открывает калитку, мой отец входит внутрь и машет нам, чтобы мы шли следом.
Ольчак и Одыс стягивают два поддона с хлебом. Юстина вопросительно показывает женщине на окурок, та указывает на лежащую на земле пластиковую миску, чье дно покрыто слоем грязи.
– Куда отнести? – спрашивает Ольчак.
– В дом. Едем? – спрашивает женщина моего отца.
Тот кивает.
– Внутрь не хотите зайти? – спрашивает она.
Отец отмахивается.
Одыс и Ольчак исчезают в доме, но через минуту выходят назад и снова встают под калиткой, уставшие и неуверенные.
– У нас семейный интернат. С мужем нас девятеро, – говорит женщина, словно и правда чувствуя необходимость объяснять, зачем ей столько хлеба. Одновременно напряженно глядит на меня с лучистой улыбкой. Эта женщина доживет и до восьмидесяти, но улыбка все равно будет как у двадцатилетней.
– Миколай, ну черт побери. Я же учила тебя танцам в четвертом классе. Тебе десять лет было. Ты должен меня помнить, – говорит она.
– Поедешь с ними? – спрашивает отец, показывая пальцем на Ольчака и Одыса.
– Поеду, – говорит Юстина, даже не глядя на меня. Садится в машину Ольчака. Мы вместе с женщиной залазим в машину отца. Теперь я ее вспомнил. И правда. В школе мы звали ее Негрой. Помню, что позже она перебралась из Зыборка в село вместе с мужем, усатым великаном с доброй улыбкой, который приезжал за ней к школе на большом «фиате», хотя тогда все уже стеснялись больших «фиатов». Как-то они даже заходили к нам домой. Моя мама одалживала им деньги. Ее муж забавно разговаривал, заикался, его польский был жестковат, угловат, не помещался во рту, и мама сказала мне тогда, что он – мазур, один из последних, которые тут остались.
Мы едем дальше. Едем по гравийным дорогам и проселкам, по разбросанным в посадках селам в несколько домов, отец накидывает круги, петляет, оставляет хлеб еще в двух продуктовых магазинах. Женщина молчит, но продолжает улыбаться.
– Я не была на похоронах, не смогла, Кайтек болеет, – обращается к моему отцу.
– Третью апелляцию в Верховный суд подали. Но те говорят, что никак, что референдум должен состояться. Тысяча человек – это десять процентов от числа лиц, имеющих право голоса, – отвечает отец.
– Я думала, будет больше, – отвечает женщина, и тогда впервые перестает улыбаться.
Мы въезжаем в очередное село. Издалека вид – прекрасный. Свежепокрашенные заборы, новые фасады, садики, постриженная трава, цветы. На улице почти никого. Я оборачиваюсь, в грязном заднем стекле вижу контур машины Ольчака и Одыса.
– Помнишь, как меня зовут? – спрашивает меня женщина.
– Эля Валиновская, – говорит мой отец, прежде чем я успеваю вспомнить.
Но через минуту заборы, фасады и садики исчезают, и мы съезжаем с асфальта на очередную грунтовку, где по обе стороны встает густая зелень; вскоре в ее конце появляются серые, асбестовые, низкие и прямоугольные постройки. Это пустые, полуразрушенные старые атомные бомбоубежища. Мы проезжаем возвышающийся над серыми плоскими строениями дом старой колхозной управы, полуразрушенный серый куб под шифером, изъязвленный черными ямами окон, из которых давно уже повыбивали стекла, и едем в сторону нескольких маленьких домиков, с такого расстояния кажущихся мелкими и мерзкими обмылками – эти пээнэровские дома, двухэтажные, с кривыми стенами и облезлыми фасадами. Не помню, чтобы я когда-либо сюда ездил.
– У нее уже везде метастазы, – говорит Валиновская, когда мой отец подъезжает под старые, грязные, покрытые растрескавшимся шифером дома, поставленные на границе пустынного поля и темного, густого леса, проведенного по горизонту жирной черной полосой. Когда я выхожу из машины, первое, что вижу, это приткнувшийся к дому старый детский велосипед, потом цветы, расставленные под выгоревшими занавесками, открытые окна, в которых видны грязные стены и контуры мебели.
– Кто? – спрашивает мой отец.
– Мальчевская. Забрали ее в больницу, а теперь привезли домой, – Валиновская сама открывает заднюю дверь машины и берет поддон хлеба.
– И что? – мой отец делает то же самое.
– Ничего. Лежит и умирает, – отвечает Валиновская.
– Лежит и умирает, – повторяет отец.
– Это ее сын был в Иностранном легионе, – говорит Валиновская.
– Тот, что умер в Африке.
Валиновская кивает.
– Хороший был парень, – добавляет отец.
Ольчак и Одыс подъезжают тоже, выходят из машины, начинают вытаскивать еще поддоны. Я осматриваюсь, но не вижу тут никакого магазина. Тот был в селе, но мы не останавливались там ни на минуту.
Отец ставит поддон на землю и громко свистит. Его свист режет воздух, словно кнут, тот начинает подрагивать, словно рядом горит сильный огонь.
– Будет больше исчезновений. Ты должна быть осторожной. Она не шутит, – говорит отец Валиновской.
– Постоянно кто-то исчезает, – отвечает женщина.
– Как Папроцкий, – вмешивается Одыс.
– Ну, с Папроцким – это была жесть, – смеется Ольчак.
– Никакой жести там не было, – укоряет его Валиновская.
Одыс поворачивается к Юстине, словно уже зная, что ей хочется это услышать.
– Папроцкий – это еще одна трагическая баллада, так скажу. Он дерьмовозом ездил. Заботился о машине, потому что с этой работы жила вся его семья. Ну а потом однажды вечером исчез. Искали его три дня, везде, заявили в полицию, расспрашивали знакомых. А три дня спустя жену его как толкнуло что, пошла в сарай, где он держал этот дерьмовоз. Заглянула в цистерну – а он там был.
– Утопился в дерьме? – спрашивает Юстина.
– Десять секунд, не больше. Такое вот ядовитое. Человек раньше от токсина умирает, чем тонет, – Одыс качает головой. Ольчак начинает смеяться, как видно позабавленный историей о дерьмовозе, отец подходит и лупит его в лоб, и тогда Ольчак смолкает, удивленный, а отец свистит снова. Во дворе появляется мужчина, весь темно-коричневый и сморщенный как сушеное яблоко, в грязном, вытянутом свитере, с темными усами. Волочит ноги, хотя старается волочить их как можно быстрее. Подходит к нам. Где-то вдалеке пробегает худой, некрасивый пес.
– Господин Гловацкий, – говорит мужчина.
– Позови всех, – отвечает отец.
– Некоторые еще спят, – говорит он. Подходит к отцу, жмет руку. При виде меня и Юстины сжимается, словно боится.
– Так, сука, разбуди их! – громко говорит отец.
Мужик кивает, волочит ноги в сторону дома. Наверняка у него что-то с бедренным суставом. Отец разворачивается к Ольчаку:
– Все берут всё.
Ольчак кивает. Каждый берет по поддону хлеба. Он тяжелый, я сцепляю зубы, напрягаю мышцы, уже через несколько шагов те начинают болеть, словно кто-то воткнул в них раскаленную проволоку; я все еще не знаю, что мы будем делать. Подходим к противоположной стороне дома под обшарпанный, некрашеный подъезд, от которого растекается запах старого жира, пыли и плесени. На фасаде видно сделанную спреем надпись: ПАРТУХОВО СУКИ. Рядом информация о некоей Анете, что, мол, у нее воняет из дырки, и – повстанческий «якорек» [47]47
Речь о граффити, соединяющем польские буквы «Р» и «W» с двумя якорьками на концах последней – символ Варшавского восстания 1944 года.
[Закрыть] с животиком «Р», направленным в неправильную сторону. Окно на втором этаже выбито, заклеено полиэтиленовым мешком для мусора. На другом стекле видно наклеенную икону с Богоматерью. Территория перед домом напоминает свалку, ее покрывает грязный разноцветный ковер раздавленных банок, битого стекла, пачек от дешевых сигарет, мороженого, конфет. Солнце выходит из-за небольшой тучи, разливается по земле, все становится прекрасно видно. А все, что видно, выглядит так, словно ему стыдно. Я ставлю поддон на землю. Ольчак и Одыс составляют из остальных что-то вроде фигуры тетриса.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?