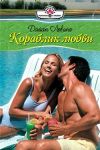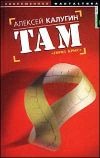Текст книги "Холм псов"

Автор книги: Якуб Жульчик
Жанр: Триллеры, Боевики
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
– Ты просто мог бы спросить. Мог бы посмотреть, что происходило на самом деле – и тогда бы помог. А так выдумал всякую ерунду – и только мешал, – ответил отец.
– Я ухожу, – сказал я, но, прежде чем встал, Гжесь схватил меня за руку и сказал – Хочешь знать, что тут происходит? Интересно тебе? Так слушай.
Я посмотрел ему в глаза. Он отпустил мою руку. Я остался. Официантка выглянула во дворик, я показал ей чашку, не знал, поняла ли она, что я хочу. Она исчезла в темных внутренностях ресторана. Я вытер со лба пот. Отец рассматривал на свет свои ногти.
Я увидел, как на голубом, выстиранном небе появляется одинокая тучка. Была еще далеко от солнца.
– Знаешь, что делали Кафель, Мацюсь, Порчик, вся эта банда, что делали множество парней в Зыборке? – отозвался Гжесь.
– Крали машины, – ответил я. – Это известно. Облава – была на них.
– Облава была позже, – добавил Гжесь. – Но, да, бомбили машины. Много. И делали на этом немалые деньги. Помнишь?
Я кивнул. Естественно, я помнил. Все началось в тот момент, когда я выехал из Зыборка. Когда Кафель и Порчик, идиоты и босяки, вдруг перестали быть идиотами и босяками, поняли, что никто им не заплатит просто за крики «Зиг хайль!» и битье людей за то, что те носят вельветки и бусики. Помню, местные говорили, что так объяснял Мацюсь, самый старший из них – мол, нет смысла играть в идеологию, нужно поднять лежащие на земле деньги. И оказалось, что уже через пару месяцев они перестали быть тупарями в «военках», но стали обвешанной золотом аристократией в трениках.
– Потом они начали приторговывать амфетамином. И продолжали бомбить машины. Сделали себе мастерскую возле Колонии. Пытались договариваться – то с цыганами, то с русскими. Но дел с ними никто вести не хотел, потому что они были совсем без башни. Когда входили в бордель, то и обои срывали. Разгонялись на машинах, топили их в речке. Когда обносили магазины, то делали фотосессию на прилавках, – сказал Гжесь.
– В Зыборке не было парня между восемнадцатью и двадцатью четырьмя, который бы с ними не бегал. Может, кроме твоего брата, – добавил отец.
– Знаешь, тут всегда так было, – продолжил Гжесь. – В каком-то смысле. Зыборк перед войной был пограничным городом. Члежиче, в пяти километрах отсюда, была уже Польша курпсов [56]56
Этническая группа, населяющая польскую Мазовию; название происходит от специфической плетеной из липового лыка обуви, курпсов, местной разновидности лаптей. Специфическими чертами характера курпсов в Польше называют упорство, упрямство, экономность и мстительность.
[Закрыть]. Ну и тут всегда был цирк. Контрабандисты, бордели… Но то, что происходило недавно, – превосходило человеческие понятия.
Теперь отец поднял голову, перегнулся через стол, оперся локтями и начал говорить. Словно они запланировали все это в двуголосицу.
– Так обнаглели, что воровали среди белого дня. Начинали в несколько голов, а через два месяца – было их пятьдесят. Фамилии могу тебе и час говорить. Каждого знаю. Знаю, где каждый из них сейчас. Входили в магазины и брали, что хотели. Когда напивались – били стекла, людей избивали на улицах, и ничего. Как на дискотеку приходили – столы летали. Или закрывали дверь изнутри, брали девиц и трахали их по очереди на столах, а то и несколько сразу, а если девица была с парнем, то парню приставляли пистолет к голове. Полиция, как их видела, переходила на другую сторону улицы. Смеялись надо всеми. В лицо. Предыдущий бургомистр, Кудневский, пытался с ними бороться, организовывал расследования, так ему подожгли машину, выбили стекла, а дочку ждали под школой.
– А новая с ними не боролась, – закончил я за него, желая, чтобы они побыстрее добрались до сути.
– Погоди. Не торопись. Не о том речь, что не боролась. Сперва к ним пришел Кальт.
– Да кто это? Он из Зыборка? Это поляк? Немец? – спросил я.
– Это Сментек [57]57
Демоническое существо в народных сказаниях кашубов и мазуров.
[Закрыть]. Кальт – это Сментек. Дьявол, – сказал отец и сплюнул.
– Не понимаю, – признался я.
– Кальт мог бы встать тут, на парковке перед комиссариатом, и задушить маленького ребенка, и никто ничего бы ему не сделал, – сказал отец.
– Потому что все его боятся? – спросил я.
– Потому что он исчезает, когда хочет. Потому что когда хочет – его нет, – ответил он.
Уже когда я был маленьким, родители говорили о каком-то Кальте. Я помню эту фамилию, которая порой носилась в воздухе, звучала в разговорах, которые я никогда не дослушивал до конца, потому что меня тогда выставляли из комнаты.
– Кальт всегда тут был. Не знаю, откуда он взялся. Никто не знает, у каждого свои идеи насчет этого, но не знает никто. Известно только, что появился он в восемьдесят девятом, а потом – кружил. Ольштын. Добремясто. Лидзбарк. Барчево. Щитно. Даже Калининград. Везде есть что-то, что принадлежит ему. Везде есть его деньги. Он их делал, потому что получал бизнес, скупал долги. Подчинял себе бандитов. Гипнотизировал их. Заставлял себя любить, становился им как отец. Появлялся, потом исчезал, но был всегда. Когда был – управлял. Когда было нужно – похищал и убивал. Раз похитил сына мужика, у которого в Ольштыне был ресторан над озером и грибная плантация около Грыдута. Мужик не заплатил сто тысяч долларов, так курьер привез ему руку сына. Всегда, когда в воеводстве кто-то начинал выделываться, Кальт вмешивался. И тогда тоже вмешался. Созвал наших парней и сказал, что все классно, но если и дальше будут так поступать, то через полгода, через год сядут в тюрьму, сдав друг дружку, цыгане перехватят бизнес, а деньги пойдут по пизде. Что нужно думать, а не выделываться. Приблизил их, особенно Мацюся. Говорил о нем: «Мой парень». Обещал, что тот станет миллионером. Научил их, что деньги нужно инвестировать. Отмывал им деньги. Это через Кальта Мацюсь продал мелкие фирмочки, бильярд, видеопрокат и открыл крупные: отель, свадебный дом, атлетический клуб. Сказал: чтобы управлять по-настоящему, нужно управлять легально. Чтобы власть была на твоей стороне. Бургомистры, радные, меры городов.
– Но потом случилась облава и всех закрыли, – сказал я и смутно вспомнил тот момент, когда, лежа в Мордоре и смотря телевизор, я переключил на новости и увидел очередной репортаж из Зыборка: антитеррористов с оружием, засевших на крышах, полицейскую блокаду дорог, бегающих по рынку чуваков в камуфляже и эмоционального репортера, который утверждал, что в Зыборке как раз случилось задержание «очень опасной, организованной преступной группировки». Помню, что я смотрел на это с большой радостью, и что в этом репортаже что-то вспоминали о книжке. «Очередная чума, которая пала на этот маленький симпатичный мазурский город», – сказал репортер.
– Да, так случилось, потому что они его не послушали. Сперва погиб журналист из «Газеты Ольштынской». Мужик приехал в Зыборк сделать материал, потому что уже по всему воеводству говорили: здесь, мол, бандитский город. Ты тогда уже был в Варшаве. Он пошел на дискотеку, в «Бронкс», а уже оттуда его вынесли в черном мешке. Я видел на камере, мне из «Бронкса» показывали, как один из них, кажется, Шишак, в туалете берет парня за голову и лупит о стену. Сильно, моментальная смерть. Только вот запись потом исчезла. А потом – Кальт им говорил, мол, осторожней, деньги у вас уже есть, не дурейте, – они напали на «Макдональд» на семерке. Порчик придумал. Не пойми зачем, наверное, им стало скучно. Вошли сквозь крышу, взяли полмиллиона. Порчик на них устроил сестре свадьбу, тут, в Райборове, каждый к загсу на своем лимузине приезжал. А на свадьбе случился какой-то скандал из-за этих денег, и Шишак, идиот, психопат, рассердился, поехал домой за пушкой, за «тетехой», а у его сестры как раз какие-то парни были. А он пьяным был, да под амфетамином, взял «тетеху» и выпустил обойму по тем парням, так как вбил себе в голову, что они пришли вдвоем его сестру трахать. Один погиб на месте, второй выскочил в окно, ногу сломал, но выжил. Шишак пошел на срок, на него повесили и того журналиста. Ну он и сдал всех. Сказал, где в лесу машины. Где точка, где делали амфи, – барак стоял в лесу, за Картонажем. И тогда устроили облаву. Всех замели, вместе с Мацюсем. Кальт исчез, выехал куда-то, говорили, что в Африку, в Египет, ЮАР. А через месяц Булинская выиграла выборы. Сказала, что уже не будет никаких облав, не будет травли Зыборка, не будет больше о нем книжек, в которых пишут неправду.
– Погоди. Выиграла – и что дальше? – я оглянулся, чтобы глянуть на немцев-пенсионеров, но те давно исчезли. Мы сидели на площадке совершенно одни. Отец снова начал говорить. Каждый раз говорил все тише, а теперь – так, что мне почти приходилось приставлять ухо к его губам.
– Якобы Кальт пришел к ней через два дня, по приглашению. Пришел на заседание совета города, приказал всем выйти. Все как один встали и без слова вышли. Он отвел Булинскую в сторону, сказал, чтобы та села. Она молчала. Только спросила: «Кто вы?». «Господин и владыка севера», – ответил он. Осмотрел ратушу, словно это был его дом, который он только что построил. Сказал, что его парни выйдут через год-два и устроят тут бардак, какого свет не видывал. Сожгут Зыборк. Отомстят. Что они голодные и злые, сказал, как волки, связанные цепью. Волков на цепь сажать нельзя, сказал. И если она хочет спокойствия, то должна позволить им действовать, действовать и жрать, потому что они слишком голодны. Инвестировать деньги, которые у большинства так и лежали, припрятанные по лесам. А она – что, мол, я буду с этого иметь? Богатую гмину, – он ей на это. Отдай нам замок, отдай нам землю у озер, отдай нам предприятия, а сама будешь совладелицей. Будешь обеспечена до конца жизни. Будешь править здесь, сколько влезет. И она приняла предложение. И все, кто здесь что-то имел и хоть чего-то достиг, тоже согласились. А парни вышли, три, четыре года посидели, потому что у Кальта свои каналы в прокуратуре. Так оно все время и идет. Растет. Они воткнули в эту землю клыки, словно вампиры, и пьют кровь. Ни на что не смотрят. Не смотрят на людей. Те, у кого мы были, тот комплекс, что хотят там построить. Это новое дело, ее и Кальта, как и почти все тут. Пропустили через какой-то союз, оформленный на кого-то из чьих-то шуринов, что живут в Зажопинске Поморском и которых никто никогда и в глаза не видел. Если кто не соглашается, то теряет все, на что работал всю жизнь. Тут правят бандиты, Миколай. Это город бандитов. Булинская и сама быстро стала бандиткой, быстро почувствовала вкус этого. Влюбилась в Кальта, как и все они. Влюбилась в Кальта и в деньги… Тут она вроде бы в небольшом домике живет, но ты бы видел ее хоромы над озером в Райборове. Да что там! Деревянный дом на двести квадратов, гектар участка, в лесу, страусы у нее есть, нутрии, сука, жирафов только не хватает. А Кальт приезжает каждый второй уик-энд. На карты. Порой остается на ночь.
Гжесь некоторое время смотрел на небо, словно искал там что-то. Насмотрелся. Поглядел на телефон, спрятал его в карман.
– Камила звонила, – сказал.
– Когда? – спросил отец.
– Раз семнадцать, сука, – ответил Гжесь.
– Она что, здесь? – спросил отец.
– Наверное, – ответил Гжесь.
– Летим, – сказал мой отец, встал, положил на стол наличку за кофеподобный напиток, но я одновременно остановил отца, посмотрел ему в глаза.
– Погоди минутку. Бернат. Что со всем этим общего имел Бернат? – спросил его.
– Бернат на это не подписался. Он и пара других. Бернат сказал, что с бандитами не будет договариваться. Не будет никакой продажи предприятий, никакого строительного самоуправства. Официально, в лицо ей сказал на фестивале, при людях, что ни в какие общие дела он с ней не войдет. А она за это ему устроила на предприятии проверку, санэпидемку, налоговую. Взялась за него. Он начал платить штрафы. Пошел в прессу. Какие-то там статьи вышли, естественно, никто не обратил внимания, потому что кто же сейчас читает газеты, но – вышли. Ну, и он первым придумал устроить референдум. И пришел с этим ко мне.
– И что? У тебя тоже возникли проблемы? – спросил я.
– А ты думал? Слушай, я еще ничего не сделал, а она уже прислала телегу в налоговую, что, мол, я продаю налево хлеб в «Каритас» [58]58
Польская благотворительная организация под контролем католической церкви.
[Закрыть]. Что отдаю бедным. Хотели мне четыреста тысяч штрафа впаять. Думаешь, отчего Ясек и Йоаська ходят в школу в Щитно? Тут директриса сказала, что они в гимназию не переведутся. Да я часами могу тебе рассказывать, – сказал отец.
– А отчего исчез Мацюсь? Если этот Кальт относится к ним как к детям? – спросил я.
– А что тебе Мацюсь? – ответил отец вопросом на вопрос.
– Выпадает из системы, – заявил я.
– Понятия не имею. Мацюсь всегда был неуправляем. Всегда делал что хотел, и делал это по-дурному. Перешел дорогу кому-то, кто Кальта не боится. Цыганам или русским. Я по нем плакать не стану. Этот бандюк – примитив, недоумок.
Гжесь тоже встал. Я пошел за ними. Мы шли по облитой солнцем брусчатке вниз, в сторону машины. Полная, уставшая официантка встала в дверях ресторана, чтобы проводить нас взглядом. И тогда вдруг одинокая тучка набежала на солнце, заслонила его, и в один момент Зыборк вернул свой естественный цвет, цвет растрескавшегося асфальта.
– У Берната они появились сразу после того, как он пришел ко мне, – сказал тихо отец, когда мы вошли в длинную низкую подворотню, что вела на внешний дворик. Было тут холодно, темно. Отец подошел к стене, глядя на плакат, изображавший певца с акустической гитарой. Принялся соскребать ногтем его уголок. Потом перестал.
– Кафель с Порчиком. Пришли вот так просто к его дому, ночью. Стояли пять часов, до самого рассвета, ждали, пока утром пойдет в магазин. А когда он вышел, Порчик вынул газовый пистолет и сказал ему заткнуться и быть вежливым. Потому что будет худо, – сказал Гжесь, расстегиваясь.
– Они не боятся, – отозвался мой отец, вынул из кармана пачку жевательной резинки – та оказалась пустой, он только фыркнул и выбросил бумажку себе за спину. – Это я сказал Бернату, чтобы он смылся к той бабе. Куда-то, где его не найдут. Он только смеялся. Вообще не воспринимал этого всерьез. Говорил: мол, что мне сделают.
Его лицо, как обычно, оставалось недвижимым. Солнце снова вышло из-за тучи, облив светом профиль отца, бритую под ноль голову, кожаную куртку – все это стало выглядеть как вырезанное из этой реальности острым ножом. Контур фигуры моего отца был как клинок. Мы сошли вниз по склону, к запаркованной у тротуара машине.
– Но он все же поехал, – сказал я.
– Когда пришли во второй раз и убили его собаку, и подожгли машину, и намалевали на двери свастику – то уехал, – ответил мой отец.
– У Кафеля десять лет заняло научиться рисовать свастики, – ухмыльнулся Гжесь.
– Значит, они могут прийти и к тебе, – заявил я, глядя на моего отца.
– А и пусть приходят, – заявил он, подумав немного.
– К детям тоже? Это стоит того? – спросил я, думая о своих сводных брате и сестре.
– Всегда стоит, – отозвался Гжесь, выпуская дым. Его телефон снова зазвонил. Он взял. – Буду через пять минут. Что? Что? Ты что, охренела?
Гжесь на минутку отошел от машины. Громко кричал и ругался. Не знаю почему. Солнце обливало его, словно желая расплавить. Отец не обращал на него внимания, но открыл дверь, уже не глядя на Зыборк. Сел и прикрыл на минутку глаза, словно желал дать им отдохнуть.
Гжесь вернулся к машине, сел вперед, ударив дверьми так сильно, что чуть не вылетели стекла. Трясся, словно готов был разорваться на части.
– Что случилось? – спросил я.
– Вот же сука, – ответил он. – Приехала сама, дети остались в Германии.
– И где она? Тут? У дома? – спросил отец.
– Под домом, – ответил Гжесь. У него тряслись руки. Он повернулся ко мне. – Дай еще сигарету.
Лицо моего отца на миг оплыло, но стоило потереть его ладонью – и снова сделалось таким же резким. Он не смотрел на Гжеся. Смотрел перед собой, на Зыборк.
– Едем, – повернул ключ в замке зажигания.
Юстина
Было далеко за полдень, когда мы вернулись из этого ужасного села. Я сразу пошла спать. Боялась, что на середине лестницы потеряю сознание и сползу на пол. Наконец добралась до постели. Чувствовала себя испорченной, словно в мышцах завелась плесень. Долго не спала. Агата взяла меня за щиколотку и легонько тряхнула. Я вынырнула из сна, словно что-то резко вытолкнуло меня на поверхность воды. На миг чуть не задохнулась. Она показала жестом, чтобы я встала.
– Зачем? В чем дело? – спросила я тихо.
– Пойдем, – сказала она так же тихо и вышла из комнаты.
Естественно, я сделала это. Вчера ночью, глупая идиотка. Что такое в жалостном состоянии, отчего оно – сильнее твоих чувств? Честь – то, что выпадает из кармана при первой же оказии, как ключ без брелка.
Я сделала это после того, как перевязала Миколаю голову.
Миколай поступал так не в первый раз. Уже однажды делал это, когда соскакивал с героина; мы тогда были вместе пару месяцев. Но тогда он ничего не помнил, хотя ударил меня кулаком в лицо. На следующий день, когда я обо всем рассказала (он понятия не имел, откуда взялся мой синяк), плакал дня два. Я сказала ему, что хватит, чтобы переставал плакать, и я знаю, что тогда – это был не он.
Теперь, естественно, я знаю, что это – он. Когда человек, которого мы любим, вдруг использует по отношению к нам насилие, мы уговариваем себя, что на самом деле это не он, что его нечто изменило, что он был одержим. Но одержимости не существует.
Я должна была бросить его уже тогда, но знала, что без меня он умрет. Не могла взвалить на совесть его смерть. Должна была собрать вещи, но вместо этого пригрозила ему, что если он сделает так еще раз, то я его убью. Ну и теперь – почти убила.
«Мы должны расстаться», – подумала я вчера ночью, когда уже перевязала ему голову, а он, ничего не соображая, заснул рядом. «Я должна его оставить. Будет только хуже. Он должен остаться в одиночестве. Только это его и спасет. Только тогда он станет самостоятельным. Только тогда он сумеет себя исправить. Это место проклято, подкармливает в Миколае все худшее. Изо дня в день он все более отчаивается, все более пьянеет, все более переваривается всем тем, что здесь происходит. Своим отцом, братом». Я размышляла холодно и логично, или, по крайней мере, так мне казалось. Я не плакала.
Деньги, сука. Я забыла о деньгах. Деньги – это сидящий на груди вампир, держащий тебя за глотку. Ничего этого не случилось бы, когда бы не деньги.
Было, кажется, два ночи, когда я встала и пошла в ванную.
Заперлась изнутри, села на опущенной крышке унитаза, не снимая штанов. Входя, старалась не смотреть в зеркало. Знала, что выгляжу как убийца детей. Вместо зеркала смотрела на ванну и поняла, что никогда не лягу в нее, не стану купаться, не наложу себе в ней маску и не замотаюсь в полотенце, и не отправлюсь потом в свою постель, чтобы почитать какой-то говняный журнал. Что, самое большее, в этой ванне я могу быстренько постоять под душем и еще быстрее из нее сбежать. Как в общаге или тюрьме. И только тогда я начала плакать. Чтобы никто не услышал – кусала полотенце. Под рукой у меня было пиво. Я открыла его и вынула телефон. Некоторое время смотрела на экран, словно бы на нем должно было появиться нечто специально для меня, какой-то ответ, предсказание, разгадка. Чтобы найти его номер, достаточно было одного движения пальца. Я нашла номер и написала:
«Ты хуйло».
Казалось, мне нечего больше ему говорить. Сразу высветилась надпись: «доставлено». Я сделала большой глоток пива, оно было теплым, но не выветрившимся, быстро ударило в голову, смазало меня изнутри. Сигареты лежали под рукой. Я открыла окно, закурила. Сигареты были превосходны.
«Прочитано».
«Ты сделал это специально, – написала я. – Ты дал им те материалы только затем, чтобы я тебе сейчас написала».
Телефон отрапортовал: «прочитано», но рядом не появилось облачко с тремя точками. Пиво все еще оставалось неплохим, а сигареты – все еще превосходными, а потому я продолжила писать:
«Ты сделал это из мести за то, что я уехала».
«Доставлено».
«Ну, напиши что-то, трус».
«Доставлено». Я даже перестала читать.
Пошла за следующим пивом и отослала ему где-то пятнадцать, а может и двадцать сообщений. Когда вернулась в постель, была уже совершенно пьяной, а потому бросила телефон на пол. Даже не переключила его в режим перелета, хотя Он же мог позвонить, мог написать на каждое из моих пятнадцати сообщений, а Миколай мог все это увидеть.
Но меня мало интересовало, что увидит Миколай, а чего он не увидит.
А потом меня разбудил отец Миколая, и мы поехали в это село. В машине, которую трясло на дырявом асфальте, я поняла, что все сообщения, которые я отослала, были прочитаны. Все по очереди. С тем же успехом я могла поцарапать ему капот гвоздем, выбить стекла, орать ночью под окнами. С каждым следующим прочитанным сообщением было все хуже; я не помнила, как писала половину из них; когда дошла до чего-то о старом и вялом хере, спрятала телефон назад в карман. Жалела, что не могу оторвать себе голову и сунуть ее куда-нибудь под одежду.
А теперь меня снова будит Агата, и мне кажется, что я погружаюсь в кошмар, непрестанный ряд пробуждений. Спрашиваю ее, в чем вообще дело.
– Хочешь знать, что тут случилось – и что происходит? – спрашивает она в ответ, непроизвольно поворачиваясь в сторону дома Гжеся.
– Хочу, – соглашаюсь я.
Сажусь за столом, смотрю на нее внимательно. Смотрю, как она смотрит на меня.
– Ты хочешь об этом написать. У тебя украли тему. Опубликовали в газете как чужую, – говорит она, показывая скомканный экземпляр, лежащий на комоде;
я только сейчас его замечаю. Смотрю на него, как на объявление о моей публичной казни.
– Ну да, – говорю, поскольку – а что другое я могла бы сказать?
– Ты забрала ее, не заплатив. Мне потом пришлось вернуться и отдать деньги, – Агата кидает газету на стол, я отодвигаю ее от себя, словно что-то гнилое, пораженное гангреной.
– Прости.
– Стоила два пятьдесят, – пожимает она плечами и показывает, чтобы я спустилась. Когда я схожу по лестнице, у меня кружится голова. Внизу она подставляет мне тарелку с обедом, из которой я в силах съесть всего пару ложек.
Примерно через полчаса мы выходим из машины возле низкого, но широкого частного дома, деревянного, с высокой крышей и застекленной теплицей. Это не типичный дом Зыборка, это дача богатых варшавян. По двору бегает немецкая овчарка, она ведет себя как слепая: хочет лаять, но не совсем понимает, в какую сторону. Может, лает на ветер, который вдруг поднялся, или на серое небо; не может смотреть на нас, встать перед нами; ей явно что-то мешает, какая-то травма, авария внутреннего уха.
– Отчего именно я? – спрашиваю я у Агаты.
– Потому что я сказала ей, что ты журналистка, – Агата пожимает плечами.
– Какой такой «ей»? – спрашиваю я, и тогда в дверях встает явно невыспавшаяся женщина в халате и тапочках.
– Привет, – говорит ей Агата, а та подходит к калитке, пытаясь запахнуться от ветра, и только тогда я ее узнаю: это директор госпиталя, которая тогда ночью попросила отвезти жену Берната домой. Доброшинская или как-то так.
– Привет, Агата, – обращается она к Агате, а потом протягивает мне руку и говорит: – Добочинская. Мария.
– Юстина Гловацкая. Мы уже знакомы, – отвечаю я. Она кивает, словно пропустив мои слова мимо ушей. Похоже, не помнит меня. Выглядит так, словно последние трое суток она проспала, но еще не отдохнула. У нее бледная, уставшая кожа, а под глазами – черные круги. Я чувствую себя глупо. Это интимный момент. Эта женщина в жизни никогда бы так не вышла на улицу.
Дом ее внутри широкий, глухой и пустой. Обставленный хорошо, современно, мог бы оказаться домом где-то под Варшавой. Я вижу большую металлическую вытяжку над плитой, телевизор, повешенный на специально неоштукатуренной стене, деревянный свежеотциклеванный пол. В углу стоит новая белая кафельная печь. Мария быстрыми движениями, словно куда-то ужасно спешит, наливает воды в кувшин, кладет пакетики с чаем в кружки.
– Где дочки? – спрашивает Агата.
– В школе, где же еще, – отвечает та, заливая чай кипятком.
– Как ты себя чувствуешь? – Агата, не тянясь за чаем.
– Словно не в себе, – Добочинская говорит немного громче, чем нужно. Слова «не в себе» будто отражаются эхом от металлической вытяжки и падают на пол, как брошенная монета.
– Дай еще сахару, – говорит Агата, поворачивается ко мне, показывает на Добочинскую пальцем и добавляет: – Мы вместе ходили в лицей.
– Это было лет триста назад. Тогда даже электричества не было. Жили динозавры, – отвечает Добочинская и, наконец, садится за стол, берет кружку в обе руки.
Мне кажется, в этом доме всегда чего-то не хватает, что тут никогда не бывает всех домашних одновременно, что всех приходится сюда созывать специально. Я замечаю, что Добочинская старается говорить как можно тише. Как будто не любит эха, которое носится по дому, когда она говорит слишком громко.
– Ваш муж тоже врач, верно? – спрашиваю я, с горкой насыпая в чай сахар – словно в нем было мое спасение.
– Вы журналистка, верно? – Добочинская не слышит вопроса.
– Вроде того.
Она кивает.
Встает, вынимает что-то из шкафчика, кладет на тарелку и ставит перед нами. Это кучка засохших вафелек. При их виде у меня мигом пересыхает во рту. Отпиваю глоток побольше, Добочинская некоторое время смотрит на меня, словно раздумывая, кто я такая и что вообще делаю в ее доме, потом машет рукой, словно бы отгоняя ей одной понятные мысли, открывает холодильник, вынимает оттуда початую бутылку белого вина. Из шкафчика вынимает три бокала, без вопросов ставит перед нами. Наливает до краев. Свой выпивает сразу, одним махом.
– Мой муж – полицейский, – говорит, помолчав. – Ведет это расследование. По делу Берната.
– Вы об этом хотели поговорить? – спрашиваю я.
Добочинская поднимает взгляд, некоторое время смотрит на Агату. Потом поворачивается ко мне. Спрашивает:
– Вы ведь жена Миколая, верно?
Я киваю.
– Видите ли, расследование зависло в мертвой точке. Мой муж ежедневно приходит домой и заламывает руки. Они не знают, что случилось. За дело взялись люди из воеводства, но тоже не могут ничего найти. Все еще придерживаются версии, что это похищение ради выкупа, что это могут оказаться русские. Но что за русские? И что, ехать туда и расспрашивать людей на улице? – говорит она неторопливо, то и дело вздыхая, словно бы что-то у нее болит.
Я смотрю на Агату, хочу, чтобы та мне дала хоть какую-то подсказку, но та лишь кивает, чтобы я слушала Добочинскую.
Мария же ставит кружку. Некоторое время смотрит на меня. В ее глазах – усталость, но не просто усталость не выспавшегося человека.
– Я думаю, ваш тесть прав в том, что он говорит, – отзывается через некоторое время. – Думаю, ситуация здесь, в Зыборке, вышла из-под контроля. Я думаю, это патология. Но я, в противоположность ему, полагаю, что это можно разрешить только снаружи. Потому и хотела с вами поговорить, возможно, вам удастся что-то сделать. Томаш считает, что все должно оставаться в Зыборке. Что это наше дело, то, что тут происходит. И что это никого не должно интересовать, – добавляет она, видя мой вопросительный взгляд.
Через мгновение снова встает, открывает ящик стола, вытягивает картонную коробку, полную лекарств. Глотает кучу таблеток. Некоторые ей приходится раскусывать. Она делает это, даже не кривясь.
– Мой тесть… если мой тесть говорит правду, значит, он в серьезной опасности, – отвечаю я, глядя на Агату.
– Нам они еще ничего не сделали, – говорит Агата. – Потому что весь город знает, что мы знаем, что мы говорим об этом вслух. Нельзя так вот сразу.
– Не бойтесь. Что-то да сделают, – Добочинская подходит к маленькому, плетенному из лозняка столику в углу, тянется к кипе лежащих там газет. Что-то ищет, потом возвращается с этим чем-то в руке и кладет его на стол.
«Директор больницы зарабатывает больше премьера», – заголовок красным шрифтом на обложке помятого экземпляра «Курьера Зыборского». Добочинская на снимке выглядит намного моложе. Она подкрашена, довольно улыбается.
– Брат Булинской – главный редактор, – говорит она, тыча пальцем в газету. – И сейчас, естественно, все уже хотят меня отсюда выгнать взашей. В больнице я под непрерывным контролем. В любой момент найдут там грибок или какое-то фиктивное заражение. И все, снимут по дисциплинарке, угроза жизни людей, запись в личное дело, всем спасибо, все свободны.
– Хватит и того, что она начала говорить, – Агата снова тычет в Добочинскую пальцем. Той это совершенно не мешает, это вот тыканье пальцем и говорение о ней в третьем лице.
– Чувствую, я скоро из-за всего этого разведусь, – говорит Добочинская дальше. – Мой Пьотрек считает, что вы все тут – безумцы, не знаете, где правда, а где ложь, и болтаете всякую чушь. Что весь этот Кальт – выдумка, что его никто в глаза не видывал. Что Берната похитили русские, так как тот не хотел платить. И все. А остальное – пустые разговоры, травля.
– У него есть какие-то доказательства? – спрашиваю я.
Добочинская некоторое время без выражения смотрит на кафельную печь в углу комнаты. Потом глядит на коротко остриженные ногти.
– Он должен получить повышение, – говорит через некоторое время. – Инспектор скоро пойдет на пенсию.
Я оглядываюсь. Сквозь стекло теплицы вижу, как странная собака все медленнее бегает по кругу. Может, пытается достать лежащую неподалеку игрушку.
– Вы должны понимать, что я действую по собственной инициативе, что меня уволили, – говорю я через минутку. – И что у меня не слишком хорошие контакты в редакциях.
– Видишь ли, мясо и кровь, которые были у Берната во рту, исследованы, криминалисты поработали над ними в лаборатории. Были тесты ДНК. Муж рассказал мне, я, конечно, никому не должна говорить. Заставила Пьотрека сказать, поскольку Бернат был моим пациентом, – говорит Добочинская.
– И что? – спрашиваю я тихо, чувствуя, как у меня медленно холодеет шея.
– Они и правда человеческие. Могли быть и свиными, но почти наверняка – человеческие. Более того, выглядит так, словно они – его собственные, почти полное совпадение ДНК, – отвечает она. – Словно бы он начал есть самого себя. Но, тем не менее, нигде на его теле нет глубоких ран. Неоткуда ему было этого мяса, извиняюсь, взять в рот. Были какие-то царапины, уколы, но никаких глубоких ран.
– Ужас, – я чувствую, как холод сползает с моей шеи вниз по спине, одной большой каплей, как жидкий азот.
– Ужас. Это все – ужас, – кивает Добочинская. – Но никто не знает, что с ним делать.
Кто-то звонит в дверь, звук катится по этим просторным помещениям, словно вой сирены, мы все втроем одновременно подпрыгиваем от страха. Добочинская хватается за сердце. Машинально берет свой бокал и выливает вино в мойку, прячет бутылку назад в холодильник. Я наконец-то отпиваю глоток, вино холодное, такое холодное, что непросто понять, какой у него вкус, кроме того, что оно терпкое и мигом вымывает эту хлебную сухость изо рта.
– Кто это? – спрашивает Агата.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?