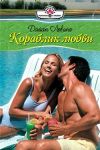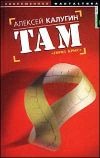Текст книги "Холм псов"

Автор книги: Якуб Жульчик
Жанр: Триллеры, Боевики
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Тот мужик, которому свистел мой отец, приставляет ладони ко рту и кричит что-то невнятное в сторону окон – что-то, что могло бы оказаться фамилией моего отца. Дом не реагирует, но потом из него доносятся разнообразные звуки: скрип, стук дверей, на улицу медленно выходят живущие тут люди. Толстая некрасивая девушка с ребенком на руках, которая выглядит лет на двадцать с небольшим, но с тем же успехом ей может оказаться пятнадцать, в застиранной розовой футболке с логотипом вермишели «мальма». Женщина, тоже большая, постоянно кашляющая, выглядящая больной всем подряд, в растянутой блузке в цветочек. Несколько маленьких детишек в дешевых штанах, мятых, словно со встречи хип-хоперов. На одном из них явно перешитая толстовка с надписью «Ебать сук и ментов», но на надпись никто не обращает внимания. Мужчина, беззубый старик, в распадающемся от старости коричневом пиджаке, надетом на желтую от грязи рубашку. При виде этих людей я отступаю на шаг. Все они, вместе с полудесятком других персон, таких же бедных, больных, раздавленных, несмело смотрят на поставленные перед домом поддоны. Сбившись в кучку, словно связанные невидимой веревкой, словно позируя для художника, – выглядят обитателями гетто.
– Ну, не толкайтесь так, а то затопчете друг дружку, – Ольчак смеется.
– Ну, все, все, нет времени, – говорит мой отец.
– Вам ведь уже за такое УСС [48]48
Управление социального страхования – официальная организация в Польше, кроме прочего занимающаяся малоимущими и бездомными. В рамках государственной политики Польши, неофициальная помощь бездомным и нищим может быть обложена штрафом.
[Закрыть] выписывало штраф, господин Гловацкий, что же вы делаете? Что же вы делаете, только проблемы поимеете, – говорит большая больная женщина. Волосы ее, крашенные в лизолово-рыжий, похожи на бесформенное гнездо.
– И что с того? – спрашивает мой отец, стоя перед ними. – Берите, не болтайте. И быстро, а то передумаем и в Партухово отвезем.
– Только не в Партухово, – вздыхает женщина, подходит к поддону, берет три буханки, прижимает к огромному телу и уступает место другим людям.
– Вам бы битву устроить, сражение сел, одно на другое, со штакетинами, я бы, сука, приехал посмотреть, зуб даю, – сплевывает Ольчак.
– Да там ведь половина уже зенки денатуратом залила, – Одыс тоже сплевывает.
– Мы без претензий к ним, – говорит мужик, который нас встречал. Берет буханку под мышку. Больная толстая женщина начинает плакать. Ребенок в слишком больших, подвязанных платяным пояском штанах и в футболке с покемонами берет кусок хлеба и откусывает. Одна из женщин хватает его за ухо, ребенок пищит, как маленький звереныш.
– Когда вы референдум сделаете? – спрашивает женщина сквозь слезы. – Когда сделаете, потому что они сюда пришли, мерили, снова снимки делали. Никто нас ни о чем не спрашивал. Никто даже «добрый день» не сказал. Под домами стояли. Показывали на что-то пальцами. А на нас – даже не как на людей. Как на собак. Когда сделаете?
– Снесут на раз-два, сразу все снесут, а нас в контейнеры вышлют или черт его знает куда, – говорит женщина помоложе, в розовой футболке. У нее низкий, туповатый голос.
– Весь берите. Следующего раза не будет, – говорит отец. Снимает еще поддоны с хлебом и булками, ставит на землю, вытирая руки от грязи и муки.
– Вас кто-то хочет отсюда выкинуть? Не понимаю, – говорит Юстина. На минутку входит в подъезд, осматривается. Из-за окна на втором этаже, того, заклеенного мешком для мусора, доносится глухой стон.
– Бургомистерша будет тут туристический комплекс строить. На пятьсот человек. Вместе с Кальтом. Уже договорились, даже плакаты напечатали, – говорит Одыс.
– Тут? – Юстина тычет пальцем в землю и чуть ли не впервые смотрит на меня.
– Ну, тут в лесу два озера есть, красивые, дикие, сто, двести метров, – Ольчак показывает пальцем.
– А рыба какая. Вот такие лини. Щуки, – добавляет мечтательно мужик в коричневом свитере.
– А нас в контейнеры. Уже поставили. За Колонией Зыборк. Уже ждут нас. Гаражи такие, – говорит толстуха.
Стон слышится снова, теперь куда громче.
– Мальчевская? – спрашивает Валиновская.
– Морфин закончился, – говорит кто-то из толпы.
– Это дома гмины [49]49
Административно-территориальная единица местного самоуправления в Польше.
[Закрыть]. Булинская уже все статьи нашла, чтобы снести. Слишком, мол, плохие условия для жизни, угроза, мол, эпидемии или как-то так, – объясняет Ольчак.
Люди с хлебом медленно исчезают внутри дома.
– Все будет хорошо. Выгоним сукиных детей. Не беспокойтесь. Выгоним сукиных детей, и вас тут обустроим, – говорит мой отец.
– Вы – ангел сущий, господин Гловацкий, – толстая женщина делает шаг в сторону отца, словно желая его обнять, но он отступает. Снова слышен стон, еще громче, еще выше, словно кто-то ведет гвоздем по эмалированной поверхности. Я уже позабыл о своем похмелье; Валиновская исчезает внутри дома, Юстина идет за ней, и я следом, прохожу мимо пустых поддонов и вхожу внутрь.
Комната узкая и тесная, обита старыми панелями, воняет старой едой, мыльной водой и дерьмом. На
розовых стенах старые, большие репродукции, Иисус и Мария с глазами, устремленными вверх, темные и выгоревшие, остановленная агония. На полу затертая, грязная дорожка, чей узор исчез уже десятилетия назад, заваленная обувью, из которой ни у одной, как на первый взгляд, нет пары. Выпадающие из петель двери в ванную. Пятна, везде пятна, на всем, пятна и потеки, словно здесь расползся не пойми какой грибок, инфицировал тут все. Кое-где попахивает мокрым деревом. На мебельной стенке несколько старых книг, к стене прикреплена небольшая керосиновая лампа, а в комнате справа, там, где выбитое окно заклеено мешком для мусора, на топчане под окном, укутанная одеялами и покрывалами, не женщина – а скорее, иссохшая ее тень с искаженным, растянутым болью лицом, красными глазами. Рядом столик, покрытый розовой клеенкой, полный упаковок лекарств и иконками, и еще вонь мочи, вареной картошки, дерьма.
– Господи боже, – говорит Юстина, отступает на шаг, наталкивается на меня, хватает за руки. Я не вырываюсь.
– Значит, Булинская хочет выставить эту женщину на улицу. Считает, что это все – ее. Что вся территория, вместе с лесом – ее. Гмины, а значит – ее, – говорит Валиновская.
Ее улыбка куда-то исчезла. Юстина закрывает нос от вони, Валиновская привычная, наклоняется над живым трупом женщины, вылущивает из-под пластов
одеял и простыней руку, которая выглядит как кусок тонкой старой коры. Встает, идет куда-то, наверное в ванную, приносит грязную пластиковую миску с водой и в меру чистую тряпку. Смачивает тряпку, кладет женщине на лоб.
– У нее страшный жар, – объясняет.
– А люди в Зыборке? – спрашивает Юстина.
Я чувствую, что ее покачивает.
– Откройте окно, – говорит Валиновская.
Я подхожу, со скрипом открываю окно, чувствую, как в эту отвратительную духоту врывается клинок свежего воздуха, но только затем, чтобы через миг исчезнуть в его жирном брюхе. Я выставляю голову наружу, чтобы не сблевать.
– Люди в Зыборке в гробу это видали, – говорит Валиновская. – Люди в Зыборке хотят, чтобы – покой, чтобы все выглядело красиво, чтобы те, кто должен заработать, – заработали.
– Это рак? – спрашивает Юстина, я слышу, что она уже не знает, о чем спросить.
– Рак всего, – отвечает Валиновская.
Я вижу сквозь окно, как отец стоит рядом с машиной и смотрит вперед, далеко, куда-то в лес. Слышу, как у него звонит телефон.
– Что? И что? – отзывается он громко.
– Я слышала, как она говорила, что когда все снесут, то еще тут нужно залить все известью, чтобы выжечь, чтобы зараза не разнеслась. Запретила выплаты для этих людей из-за, как это называет, пересмотра средств. Что они – тараканы, насекомые, – говорит Валиновская.
– Ты что говоришь? Ты что гонишь? – спрашивает мой отец. Оглядывается и смотрит на меня, как я выглядываю в окно.
– Бернат был первым, кто начал сопротивляться. Сказал, что он никакого центра на горе людей строить не станет, – говорит Валиновская.
– Как – сопротивлялся? – спрашивает Юстина.
В комнате снова стонет женщина. Словно бы кто-то давит лапу маленькой зверюшке.
– Должен был вложиться, дать ей инвестиции. Вышел. А потом пришел к вашему отцу и сказал, что нужно раздувать скандал. Ну и раздули. Матерь Божья, она же еще ходила пару недель назад. – Валиновская приседает у постели.
– Поехали, там Гжеся замели! – кричит отец. И только теперь я вижу, какой он красный и как трясутся у него челюсть и руки, и что Ольчак и Одыс попрятались от страха в машину.
Чувствую, как Юстина встает со мной рядом около окна. Чувствую, что должен прикоснуться к ней, и делаю это, а она не сопротивляется.
Она холодная, словно парализованная. На ее лице что-то проступает, у любого другого оно было бы страхом. Но не у нее, у нее это нечто другое, нечто, для чего нет слов.
– Ну, быстрее, сука! – орет вдруг мой отец, красный, размахивая руками. – Гжеся арестовали, Гжеся в тюрьму замели!
И только сейчас до меня доходит, что` именно он сказал, и я пробегаю мимо Валиновской и умирающей женщины и, не глядя на Юстину, сбегаю вниз.
Миколай / 2000 / Нынче вечером мы распнем неискренних
Это она сделала. В смысле – начала. Если бы не она, ничего бы не было до сих пор. То есть, кто-то наверняка бы смилостивился. Некрасивая одноклассница. Знакомая по Интернету. Потаскуха с Улетов, натертая темным автозагаром, с тупым и насмешливым лицом. Амбиции парализуют. Я боялся, что ничего не сумею. А если ничего не сумею, то она – раньше или позже – станет смеяться.
– У родителей Аськи домик в Ястшембове, – сказала она однажды вечером, когда мы сидели, а вернее лежали на склоне замкового холма, попивая самое дешевое баночное пиво (не помню, какое тогда было самое дешевое баночное пиво, зато помню, что были сигареты по три пятьдесят, мы все их курили, назывались они «вейв», были лучше русских «монте-карло», продавали их в деревянном киоске, добавляя к двум пачкам игровые карточки).
– И что? – спросил я.
– Аська устраивает там день рождения.
– И что, пойдем на день рождения Аськи как парень и девушка?
Она пожала плечами.
– Что, ты не против? – спросил я.
Она не ответила.
– И когда мы идем?
– На выходных, – пожала она плечами. Она часто пожимала плечами. Утверждала, что ни о чем не беспокоится, поскольку беспокоиться нет смысла. (Я до сих пор завидую этой ее способности и не перестану завидовать до смерти.)
– Не знаю, пустит ли меня отец. Раньше никогда не отпускал, – что-то в моем животе превратилось в ледяную иглу, едва я только подумал, что мне придется встать перед отцом и сказать ему, что я еду на выходные на дачу.
– Сейчас пустит, – сказала она тоном настолько уверенным, словно бы сама уже обо всем договорилась.
Прижалась ко мне всем телом. Я чувствовал себя хорошо, и это было странно. Естественно, я все еще боялся. Но что-то приглушало страх. Возможно, пиво у меня в руках, все еще в меру холодное, с пузырьками. А может – это была Дарья. Или тот факт, что у меня оставался шанс сдать за выпускной класс.
Дела какое-то время назад казались отвратными, честно.
– А если тебя не отпустит, то сбежишь, – сказала она.
– Ну да, точно, – ответил я.
– Ты что, никогда не сбегал из дому?
Дарья делала такое часто. У нее были причины. Ее мать была жилистой, сухощавой и совершенно безумной женщиной, проводившей жизнь за работой на почте, а в свободное время она плакала, кричала, бросала предметы в тесной квартирке блочного дома, постоянно проверяла комнаты трех своих дочерей (у Дарьи были две сестры помладше, они все еще ходили в начальные классы), копалась в их одежде и ранцах, била их по лицам и вопила на своего мужа, грузчика, которого только что уволили с работы и который целые дни проводил за усовершенствованием своей лотерейной системы, записанной в стостраничной тетради в клетку.
– Однажды она сожгла эту тетрадь, а он все восстановил по памяти, – рассказывала мне как-то Дарья.
Вообще я старался не заходить к ним домой. Сделал это всего раз, где-то через неделю после того, как мы начали встречаться: после уроков мы пошли в ее тесную, с обоями в цветочек комнату. На стенах висели плакаты «Звездных войн» и «Озера мечтаний», множество детских рисунков и большой плакат с концерта «Корна» (Дарья никогда на нем не была, но получила тот от своего одноклассника за пиво). В комнате был компьютер, для всех трех девочек, маленький слабый телевизор и магнитофон с коллекцией кассет. Мы легли на раскладном диване и начали медленно трогать, щупать и поглаживать себя, не настолько резко, как тогда, на Психозе – скорее, чувственно и ласково, и именно тогда я впервые увидел ее грудь, большую и белую, освобожденную от черного тяжелого бюстгальтера, с коричневыми сосками, грудь, словно бы сделанную из плотного теста, как и вся она.
– Ну, дотронься, чего ты ждешь? – сказала она с улыбкой, и я уже почти собрался это сделать, рукой, замороженной в воздухе, но в тот момент в квартиру вернулась ее мать. Дарья мигом оделась, ее ловкость в этом меня удивила, но времени задумываться уже не было, потому что ее мать ворвалась в комнату и принялась орать.
– Блядуешь, потаскуха! – завопила она еще в коридоре, похоже, заметив мою обувь.
– Мы учили уроки, мама, – отвечала Дарья, стоя перед ней спокойно и прямо.
– Блядуешь, потаскуха, еще школы не закончила, а уже блядуешь, что это, что это вообще такое, как мне жить, как мне жить тут, убью себя, клянусь, пойду и убью себя, и все, повешусь на дереве из-за блядства, что ты устроила! – принялась кричать ее мать, на половине этого словотока расплакалась, потом захлебнулась словами, спрятала лицо в ладонях, оперлась о стену и соскользнула по ней в сидячую позу.
Дарья все это время стояла ровно, со сжатыми губами, не реагируя; потом, когда спазматический плач матери превратился в тихое всхлипывание, кивнула мне, чтобы мы вышли. Мать осталась скорченная на полу, тихонько вздрагивая. Дарья закрыла дверь на ключ и сунула тот в карман.
– Она все равно может выбить окно, но в последний раз ее зашивали в «скорой», потому, возможно, на этот раз она сдержится, – сказала она.
Потому Дарья сбегала из дому, на каникулах была сама на станции Вудсток и ездила автостопом к морю, а на ближайших каникулах хотела съездить стопом в Чехию, а может и дальше – и хотела, чтобы я поехал с ней.
А я ответил, что о'кей, хотя и знал, что мне придется встать перед своим отцом и обо всем ему рассказать.
В любом случае дома у Дарьи я бывал нечасто. Зато она часто бывала у меня. Мой отец, на удивление, ее любил – то есть мне казалось, что он ее любил, так как не обращал на нее внимания и только иной раз спрашивал, не хочет ли она бутерброд или чаю. Раз я подслушал, как они с матерью разговаривают, а он говорит той, что Дарья «кажется, дочка той чокнутой с почты», а моя мать отвечает, что «бедная девочка, но что ж поделаешь». «Лишь бы ребенка не заделал», – сказал отец, а мать ответила: «Ну так иди и скажи ему, как не заделать». Естественно, мой отец скорее проглотил бы колючую проволоку, чем заговорил бы со мной о сексе. А если бы это и сделал, то только спьяну, а такое, пожалуй, не помогло бы моему параличу, тому испугу, из-за которого мои руки, спускаясь ниже пояса Дарьи, делались до странного бессильными, вели себя так, словно столкнулись с отпором, которого, если по– честному, совершенно не было.
Может, это случалось так, потому что я не мог рядом с ней расслабиться. Я не мог об этом заговорить, открыться ей, да и, честно говоря, у меня не было с ней слишком много тем для разговоров. Кроме школьных заданий, читала она немного, я же читал кучу всего. Слушала она почти ту же музыку, что и все: «Корн», «Крэнберрис», «Хэй» или «Лимп Бизкит», которые тогда начинали становиться популярными и которых я, в свою очередь, считал диким селом. К тому же она совершенно не представляла себе, что хочет делать. Никто из нас не знал, но у других, по крайней мере, были какие-то мечты, предчувствия, а у Дарьи не было ничего. Хотела делать хоть что-то, работать в магазине, быть официанткой, кем угодно, только бы не сидеть в Зыборке и не жить с матерью. Хотела пойти учиться, но в одном из приступов ярости ее мать проорала, что денег на такое у нее точно нет, а если та так этого хочет, то в большом городе спокойно может заработать передком. У ее матери вообще был какой-то пунктик на проституции и на всяких сексуальных услугах за деньги. С ее точки зрения, этим вообще занимались все, кроме нее самой. Даже отец Дарьи с ее точки зрения был жиголо.
Насчет того, чтобы уехать, говорили все в школе. А выезд на дачу сам по себе не был каким-то особым приключением. То есть ни для кого, кроме меня, поскольку отец ни разу не позволил мне отправиться в такие места, я же всегда фантазировал, как однажды отправлюсь туда просто так, без разрешения, как без разрешения я иной раз пытался выходить ночью из дома, хотя в последний момент меня всегда охватывал страх.
Но все, кроме меня, ездили, начиная, едва теплело: в Натачу, Яблонну, Вежбову – в одно из сел над озерами. В каждом у кого-то из их родителей был деревянный домик без обогрева, где проводили уик-энды, а летом – и целые недели, плавали по озеру, крали лодки, пили пиво и вино, укуриваясь и разводя костры, устраивая ссоры с местными.
Я любил быть с Дарьей наедине, едва такое оказывалось возможным, в своей комнате, во дворе, на квартире у Трупака, который порой оставлял нам ключи, когда ездил на выходные к отцу в Щитен. Лучше всего было, когда она просто была рядом. Когда грела меня своим телом так, что я почти чувствовал жар. Тогда мои мышцы расслаблялись, дыхание выравнивалось, все расплывалось как в тумане, как видимое через закопченное стекло. После что-то такое я ощущал, лишь когда укуривался.
Воспоминания со временем карамелизируются, словно мед. Никто не сможет обмануть тебя больше, чем они.
Так или иначе, но как-то после школы она сказала, чтобы мы поехали на эту дачу днем раньше. Потому что все – я не до конца понимал, кого она имеет в виду, говоря «все», – уговариваются, что приедут туда днем раньше, забив на уроки и сделав Аське неожиданность.
Я согласился. Она сказала, чтобы я подошел к ее дому к шести, но я сперва решил поговорить с отцом.
– Какая дача, где, с кем, сука?! – слышал я сквозь кухонную дверь, как он кричал матери, поскольку ей я сказал первой. Попросил, чтобы написала мне заявление на отпуск в школе. Мать, естественно, согласилась, поняв все. Сказала, что поговорит с отцом, опустив только информацию о прогуле школы в пятницу.
– Что ему, плохо тут, не нравится?! – кричал он, похоже, после трех бутылок пива.
– Не в том дело, просто все его приятели туда едут, – отвечала мать.
– А если все его приятели начнут пыхать, ты тоже так скажешь?
– Но там же не станут укуриваться, – отвечала мать, и даже меня это позабавило.
Я спрятался в своей комнате, где Гжесь рубился на компьютере в «Героев меча и магии». Крики снизу становились все громче.
– Едете на дачу в Ястшембове? – спросил он, не отводя взгляда от монитора.
– Да, но ты не едешь, – сказал я, ища в одежде деньги и сигареты.
– Да я знаю, что не еду. Я никуда не езжу, – сказал он, пожимая плечами. На голове его была повязка из эластичного бинта. Подрался с каким-то парнем, который разрубил ему палкой кожу на черепе, а сам получил от Гжеся камнем в лицо и, говорят, потерял пару зубов. Гжеся отстранили от школы, и ему вроде вполне нравилось, что можно гонять «Героев» сколько влезет.
Отец снизу крикнул еще что-то, громко и невнятно, а потом в комнату вошла мать, посмотрела на меня и сказала:
– Будь осторожен. Возвращаешься в воскресенье к обеду.
– Что ты ему сказала? – спросил я.
Ничего не ответив, она вышла из комнаты. Я доныне не знаю, какой аргумент она тогда использовала.
– У тебя все есть? – спросила Дарья, когда вышла ко мне из дома.
– Все. Немного денег, курево, шмотки, – сказал я, показывая на рюкзак.
Она улыбнулась.
– Тогда пойдем, – сказала и взяла меня за руку. Ее ладонь была теплой как солнце.
В Яблонну мы поехали автостопом. Не помню, кто нас вез, но помню, что был он за рулем кабриолета и что я тогда впервые ехал кабриолетом, к тому же под ярким солнцем и с девушкой, которой – я все еще был в этом уверен – не заслуживал. Я был для нее слишком некрасив, слишком странен, она просто ошиблась, приняла меня за кого-то другого, может, у нее что-то со зрением, может, она спит наяву. И я помню, что когда ехал тем кабриолетом, когда держал ладонь на рюкзаке, который успел уже наполниться банками с пивом, то думал, что когда доберемся до места, сразу все и случится. Там будут мои друзья, но появятся ее друзья и подруги; некоторых я, конечно, знал, но с кем-то не говорил никогда; и что именно в их присутствии ее глаза, наконец, раскроются. Она посмотрит на меня, на меня в настоящем моем виде, не измененного из-за ее проблем со зрением, но на меня – худого, вялого, все еще немного прыщавого меня, прижмет руку ко рту, чтобы не сблевать, и скажет:
– Знаешь, Миколай, извини, но не знаю, что ты здесь делаешь, никто не хочет, чтобы ты тут был.
А потом, рыдая, побежит умываться и будет часами, до крови, оттирать себя пемзой.
Но пока что Дарья сидела на заднем сиденье, вжавшись в меня, и, несмотря на все мои опасения, были это наилучшие минуты в моей жизни.
К Яблонне нужно было съехать с главной трассы на кривую гравиевую дорогу: дача родителей Аськи стояла в самом ее конце. Помню, мужик из кабриолета высадил нас на повороте, и дальше мы шли пешком; помню, сняли куртки, завязали их себе на бедрах, потому что было по-настоящему тепло, как для ранней весны, по очереди пили из одной банки. Помню, я чувствовал себя свободным и в безопасности. Я уже знал, что счастлив, так как люди, бывает, и всю жизнь проживают без таких моментов.
Дом был деревянным, двухэтажным, с крутой треугольной крышей. Его окружали высокие деревья, главным образом ели, в одном углу двора виднелся колодец, в другом – место для костров, окруженное покрытыми сажей камнями. Калитка была заперта.
– Может, нужно позвонить, – сказал я, ища в рюкзаке мобилку, тяжелую «Нокию», которую не любил, считая ее ненужным поводком для себя. У Дарьи мобилки не было. Легко догадаться, какой способ раздобыть себе мобилку подсказывала ей мать.
И доныне помню, никогда не забуду, как Дарья сунула руку в карман штанов и вынула ключ, и отперла калитку, и мы вошли на совершенно пустой двор.
– Пойдем, – сказала она. – Кое-что тебе покажу.
– А где все? – спросил я.
– Приедут позже. Пойдем, кое-что тебе покажу, – повторила она.
Когда мы прошли на другую сторону домика, оказалось, что там есть спуск к озеру. Вода была мутной и зеленой, светилась, под солнцем выглядела как огромный кристалл. Вход в воду был почти закрыт камышом, в котором исчезали полуразвалившиеся мостки с вытертыми досками. Среди золотого и гнило-коричневого камыша торчал ржавый, привязанный здесь водный велосипед. Я подошел к мосткам. Чем ближе я подходил к берегу, тем вязче становилась земля. Если нажать на нее ботинком – тихонько чавкала. Под поверхностью воды что-то быстро двигалось – не то рыбина, не то маленькая змея.
– Ты тут когда-нибудь была? – спросил я.
– Много раз. Осторожно, там полно пиявок, – сказала она.
– Что теперь? – спросил я.
– Не знаю, что теперь, – улыбнулась она.
– Когда они будут? – спросил я, почувствовав вдруг такое невыносимое напряжение, что не сумел даже развернуться в ее сторону.
– Тоскуешь по Трупаку? Ты ведь сидел с ним сегодня за партой, – засмеялась она.
– Нет, не тоскую. Напротив.
Помню, что потом, в домике, мы лежали на диване в маленьком зале с деревянными панелями, где пахло деревом и пылью, пили пиво, взятое из моего рюкзака, и курили травку, взятую из ее рюкзака, глядя в огонь, который, к огромной моей гордости, удалось развести без особых катастроф и ожогов. Мы снова обнимались, а потом она взяла меня за руку, и мы пошли на второй
этаж в одну из комнат, в которой тоже был диван, и где еще сильнее, чем внизу, пахло деревом и пылью и все скрипело: помню, что когда я ставил ногу на пол, от скрипа резонировал весь дом.
– Они вообще приедут сегодня? – спросил я, но она не ответила, а взяла свой рюкзак и на минутку вышла из комнаты.
«Они наверняка приедут уже угашенные, – думал я посреди ночи. – На машине Квадрата». Квадрат ездил на украденном у отца «Фиате Пунто». Прав у него не было, но он всегда возил всех, и чем пьянее был, тем охотнее это делал.
Помню, как я сидел на диване, смотрел на стены дачи, помню, как за стеной что-то стукнуло, тихо, я подпрыгнул от страха и посмотрел в ту сторону, а когда оглянулся на дверь, Дарья уже стояла там, совершенно голая.
Помню это как сейчас. Она оперлась о косяк локтем, опустив вторую руку вдоль тела. Естественно, прежде всего была ее грудь, белая и тяжелая, а потом чуть выпуклый живот и маленькие складочки на бедрах, и камешек в пупке, над которым виднелось маленькое золотое колечко, выглядящее так, словно она вставила его себе сама, а еще это – небольшой кустик волос между ногами.
– И что? – спросила она, а я ответил.
– Боже.
– Что – «боже»? – улыбнулась она.
– А если они придут? – спросил я как последний идиот, поскольку на самом деле не знал, что я должен сказать.
– Они не приедут сегодня. Аська дала мне ключ, – ответила она и подошла ко мне, и села рядом. – Не думай. На меня впервые кто-то смотрит вот так, при свете.
– Спасибо, – сказал я.
– Не благодари, нельзя, – она положила ладонь мне на лицо.
– Ты уже когда-нибудь это делала?
– Делала, – сказала она и стала меня целовать, словно в знак того, что не хочет мне говорить ничего больше. А потом толкнула на спину и добавила: – Ну хватит.
Не было смысла ее останавливать. Она взяла мои руки и положила их сперва себе на грудь, потом на спину, а потом на попу. Ее волосы лезли мне в нос и глаза. Она пахла как обычно, сладким молоком с мылом, но теперь мне казалось, что так будет уже пахнуть все и всегда. Она была такой теплой, что некоторое время я думал, что обожгусь. Но мне это нравилось. «Ну и пусть обожгусь, – думал я. – Пусть делает, что захочет. Пусть проглотит меня, пережует и переварит, пусть убьет меня, если ей так хочется».
Она на миг приподнялась. Посмотрела на меня. Ее лицо показалось из-под волос, словно найденное сокровище.
– Ты надел резинку? – спросила, а потом встала и взяла из своего рюкзака пачку презервативов. Я понял, что она и правда делала это с кем-то, и этот кто-то сразу появился в моей голове, потом появился позади нее, быстро рос, через пару секунд уже был трехметровым, черным абрисом, который неподвижно стоял там, пока она подходила ко мне, безоружному, лежащему на диване с болезненно напряженным членом.
– Наденешь? Или мне это сделать? – спросила она и, прежде чем я ответил, быстро, с изяществом медсестры, что делает укол в задницу, сделала это. Трехметровая фигура испарилась.
Я был на ней и в ней, упирался ладонями в матрас и входил в нее, и выходил из нее, и старался нигде ее не придавить, не воткнуть в нее ни локоть, ни колено, ни что другое, что могло торчать из моего нескладного тела, а она смотрела на меня широко открытыми глазами, словно тоже никак не могла поверить в то, что происходит (хотя наверняка прекрасно могла поверить в то, что происходит). Ее распущенные черные волосы укладывались вокруг головы в черную корону, она что-то немо говорила, а может, это шевеление губ было просто нервным дыханием, но в конце она все же произнесла, я помню:
– Больше ничего не будет.
И тогда, в тот момент, я понял все: кто-то сделал снимок внутри моей головы, и вспышка осветила все ее уголки, и я понял, что каждый на самом-то деле знает все, знает свое будущее, и все знают будущее всех, и я тоже; я смотрел на Дарью и понимал, что это когда-нибудь закончится, и то, что длится сейчас, – самое важное в моей жизни.
Я понял, что любовь не существует сама по себе, ее всегда нужно вызывать из ничто, как жизнь или музыку, что любовь – или то, что люди любовью считают – всегда наиграно, произнесено, что ближе всего к любви – именно этот запах, запах крема, молока и сахара с толикой пота и пива, и косячков, и старого дивана, за который кто-то лет десять тому назад что-то пролил, и оно уже успело четыреста раз испортиться. Я понял: единственное, что мы можем делать – это воссоздавать в себе чувство факта и стараться ранить
себя как можно меньше. Я понял: единственное, что нам дано – это крикнуть и потом миг-другой слушать эхо этого крика, и все, и до свиданья, и конец. Я понял, что все девушки, которые любили всех парней во всех Зыборках мира, на самом деле – одна девушка, и все те парни и девушки – один и тот же парень и одна и та же девушка под одним закатом солнца, который однажды превратится в зарево взрыва.
Я понял, что каждый, по-настоящему каждый, всегда носит в сердце выгравированный в нем мир. Я понял: после того, что случится сегодня, и меня, и ее ждет только боль, и так и должно быть, это – естественно.
Я понял, что скоро выйду из дома и уже никогда не вернусь.
(Я, естественно, был готов и спорить, что весь этот мыслительный понос оставался просто переживанием из-за того, что я ЗАНИМАЮСЬ СЕКСОМ С ДЕВУШКОЙ.)
А потом она оплела меня ногами и прижала ими к себе, по-настоящему сильно, она была сильнее, чем я полагал, все наполнило меня, поднялось и потом взорвалось, и я лег на нее, и дышал очень глубоко, словно только-только вынырнул с самого дна озера, с легкими, полными черной, холодной воды.
– Было супер, – сказала она через минуту, а мне вспомнился трехметровый черный человек, у которого все еще не было лица, поскольку я никакого не мог к нему прицепить, не помнил, чтобы Дарья ходила с кем-то из пацанов.
– Хочешь искупаться вместе? – спросила она, а я кивнул. Уже не помнил ничего из того, что понял, поскольку мир сделался совершенно другим.
Мы выпили еще по две банки пива, она прижалась ко мне и некоторое время я ощущал неудобство, но потом все выключилось, а когда снова включилось, Дарьи рядом уже не было, зато над диваном стоял Трупак с бутылкой дешевого вина в руке.
– Ни фига себе, какое тут порно херачит. Ты что, трахнулся, что ли? – спросил он.
– Отвали, – ответил я.
– Ты не обзывайся, на вон, завтрак съешь, – сказал он и подал мне бормотуху, от которой я едва не блеванул.
Мы развлекались на даче всю пятницу и субботу, до полудня воскресенья. Всего заявилось сюда человек тридцать. Самой яркой звездой оказался Быль, который при всех варил в большой кастрюле свое фирменное – макумбу, то есть молоко с анашой. Вел он себя как ведущий кулинарной программы; втиснутый в слишком маленькую спортивную куртку «Адидас», пил водку и вино, курил, рассказывал анекдоты, то и дело цеплялся к каждому из участников гулянки, громко смеясь и демонстрируя брекеты, почти закрывавшие ему зубы. В кастрюле было литров десять зеленоватой молочной юшки, в которой плавали куски травы: листья, стебли, цветы, – и она воняла так, словно под окном запарковалась фура с компостом. Быль всех успокаивал, что, мол, нет нужды пить именно в таком виде, что он сделает из жижи шоколадный пудинг. Я один не хотел пить макумбу. Хотел оставаться в сознании – насколько можно.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?