Читать книгу "Возможности любовного романа"
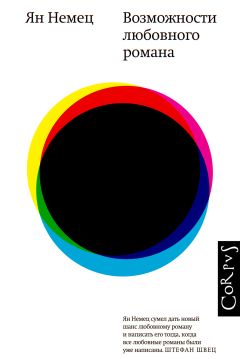
Автор книги: Ян Немец
Жанр: Современные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
девушка застрелила бойфренда, чтобы снять видео на YouTube
iDnes.cz, 20 декабря 2017, 16:04
20-летняя американка из штата Миннесота в погоне за интернет-славой выстрелила в грудь своему бойфренду. Тот держал перед собой книгу.
Инцидент произошел в июне этого года. Монализа Перес из города Холстад в Миннесоте застрелила Педро Руиса, отца ее двоих детей, из золотого крупнокалиберного пистолета Desert Eagle. Пара рассчитывала, что пуля не пробьет книгу, которую Педро держал перед собой. Эта ошибка стоила Руису жизни. Как сообщает The New York Times, 22-летний молодой человек скончался на месте.
По словам Перес, выстрел был совершен с расстояния примерно в 30 сантиметров. Толщина книги составляла чуть меньше 4 сантиметров. Девушка призналась, что поддалась на уговоры после того, как Руис показал ей другую книгу, в которую выстрелил накануне. В первый раз пуля насквозь не прошла.
За несколько часов до инцидента Перес написала в Twitter: “Мы с Педро собираемся снять одно из самых опасных видео за всю историю. Это его идея, а не моя”.
Пара вела свой YouTube-канал, куда выкладывала пранки, обычно безобидные. На одном из видео Руис залезает на дерево и падает. На другом Монализа предлагает своему бойфренду пончик, посыпанный детским тальком вместо сахарной пудры. Тетя Руиса сообщила журналистам, что пара искала популярности, поэтому снимала все более безумные ролики.
На судебном заседании, состоявшемся в пятницу, Монализа Перес признала свою вину. Согласно американскому источнику, девушка, в соответствии с досудебным соглашением, может провести полгода в тюрьме и 10 лет будет находиться под административным надзором. Кроме того, ее могут пожизненно лишить права владеть огнестрельным оружием. Окончательный приговор будет вынесен в феврале. Максимальный срок наказания предусматривает 10 лет лишения свободы.
“Не знаю, о чем они думали. Я не понимаю это стремление молодого поколения ухватить свои пятнадцать минут славы”, – прокомментировал случившееся Джереми Торнтон, шериф округа, где произошел инцидент.
* * *
Несмотря на все старания, мне так и не удалось выяснить, какая именно книга не смогла спасти Педро Руиса от смерти. Известно только, что толщиной она была чуть меньше четырех сантиметров, значит, если плотность бумаги составляла стандартные 80 г/м2, то в книге было около четырехсот страниц[5]5
Известно только, что толщиной она была чуть меньше четырех сантиметров, значит, если плотность бумаги составляла стандартные 80 г/м2, то в книге было около четырехсот страниц. – Толщина листа офсетной бумаги плотностью 80 г/м2 составляет 0,1–0,11 мм, значит, в книге, по всей видимости, было чуть меньше четырехсот листов, то есть семьсот-восемьсот страниц, а не четыреста, как предполагает автор.
[Закрыть]. Военный роман? Сборник духовных песнопений? Притчи царя Соломона? Комикс? Мы даже не знаем, была ли она в твердом переплете или в мягкой обложке, не слишком уместной для подобного эксперимента. Тем не менее автор вот этого вот романа забеспокоился и решил из соображений безопасности включить в него несколько лишних глав, в общем-то не представляющих никакой особой ценности, – и перед вами как раз одна из них. Согласно прогнозу компьютерной модели, пуля, выпущенная любимым существом из крупнокалиберного пистолета указанной марки, должна застрять в последних страницах книги. В процессе лабораторных экспериментов пуля повредила задний переплет только в трех случаях из ста и только в одном случае достигла груди волонтерки из числа книжных блогеров. Рана была поверхностной, блогерша сфотографировала ее несколько раз на свой айфон, после чего сотрудники издательства оказали девушке первую помощь.
в моей душе расцвел бутон
Впервые я встретил Нину в день похорон Яна Балабана.
Последний апрельский день 2010 года выдался необычайно ясным. Когда утром я торопился на поезд, небо уже казалось выкроенным из цельного полотна голубого атласа. Это абсолютно не сочеталось – атомный взрыв весны, опаливший светом лица прохожих, и смерть Балабана. Похороны отделяла от нее ровно неделя. Она прошла в какой-то суете и тревоге, от которой я не избавился даже тогда, когда взирал в окно купе на склады и свалки, составляющие пейзаж предместий.
В один из дней той беспокойной и бездарной недели я сидел в аспирантском кабинете на факультете социологии, тупо уставившись в экран компьютера. Из электронного тумана наплывал на меня JSTOR, продукт международного академического сотрудничества, задуманный, по-моему, в Принстоне и постепенно распространивший свои благодеяния на университеты второго, третьего и прочих миров. Задаешь в строке поиска, скажем, social action theory – и база данных мгновенно выдает тебе список релевантных текстов за последние сто лет. Остается только спросить себя: есть ли смысл добавлять к этому списку что-то еще?
Меня не особо радовало, что от экрана издательского компьютера я перехожу к экрану компьютера в аспирантском кабинете, что на обоих экранах у меня одновременно открыто десять вкладок и что в этом и состоит, по сути дела, моя работа. Я чем дальше, тем больше чувствовал себя Великим Компилятором. С тех пор как компьютер, подключенный к интернету, стал основным рабочим инструментом на подавляющем большинстве кафедр, во многих научных сферах поселилась иллюзия, будто новые знания зарождаются исключительно in vitro. Неудивительно, что жалюзи в нашем кабинете для аспирантов почти всегда были опущены. Нам, молодым социологам, совершенно не нужно было знать, что происходит снаружи, к тому же из-за солнечного света экраны бликовали. Большинство аспирантов что-то заполняло в вечно голодной информационной системе университета или листало Фейсбук. Тогда все еще думали, будто Фейсбук – это место для тупой прокрастинации, не догадываясь, что именно там зарождаются их блестящие карьеры политических комментаторов, консультантов по маркетингу или инфлюенсеров.
С самого начала было понятно, что большинство из нас не задержится надолго в этом кабинете с закрытыми жалюзи. Аспирантской стипендии хватало примерно на неделю, поэтому все где-то так или иначе подрабатывали. Те, кто вовремя бросил аспирантуру, пользовались на бирже труда преимуществом: им не надо было в будущем доплачивать за степень.
Я просматривал JSTOR ради того, чтобы написать доклад для конференции. На тему социального протеста в цифровую эпоху. В новом окне я открыл свою статью на аналогичную тему:
Critical Art Ensemble (CAE) – это группа, состоящая из пяти художников, цель которых – поддержание и развитие моделей культурного сопротивления в цифровую эпоху, перераспределения механизмов власти и развития биотехнологий как радикального эксперимента по системной колонизации человеческого тела, до сих пор неприкосновенного в своей биологической природе. CAE очевидным образом основывается на положениях критической социологии второй половины XX века и, в отличие от прочих протестных движений, занимается не только практическими, но и теоретическими вопросами.
Интерес к цифровым технологиям в случае CAE базируется не столько на технократическом подходе, сколько на убежденности, что подобные технологии меняют как устройство властных структур и характер коммуникации внутри них, так и сами структуры в целом. Более того, CAE предполагает, что перераспределение власти, которая утрачивает свою функцию в киберпространстве, чтобы, подобно подземному ключу, забить в новом месте, принципиально влияет на характер стратегий протеста…
И так далее.
Я заблокировал экран компьютера и вышел прогуляться по галерее, опоясывающей атриум. Внизу как раз проходило какое-то мероприятие и стоял гул, как в улье. Собственно все это здание было истинным домом трудолюбия. Каждый спешил куда-то по своим делам, люди в коридорах вежливо здоровались друг с другом, иногда даже обращаясь по имени, но почти не останавливались. Все встречи здесь назначались заранее, будь то заседание кафедры или собрание студенческих проектных групп, которые рассаживались за круглыми столиками в атриуме.
В этих проектных группах неизменно встречались одни и те же типажи. Студентка психологии анорексичного вида с рюкзаком, усыпанным значками, сохранившимися еще со средних классов школы и позволяющими восстановить короткий путь интеллектуального развития их владелицы. Солидно одетый студент международных отношений с портфелем, повесивший свой пиджак на спинку стула, – студент, который раньше остальных понял, что мир в итоге принадлежит тем, кто позабыл чувство неловкости. Социологи, явно знакомые с классическим трудом Георга Зиммеля “Философия моды” и намеренно одевавшиеся так, чтобы ничего о себе не сообщать; хотя, возможно, они выбирали себе безликую одежду неосознанно, от стыда перед четырнадцатилетними рабочими бангладешских текстильных фабрик. Студенты гуманитарной энвироники с деревянными браслетами на запястьях, в толстых свитерах, связанных какой-нибудь старушкой, живущей на границе Моравии и Словакии, с ноутбуками, облепленными логотипами “Гринписа” и “Эмнести интернешнл”. И наконец, шумные журналисты, у которых даже футболки – и те с надписями, потому что там, где не выражено какое-то мнение или позиция, место пропадает зря.
Это все, конечно, стереотипы, но нужно же было на что-то опираться. Впрочем, даже вооружившись стереотипами, я не очень понимал, кто такие эти двадцатилетние. У них не было никакого общего опыта, который бы их объединял и определял. Естественно, они пользовались одними и теми же гаджетами, имели аккаунты в соцсетях, вели более или менее одинаковый образ жизни, но все это скорее формировало их внешнее сходство и заражало нарциссизмом малых различий, как выразился где-то Фрейд.
Я был старше их лет на восемь – вполне достаточно для того, чтобы чувствовать себя представителем другого поколения, хотя между ними и мной не было принципиальной разницы.
Я дважды обошел атриум и, взяв кофе в автомате, вернулся к компьютеру. Под клавиатурой лежали материалы для просеминара, который мне как аспиранту приходилось вести. На этой неделе мы разбирали Фуко. Среди студентов был один незрячий. И когда я спросил, почему иногда интереснее изучать знание о какой-то вещи, чем саму вещь, именно этот студент ответил: “Потому что наше знание о вещи – это и есть ее сущность”.
В рамках семинара о Фуко это было прекрасное замечание, но теперь, сидя в поезде, который вез меня на похороны Балабана, я вспомнил те слова и усмехнулся: когда в жизни случаются действительно серьезные вещи, им все равно, что мы о них думаем.
* * *
До похорон в Остраве мне еще предстояло выступить на каком-то семинаре творческого письма в оломоуцком университете. Когда я сошел с поезда на вокзале в Оломоуце, утро все еще не кончилось. Пассажиры устремлялись по подземному коридору в сторону вокзального вестибюля и оказывались лицом к лицу с теми, кто стоял перед табло отправления и караулил, пока высветится номер их платформы. Со стороны могло показаться, что это такая игра в “гуси-лебеди”, а обе команды здесь – только лишь друг друга ради. Впрочем, прибывшие быстро миновали ожидающих и выпорхнули наружу, провожаемые равнодушными взглядами голубей, примостившихся под крышей внутри вокзала.
Я направился на кафедру богемистики. В моей душе расцвел бутон, и мир вдруг стал похож на сон, – гласила выведенная черным маркером по белому кафелю надпись, которую я прочел, справляя нужду перед тем, как идти на семинар.
В аудитории за столами, составленными буквой “П”, сидело человек пятнадцать студентов – в основном первокурсники и второкурсники. Пока преподаватель меня представлял, я раскладывал на кафедре книги и распечатки студенческих рассказов и оглядывал собравшихся. Большинство девушки, но было и несколько парней, которые на первый взгляд вполне соответствовали привычному, слегка уже замусоленному представлению о слушателе филологического факультета. Студентки выглядели скорее как школьницы, чем как женщины, вступающие во взрослую жизнь, их внутренний мир еще не отразился на их лицах, да и внешний не успел оставить там особой печати. Одна девушка была хрупкая и тощая, с колечками кудряшек, благодаря которым она занимала чуть больше места в пространстве; другая чересчур увлекалась черным цветом разной степени застиранности. Справа от кафедры сидела блондинка в красной футболке и с диковатым каре – спереди волосы были намного длиннее, чем сзади, так что по плечам ее скользили два острых угла. Помимо нее мое внимание привлек еще парень с умным, несколько ироничным взглядом, в футболке с надписью Eat pussy not animals.
Преподаватель упомянул, что мой сборник рассказов “Этюд в четыре руки” был недавно номинирован на премию Иржи Ортена[6]6
…мой сборник рассказов “Этюд в четыре руки” был недавно номинирован на премию Иржи Ортена. – Литературная премия Иржи Ортена вручается в Чехии авторам моложе тридцати лет.
[Закрыть]. Блондинка трубно зевнула, словно в жизни нет ничего скучнее “молодого писателя, который ради нас проделал такой путь”, как торжественно заявил профессор.
Рассказы, прилетевшие накануне мне на почту, за одним-двумя исключениями ничего из себя не представляли. Парочка жутких автокатастроф, немного секса и случившееся в оломоуцкой церкви чудо, суть и смысл которого так и остались невыясненными. Хотя тексты эти писали богемисты, в них собралась богатая коллекция орфографических ошибок, а стиль сочинений не раз заставлял меня подозревать, что возникло какое-то недоразумение и я получил на почту домашние задания по чешскому как иностранному.
И все-таки мне было любопытно, кто из студентов какой рассказ написал, и я исподволь соотносил лица с текстами. Каждый из них я коротко комментировал, и временами из этого рождалась вымученная дискуссия. Широко зевнувшая блондинка оправдала мои ожидания: она действительно оказалась самой языкастой.
По крайней мере так было до тех пор, пока не дошла очередь до ее рассказа.
– У меня было мало времени, – сообщила она, прежде чем я успел что-то сказать. – Я писала это в последний момент.
Мне сразу вспомнился ее мейл.
– Ага, так значит, это вы отправили мне письмо без темы, без обращения, без текста и без подписи. Видимо, все силы ушли на рассказ?
– Еле-еле смогла вложение прикрепить, – ответила блондинка, и по аудитории пронесся смех.
В рассказе говорилось об обиде, нанесенной героине учительницей гимназии; правда, там еще и отец замешался. Взяв эти две страницы, я прочитал свой накарябанный внизу комментарий: ТЕКСТ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ, МЕСТАМИ ДАЖЕ САМОБЫТНЫЙ, НО ХАЛТУРНЫЙ.
– Когда я читал, мне показалось, что вы описываете реальный случай, произошедший с вами, – закинул я удочку.
– Не парьтесь, – ответила она. – Я вообще записалась на этот курс только потому, что здесь можно кредиты на халяву получить. Так мне сказали.
Я с любопытством поглядел на преподавателя. Тот, откашлявшись, произнес:
– Но я рад, что вы с нами.
Еще бы вы не радовались, говорил ее взгляд; я, по крайней мере, расшифровал его именно так.
– И все-таки, – попытался я зайти с другой стороны, – в вашем рассказе что-то есть, хотя и видно, что он скроен наспех. Мне показалось интересным ваше внимание к рассказчице. По-моему, вы хотите этим что-то сообщить. Посвяти вы работе чуть больше времени, может, вы и сами бы поняли, что именно намеревались сказать. И тогда смысл рассказа открылся бы и читателю.
Она пожала плечами и неохотно кивнула.
Я решил немного ее помучить:
– Ну а теперь вам все-таки придется сформулировать, о чем конкретно вы написали рассказ.
– Да чего тут формулировать, – ответила она и едва ли не устало подперла лицо ладонями. А может, просто почувствовала, что на щеках выступает румянец, и захотела его спрятать? – Это как если бы вы у меня спросили, что хотел сказать автор. Так ведь уже сто лет не делают.
Я заглянул в распечатку, чтобы освежить в памяти имя студентки.
– Ну и как же, Нина, по-вашему, следует делать?
– Понятия не имею. Кстати, а не могли бы вы объяснить, например, разницу между сюжетом и фабулой? – спросила она, и несколько богемисток засмеялось. – Это у многих любимая тема.
Я пробежался по оставшимся работам (оказалось, что чудо в оломоуцкой церкви лежит на совести русского танка[7]7
…чудо в оломоуцкой церкви лежит на совести русского танка. – На территории Оломоуца с 1968 по 1991 год располагались части советской Центральной группы войск. Видимо, поэтому в одном из студенческих рассказов фигурирует “русский танк”.
[Закрыть]) и, наконец, подобрался к самому главному.
– Вообще-то я здесь проездом, – сказал я, взяв в руки книгу в зеленой суперобложке. – Дальше я еду в Остраву на похороны Яна Балабана, который тоже когда-то изучал богемистику в Оломоуце. И, кстати, именно здесь он написал свои первые рассказы.
Студенты притихли.
– Кто-то из вас читал Балабана?
Поднялась одна рука, потом ее нерешительно поддержала вторая; впрочем, обе они принадлежали парню с умными глазами.
– Значит, сейчас мы это исправим. Сначала я планировал читать вам что-то свое, но сегодня все наше внимание Балабану. Я выбрал рассказ из сборника “Мы, наверное, уходим”.
Я нашел страницу пятьдесят шесть, на которой начинался рассказ Pyrhula pyrhula[8]8
…рассказ Pyrhula pyrhula. – Pyrrhula pyrrhula – латинское название снегиря обыкновенного, но у Балабана оно пишется с одной r.
[Закрыть]. Выйдя из-за кафедры, я обвел взглядом аудиторию, а потом принялся читать: Поднимаясь на перевал, он с трудом переводил дух. Косогор, поросший желтой травой, был настолько крутым, что он легко бы коснулся тропы, чуть наклонившись вперед. С каждым шагом он оказывался все выше, как будто взбирался по трапу или стремянке.
Время от времени я отрывал взгляд от книги, стараясь уловить настроение в аудитории. Когда я в очередной раз поднял глаза и посмотрел на блондинку с диковатым каре, то заметил, что она разглядывает мое колено, где на джинсах у меня была небольшая дырка. Наверное, она думает, с какой это стати я еду на похороны с рваным коленом. Я и сам, одеваясь утром, зацепился взглядом за эту дырку. Ладно, сказал я тогда себе, Балабан ведь тоже не в костюме ходил. Но чужой взгляд не похож на собственный, и дырка вдруг раззуделась.
– Знаете ли вы, почему рассказ называется Pyrhula pyrhula? – спросил я после того, как закончил читать и в аудитории воцарилась тишина.
– Потому что это латинское название снегиря, который там упоминается, – ответил кто-то.
Мне самому пришлось специально это выяснять, и я не ожидал, что получу правильный ответ.
– Что ж, теперь я не знаю, кому вручать главный приз – автору лучшего рассказа или вам за исключительные среди богемистов познания в области орнитологии.
– Одному дайте вашу книгу, а другому – Балабана, – подала голос блондинка.
– Неплохая идея, – сказал я. – Но в таком случае у меня ничего не останется для вас…
– А я ничего и не заслужила, – возразила она. – Возьму потом почитать.
– “Этюд в четыре руки” или Балабана?
– Там видно будет, – ответила она неопределенно и вместе с остальными начала собирать вещи.
Когда она выходила из аудитории, я проводил ее взглядом, но она так и не обернулась. Сверкнула в дверях своей красной футболкой – и была такова.
* * *
Перед зданием факультета меня уже ждала машина с коллегами из редакции. Дорога, ведущая на север, была пустой и стремительной. Мы говорили о том, как быть с последней рукописью Балабана, и о том, что надо бы выпустить собрание его сочинений.
Спустя час мы припарковались у отеля “Империал” и решили, что дальше к Евангелической церкви Христа на площади Яна Гуса пойдем пешком. Я достал из багажника погребальный венок и накинул его на плечо, как лямку рюкзака.
Острава в пятницу после обеда уже расслабилась в ожидании выходных, и никто из прохожих, казалось, не проявлял к нам никакого интереса. Мы шли через центр, и я поймал себя на том, что сую перекинутый через плечо венок под нос всем встречным, чтобы они хотя бы прочитали надпись на ленте.
Впрочем, я же знал (именно благодаря Балабану), что Острава – равнодушный город.
У входа в церковь уже собирались люди. Некоторые затягивались последней перед церемонией сигаретой. Я взял венок в обе руки и, пройдя через неф, поставил его рядом с гробом из светлого дерева. Потом опустился на скамью и огляделся по сторонам. Слева сквозь высоко посаженные арочные окна проникали внутрь полосы света. За гробом, усыпанным цветами, сиял крест с непропорционально длинной вертикальной перекладиной. За ним горели электрические свечи; такие же свечи опоясывали люстру, свисавшую на длинной цепи над катафалком. Пресвитерий и неф разделяла арка, к которой, словно гнездо, лепилась кафедра. На арке оранжевыми буквами была выведена цитата из “Послания к Евреям”: Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки Тот же.
Все мне казалось каким-то невыразительным. Достойным, но невыразительным. И только когда к гробу подошел сын Балабана, утопавший в плохо сидевшем на нем костюме (вполне возможно, отцовском), похороны обрели некий свой облик.
Петр Грушка сообщил присутствующим, что вот мы и здесь[9]9
Петр Грушка (род. 1964) – остравский поэт, близкий друг Яна Балабана, редактор его посмертного собрания сочинений, выпущенного издательством “Гость” (Host).
…сообщил присутствующим, что вот мы и здесь. – Петр Грушка в своей траурной речи намекает на название сборника рассказов Яна Балабана “Вот и мы” (Jsme tady).
[Закрыть].
Кто-то зачитал последнюю эсэмэску Балабана.
Пепа Клич сыграл на виолончели[10]10
Пепа Клич (полное имя – Йозеф Клич, род. 1976) – чешский виолончелист, концертмейстер Национального театра в Брно, композитор, сотрудничавший с чешским музыкальным андеграундом.
[Закрыть].
И плоть стала словом, подумал я. Эту надпись можно выгравировать на могиле любого писателя. Но Балабану она подходит особенно.
“Нина, а ты-то что обо всем этом думаешь?” – неожиданно вспомнил я о ней прямо посреди церемонии. Потому что смерть смертью, но уже сегодня вечером я буду воображать, как ты упираешься своими длинными руками в кафельную стенку университетского туалета, а я стою сзади и приникаю к тебе.
Прежде чем закрыть глаза, ты увидишь эту надпись.









































