Читать книгу "Возможности любовного романа"
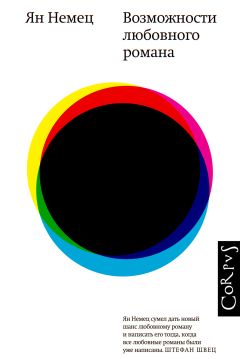
Автор книги: Ян Немец
Жанр: Современные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
в предыдущих сериях
В той необыкновенной печали, которая наполняет человека с момента, когда он, выйдя из детского возраста, начинает осознавать, что обречен неотвратимо и в жутком одиночестве идти навстречу своей будущей смерти, в этой необыкновенной печали, которая, собственно, имеет уже название – страх перед Богом, человек ищет себе товарища, чтобы рука об руку с ним приблизиться к покрытой мраком двери; и если он уже познал, какое бесспорное наслаждение доставляет пребывание в постели с другим существом, то считает, что это слияние двух тел могло бы продолжаться до гробовой доски; такая связь может даже казаться отвратительной, поскольку события-то развиваются на несвежем и грубом постельном белье и в голову может прийти мысль о том, что девушка рассчитывает остаться с мужчиной до конца своих дней, однако никогда не следует забывать, что любое существо, даже если его отличают желтоватая увядающая кожа, острый язычок и маленький рост, даже если у него в зубах слева вверху зияет бросающаяся в глаза щербина, что это существо вопреки своей щербатости вопиет о той любви, которая должна избавить на веки вечные от смерти, от страха смерти, который постоянно опускается с наступлением ночи на спящее в одиночестве создание, от страха, который, подобно пламени, уже начинает лизать и охватывать полностью, когда ты сбрасываешь одежду, так, как это делает сейчас фрейлейн Эрна: она сняла зашнурованный красноватого цвета корсет, потом на пол опустилась темно-зеленая суконная юбка, а за ней – нижняя юбка.
Герман Брох. “Лунатики”
я, ты и Ты
Я написал абзац: Утром я проснулся первым. В задернутые шторы уже снова било солнце, словно пытаясь их распороть. Я сходил на кухню за стаканом воды и, вернувшись, пустил в комнату немного света. Усевшись в кресло, я сосредоточенно наблюдал за тем, как Нина спит. Как Нина дышит. Прижимается головой к подушке. Из-под одеяла высовывается ее колено. Просыпаясь, она еле слышно причмокивает. Неохотно открывает глаза – ресницы словно застегнуты на липучку.
А может быть, лучше написать во втором лице и в настоящем времени? Утром я просыпаюсь первым. В задернутые шторы уже снова бьет солнце, словно пытаясь их распороть. Я иду на кухню за стаканом воды и, вернувшись, пускаю в комнату немного света. Усевшись в кресло, я сосредоточенно наблюдаю за тем, как ты спишь. Как ты дышишь. Прижимаешься головой к подушке. Из-под одеяла высовывается твое колено. Просыпаясь, ты еле слышно причмокиваешь. Неохотно открываешь глаза – ресницы словно застегнуты на липучку.
Так ли уж важны время и лицо?
Иногда у меня такое чувство, будто мне не остается ничего другого, кроме как проспрягать нас по лицам и добраться до самого инфинитива.
И вроде бы здесь есть ты и есть я, вроде бы все, как обычно, но одновременно все по-другому, и я первый, кто это понял. Я беру твое имя, Нина, добавляю к нему другие имена: существительные, но не всегда существенные, прилагательные, имена собственные и чужие, названия местные и неуместные, – и все это ради того, чтобы у тебя разрумянились щеки и заблестели глаза; в каждой главе я накрашиваю тебя перед зеркалом монитора и всячески прихорашиваю, чтобы ты могла выйти в люди, а потом в языковом гардеробе выбираю для тебя глаголы, больше всего подходящие для твоего темперамента и твоих манер.
Ты мой персонаж, и поэтому я забочусь о тебе. Ты мой манекен, моя марионетка, моя перчаточная игрушка, моя надувная кукла, у которой с самой собой общего столько же (не стану уточнять, много или мало), сколько у любовного романа с любовными отношениями.
Я блуждаю по строчкам этой книги одновременно как субъект ее и как объект, едва отличая одну свою личину от другой, ты же здесь просто как то да сё. При случае я могу обращаться к тебе, вот прямо как сейчас, но это ничего не значит, это лишь грамматическое “ты”, которое ничего не весит, это второе лицо, даже слишком второе. “Нина, Нина, Нина”, – пишу я, но это как стих без воздуха, молитва без пылкости, заклинание без магии – Нина, Нина, Нина, – которой твое имя наделяло только твое присутствие. На мне маска шамана, и я совершаю ритуал написания любовного романа, водя обгоревшей палкой по полному золы кострищу, но здесь нет главной составляющей любовных отношений – присутствия другого сознания, этого испепеляющего огня, разведенного на зеркале, огня, которому под силу переплавить это зеркало в подобие оракула.
Мне осталась одна-единственная надежда. Все города, которые я здесь возведу, все улицы, которые опишу, все дома, чьи двери открою, и все комнаты, где мы будем ссориться, мириться и любить друг друга (если, разумеется, верить моим словам), хотя и сделаны из бумаги, дают мне возможность дышать. И за стеной, к которой я в своей комнате время от времени прикладываю ухо, чтобы не сойти с ума, тоже иногда кто-то кашляет, или, бывает, мне слышно, как скрипит кровать или кресло, случается даже уловить пару слов. Я ничего не знаю о своем соседе, кроме того, что он там есть, но мне и этого достаточно. Его существование подтверждает, что я тоже существую. Поэтому больше всего я пестую язык. Он словно канат у меня в руках: дергая за него, я чувствую, что кто-то держит его с другого конца, и пока этот кто-то не разжал пальцы, я могу тянуть канат, а мои персонажи могут перебираться по нему через пропасть.
Иными словами, роман всегда парадоксален, а любовный роман парадоксален в особенности, и главный его парадокс – это Ты. Не ты, Нина, любовь моя, ты теперь всего лишь flatus vocis, дуновение голоса, шепот памяти, фантомная конечность, которая зудит по ночам, хотя давно уже ампутирована и – что еще хуже – пришита к другому телу. Не ты – Ты. Да, это с Тобой я говорю, это Ты держишь другой конец каната, и я, приложив ухо к стене, слышу, как Ты дышишь, читая книгу.
Memories are made of this
Мне удалось выехать из Брно, не застряв в пробках. Заводские цеха, склады и торговые комплексы, занимающие окраину города, остались позади; я уносился по широкой автостраде на юг. Я ехал быстро, быстрее, чем положено; при обгоне машина глотала белые полоски, будто в старой компьютерной игре, по обеим сторонам дороги мелькали свежеубранные поля. Открыв бардачок, где валялись диски с музыкой, обычно перескакивавшие с одного трека на другой, я выудил оттуда сборник Джонни Кэша. Поставил диск в проигрыватель и обогнал еще один автовоз, набитый разноцветными кузовами. С тех пор, как построили автостраду, дорога до Погоржелице, где жили бабушка с дедом, занимала меньше получаса.
Последний месяц лета прошел в каком-то тревожном возбуждении и возбужденной тревоге. В начале августа Нина уехала в Бари, и мы общались с ней только через интернет. Вечерами я ходил в пустую редакцию, включал компьютер, отвечал на несколько рабочих писем, присланных за день, а потом щелкал на синюю иконку Скайпа. Мы с Ниной тогда почему-то редко созванивались, в основном писали друг другу сообщения. Порой мне казалось, что лучше было бы остаться дома и заняться чем-то другим или, скажем, написать Нине настоящее письмо, но вместо этого мы с ней все строчили и строчили в чате. Выходила какая-то ерунда. Минут через двадцать мы оба понимали, что разговор катится на холостом ходу и чем-то напоминает игру шарманки: простая мелодия в нем, конечно, была, но о гармонии оставалось только мечтать; мы то и дело повторялись, отчаянно петляя по извилинам диалога, но остановиться уже не могли и стучали по клавишам, как упорные кладоискатели, которые надеются рано или поздно найти заветный сундук.
Нина присматривала в Бари за четырехлетним мальчиком по имени Паоло: отец – итальянец, мать – чешка. Я без труда представил себе темпераментного сопляка, как раз переживающего первый возрастной кризис. Разозлившись, он дергал Нину за волосы и не мог угомониться до тех пор, пока Нина не разрешала ему засунуть руку ей под футболку и как следует потискать грудь. Уж лучше он, чем его отец, успокаивал я себя. В особняке на окраине Бари Нина была в безопасности, но в городе ее то и дело окликали местные мужики, словно устраивая аукцион прямо на улице и предлагая все новые ставки.
Случались вещи и похуже. Однажды, когда она возвращалась на велосипеде с пляжа по пустой дороге вдоль моря, за ней увязалась машина с тонированными стеклами. Из открывшегося окошка высунулась мужская голова, и водитель велел Нине остановиться. Она продолжала крутить педали, и тогда машина стала прижимать ее к тротуару.
WTF?!
Все хорошо, я уже дома.
Черт!
Лучше бы меня похитили?
Да нет, черт возьми, я за тебя переживаю.
Можно было свернуть на тротуар, а потом на пешеходную улочку. Но я, конечно, струхнула.
Кошмар.
Погоди, достану йогурт для Паоло…
Необычнее всего было то, что я не понимал, в каких мы отношениях. Мы с ней пара – или кто? Наш с Ниной общий баланс был не то чтобы положительным. Я познакомился с ней в Оломоуце, через некоторое время она ни с того ни с сего объявилась в Брно, потом мы провели пару дней в Высочине. А еще через неделю я уехал в летнюю школу, а она – в Бари.
Вдобавок после авторского чтения в Остраве я приятно провел время с падчерицей Балабана Маркетой. Она походила на моих предыдущих девушек гораздо больше, чем Нина.
В общем, из разрывающих меня на части чувств я мог бы разложить пасьянс на приборной панели.
Съезд с автострады я чуть не проскочил, в последнюю секунду перестроившись в правый ряд. Сразу за развязкой показался городок Погоржелице. Белая коробка типографии “Моравия букс” выросла у дороги недавно, зато дальше последовала уже хорошо знакомая мне комбинация: автозаправка, череда частных домов, мост через реку Йиглаву, поликлиника, ратуша, почта, рыночная площадь и белая церковь, перед которой я свернул налево. Миновал бывший магазин электротоваров, где мы покупали батарейки для моих “Электроник”, и до сих пор существующую мясную лавку, где мне никогда не нравилось.
Припарковавшись на подъездной дорожке, я вытащил ключ зажигания – постаревший Джонни Кэш, чей голос напоминал рашпиль, умолк на полуслове. Раньше, едва я появлялся во дворе, меня тут же кто-нибудь встречал, но Жучка умерла года два назад (разве я не сам нашел ее в малиннике с мухами на языке?), а бабушка с дедушкой все больше времени проводили дома. Прежде они целыми днями были на улице: бабушка ухаживала за цветами, а дедушка за кустами и кроликами, или же оба просто болтали с соседями по своему учительскому дому, – но за последние годы они порядком сдали.
Даже запираться начали: нажав на дверную ручку, я, кажется, впервые в жизни не смог войти в квартиру, так что пришлось воспользоваться звонком.
– Яник, как же ты вырос! – воскликнула бабушка, всплеснув руками, хотя расти я перестал давным-давно, и обняла меня. – Да ты уже выше деда!
В матовом стекле двери появилось продолговатое пятно. Оно постепенно увеличивалось в размерах по мере того, как худая старческая фигура приближалась к прихожей.
– Ты хорошо доехал? – поинтересовалась бабушка.
Тут к нам вышел дед. Он поздоровался со мной по-моравски и протянул свою длинную руку, которой не раз отвешивал мне затрещины. Чуть поколебавшись, мы обменялись поцелуями в щеку. Прежде дед бы так не сделал, но с возрастом он стал нежнее. И еще одно: благодаря поцелую я понял, что дед нынче не брился, а ведь раньше это было совершенно немыслимо. Бритье входило в число его обязательных утренних ритуалов, закладывая фундамент дня. Именно от деда я получил на восемнадцатилетие свою первую электробритву и точные инструкции, как ею пользоваться. “В бритье главное – область кадыка”, – объяснял он и по-птичьи вытягивал перед зеркалом шею, обучая меня мужским повадкам.
– Да ты проходи, проходи, – подталкивала меня бабушка. – Как же хорошо, что ты приехал. Сейчас чай заварю.
– Итушка, мы сегодня еще кофе не пили, – напомнил дед.
– Тогда давай с нами кофейку? – предложила мне бабушка. – У нас и пирожные есть…
Оба они передвигались уже с трудом. Бабушка зашаркала в кухню, а дед поплелся в комнату и опустился в потертое коричневое кресло. Мы задали друг дружке традиционные вопросы, какие обычно звучат при встрече, и дед принялся извиняться – мол, ему, собственно, и рассказать-то нечего: он нигде не бывает, ничего нового у них не происходит, а повторять телевизор – дело бессмысленное. И это говорил человек, который полжизни провел за учительским столом и при малейшей возможности горячо спорил о политике, нередко утомляя всех своими рассуждениями.
Если кормление кроликов, завтрак и бритье означали для деда начало дня, то новостная заставка возвещала наступление вечера – вместо колокольного звона, с которым сверялся когда-то его отец. Впрочем, дед телевизор не смотрел – он с ним спорил. Я вдруг вспомнил, что еще совсем недавно в новом здании на окраине города с блестящих типографских станков соскальзывали страницы “Майн кампф”; дед организовал тогда петицию протеста, будто пытаясь хотя бы теперь остановить наступление Гитлера, раз уж он не сделал этого в юности. Петиция ни к чему не привела: рынок изменился, как объяснили деду в типографии, и “Майн кампф” стала пользоваться спросом. Помимо крайне правых, в своей любознательности решивших припасть к первоисточникам, существовали еще толпы историков-самозванцев, которые в то время бились над бессмысленным вопросом, что хуже – нацизм или коммунизм, и были не прочь откопать подходящую цитату из Гитлера, чтобы сопоставить ее с высказыванием Сталина.
– Яник, помоги мне все донести, – попросила бабушка, приоткрыв дверь комнаты и просунув голову в щель.
Я проследовал на кухню, где все уже было готово: на пластмассовом подносе стояли позолоченные чашки со свежезаваренным кофе и тарелка с тремя эклерами.
– У меня руки дрожат, – произнесла бабушка извиняющимся тоном и улыбнулась так, что я не удержался и погладил ее по крашеным жиденьким волосам с отросшими корнями.
Здесь, в этой тесной кухоньке, она перебирала ягоды из сада, а я ребенком уплетал их за обе щеки. Здесь мы вместе жарили блинчики и картофельные оладьи; дома эти блюда слыли верхом кулинарного искусства, но бабушка умела наколдовать их в два счета, удивляясь, что тут может быть сложного.
– Надеюсь, вы с дедом еще не все обсудили, – начала она, когда мы вернулись в комнату.
– Да мы пока особо ни о чем и не говорили, – ответил я.
Предполагалось, что именно я должен рассказывать им о том мире, откуда явился, раз уж они почти не выходят из дома. Но вот только случаи из жизни никогда не были моим любимым жанром.
– Мы слышали, у тебя новая барышня… – И бабушка хитро подмигнула. – Ты нам ее покажешь?
Я засмотрелся на гибискус, разросшийся в просторном горшке у южного окна и усыпанный цветами размером с кулак. Год от года он все больше ветвился, покрываясь в конце мая красными пятилепестковыми цветками, которые появлялись по утрам, словно волшебные дары ночи. До октября он успевал сменить их больше ста. Этот гибискус всегда казался мне членом семьи, его крупные чашевидные цветы как будто прислушивались к тому, что происходит вокруг, добавляя и кое-что от себя, в частности, свой аромат, причем особенно в те часы, когда с наступлением традиционной послеобеденной сиесты в доме воцарялась тишина. Именно тогда они и заявляли свое “я пахну, следовательно, я существую”.
– Если хотите, могу показать вам ее фотографию, – предложил я, доставая из рюкзака фотоаппарат, который захватил с собой, чтобы заснять бабушку с дедом.
– Она там, внутри? – удивилась бабушка и, надев очки, воскликнула: – Ой, Яник, какая красавица! Обязательно привези ее к нам, не то мы решим, что ты взял напрокат манекенщицу.
– Погоди, дай посмотреть специалисту, – дед заглянул в дисплей фотоаппарата. – Блондинка, говоришь?
– Я вообще молчу.
Я даже толком не знал, встречаемся ли мы с Ниной.
– А у тебя нет фотографии, где вы вдвоем? – поинтересовалась бабушка, которая в подобных ситуациях всегда оживала. – Ты у нас этакий южанин, а она совсем светленькая, так что вы наверняка отлично смотритесь вместе. Как та шведка с Марчелло Мастроянни, понимаешь, о ком я?
– Да, она и правда немного похожа на Аниту Экберг. Кстати, наше следующее свидание будет в Риме.
– Слышишь, дед? – позвала бабушка. – Твой внук едет на свидание в Рим!
– Как в Рим? Нет, я, конечно, понимаю, что за красивой девушкой ты отправишься хоть на край света, но Рим все-таки далековато.
– Нина сейчас работает няней на юге Италии, вот мы и решили встретиться в Риме.
– Как романтишно, – вздохнула бабушка.
– Значит, ты поедешь через Паданскую низменность – обрати внимание на тамошний ландшафт, – в деде заговорил географ.
– Да ну тебя, дурачок, только о ландшафте ему и думать! – весело одернула его бабушка. – Надо же – свидание в Риме!
– Главное, не забудь, что я тебе говорил, – напомнил дед. – С красивыми женщинами ох как непросто, за ними вечно кто-то бегает, уж я-то знаю, о чем толкую…
– Еще бы! Небось и сам в свое время набегался за юбками, – подколола его бабушка.
– Да ну, Итушка, все-то ты путаешь. Это за тобой бегали, – ухмыльнулся дед и глотнул кофе, который переливался в чашке разноцветными пузырьками.
Я решил, что бабушка с дедом уже приободрились, и приготовился выложить им свой план.
Мне хотелось свозить их в Палаву. В Палаву, куда они брали меня каждое лето, которое я проводил у них. Мы бродили по холмам, и я, еще ребенок, выискивал места, где перистый ковыль колышется, как море, или спускались на велосипедах вниз, к Мушовскому водохранилищу – там дедушка учил меня плавать, бросая мне в воду, словно собачке, теннисный мячик, а потом покупал в награду жареные лепешки и желтый лимонад, в котором тонули осы.
Но не успел я еще и рот открыть, а бабушка уже достала карты. В карты мы играли, сколько я себя помню, – в основном в рамми, расплачиваясь за проигрыш десятигеллеровыми монетами, пока их не перестали выпускать. Дедушка играл осторожно, сразу сбрасывая комбинации, чтобы сильно не проштрафиться, а вот бабушка любила побеждать с блеском: она держала карты в несколько рядов, ничего не выкладывая, и заканчивала игру лихо, в один присест – или же наоборот не могла наскрести монет, чтобы расплатиться за проигрыш.
Я потянулся к потрепанной колоде, якобы растасовать карты, и как бы невзначай предложил:
– Может, лучше съездим в Палаву?
Бабушка с дедом уже давно, кроме поликлиники, никуда не ездили и ездить не желали. Они переглянулись, и дедушка переспросил:
– В Палаву? Но ты же знаешь, что мы теперь плохо ходим.
– А вам и не придется. Мы просто прокатимся туда и обратно.
– Яник, давай лучше дома побудем, – вступила бабушка. – Я когда за эклерами выходила, на улице сильно дуло. Дедушка может простыть. Мы так рады, что ты к нам приехал, давай просто тут посидим.
– Бабушка, у меня ведь не кабриолет. А в машине дедушка не простынет.
Они снова переглянулись, и дедушка буркнул:
– Бензин только тратить…
– Тратить, значит?! – для виду рассердился я. – Я хочу свозить вас в Палаву, вот и все! Помните, как мы ездили туда летом? И купались у Мушова? Теперь моя очередь показывать вам эти места. Ну, когда вы их еще увидите?
Ненадолго воцарилась тишина, бабушка с дедом будто и впрямь погрузились в воспоминания, а потом дедушка произнес:
– Как такое не помнить? Я и с учениками сколько раз туда ездил.
Тут в нем снова проснулся географ, и он добавил, даря мне надежду на успех:
– Оттуда весь Венский бассейн виден как на ладони.
– Ты же, кажется, служил в Микулове? – подлил я масла в огонь.
– Да, оттуда мы грозили кулаками австрийцам… А потом с юга пришли венгры, с севера – поляки, с востока – русские[27]27
А потом с юга пришли венгры, с севера – поляки, с востока – русские. – Имеются в виду события 1968 года, когда в Чехословакию были введены войска Варшавского договора.
[Закрыть].
– Ну так что, едем?
Бабушка смотрела в окно, словно не желая участвовать в разговоре, и дедушка обратился к ней:
– Итушка, может, съездим еще разок?
Его голос звучал почти умоляюще.
Я еще даже эклер не доел, а из ванной уже донеслось жужжание дедушкиной электробритвы. Он опять вытягивал по-птичьи шею, чтобы кожа под подбородком натянулась и лезвие захватило короткую и жесткую седую щетину. А потом дверь ванной распахнулась, прихожая наполнилась запахом одеколона, и в нее, словно медуза в облаке чернил, выплыл пожилой господин. Он сделал три шага в сторону зеркала, достал из заднего кармана брюк гребешок и причесал свои белые волосы. Так он поступал каждый раз, когда собирался выйти из дома, даже если нужно было просто вынести мусор или зарезать кролика. Где-то внутри дед по-прежнему оставался высоким стройным красавцем, который привык задавать тон и очаровывать всю учительскую.
– Не знаешь, где моя оранжевая жилетка, которую ты вязала? – спросил он у бабушки, открыв свой шкаф с одеждой.
– Он и в гробу себе станет галстук поправлять… – подмигнула мне бабушка и отправилась на поиски жилетки.
Вскоре она появилась в новой юбке и колготках и принялась искать туфли, которые налезли бы на ее ноги с распухшими косточками.
Осторожно, держась за гладкие перила, мы спустились вниз по ступенькам. Я обошел машину, чтобы помочь бабушке усесться на заднее сидение, а дедушка тем временем устроился впереди.
Оказалось, что увидеть другой район Погоржелице для них уже событие.
– Сколько тут всего понастроили! – удивлялся дедушка, неотрывно глядя на новые цеха и склады, – он словно очутился в городе, где не был уже лет пять.
– А туда я ездила на велосипеде во Власатице, – сказала бабушка, указывая на дорогу, тянущуюся вдоль фазаньей фермы.
Дед преподавал в средней школе, а бабушка учила первоклашек читать и писать. В последние годы перед пенсией она разъезжала на велосипеде по окрестным деревням, где замещала молодых учительниц, которые, едва взяв указку в руки, тут же отправлялись в декрет, и вместо них учила детей прописи: на восьмом месяце выводить букву В, а на девятом – Д.
Мы проехали по длинной насыпи между Мушовским и Вестоницким водохранилищами, а потом свернули с трассы и стали подниматься в гору вдоль виноградников. Сентябрь только начинался, гроздья дозревали, среди кустов трещали отпугиватели птиц, и возникало ощущение, будто мы оказались на поле боя. Я сбавил скорость, чтобы бабушка с дедом могли полюбоваться окрестностями.
– Известняковые отложения вторичного периода лежат здесь на более поздних третичных горных породах, – сообщил дед.
– Яник, тут так красиво! – воскликнула бабушка, которой не было никакого дела до вторичного известняка.
Дедушка верил в постоянство литосферных плит, взглядов и принципов, бабушка же ценила хрупкость: цветы в саду и деревенские первоклашки убедили ее в том, что прекрасное, как правило, недолговечно.
Мимо нас промчалось несколько мотоциклистов, уверенно восседавших на мощных драндулетах. На следующей развилке мы свернули налево, и вскоре перед нами открылся вид на восточные склоны Павловских гор и холмистую долину. Мы ехали настолько медленно, что нас обгоняли даже велосипедисты. Я включил аварийку, чтобы было понятно, что мы на экскурсии.
– Можешь где-нибудь здесь остановиться? – попросил дед.
Я съехал на дорожку из белого гравия, ведущую к виноградникам.
– Выйдем ненадолго?
– Пока просто стекла опусти, – ответил дедушка и сделал глубокий вдох, словно желая для начала привыкнуть к местному климату. – Наверное, та самая “палава”[28]28
Наверное, та самая “палава”… – Палава – это не только название заповедника в Южной Моравии и входящей в него возвышенности, но и название сорта винограда (полученного скрещиванием сортов “гевюрцтраминер” и “мюллер-тургау”), из которого производят сладкие и полусладкие белые вина.
[Закрыть], – произнес он, не отрывая взгляда от гроздьев винограда. – Пойдем, Итушка, посмотрим поближе.
Я обошел машину, чтобы открыть им дверцы и помочь выйти. Бабушка с дедом с трудом выпрямились, и дед предложил бабушке руку, хотя поддерживать нужно было скорее его. Опираясь друг на друга, они заковыляли в сторону виноградника.
Дедушку, однако, больше всего интересовал ландшафт. Виноградники здесь резко уходили вниз, а вдали осколком зеркала сверкал восточный край водохранилища. Таким я помнил деда с самого детства: вот он стоит на горе и всматривается в пейзаж, то ли любуясь им, то ли замышляя передислокацию своих армий. Откуда-то снизу подул ветерок, встопорщив дедовы седые волосы. Бабушка прижалась к деду поплотнее, он же, вытянув свободную руку, на что-то указывал. То ли перечислял названия деревень, видневшихся вдали, то ли рассказывал о маневре австрийских войск перед битвой под Аустерлицем, то ли просто вспоминал о чем-то. Прислонившись к капоту машины, я смотрел на две фигуры: одна – высокая и стройная, другая – чуть пониже и слегка сгорбленная. Немного комичные и абсолютно реальные.
Я подумал о своей зеркалке на заднем сиденье. А еще о том, что самого главного глазами не увидишь. Затертые до дыр цитаты иногда оказываются самыми меткими, особенно если это Сент-Экзюпери. Я вдруг вспомнил, как однажды взял с собой на каникулы в Погоржелице “Южный почтовый”, и мы с дедушкой буквально вырывали книгу друг у друга из рук. Писатель-летчик – это было ему близко. Столь же близок был ему писатель-авантюрист, который охотится на львов в Африке, воюет с фашистами в Испании, а потом вместе с американскими отрядами отправляется освобождать Париж. Но вот его собственный сын-писатель был ему уже не так близок.
Бабушка с дедом еще какое-то время сопротивлялись ветру, но вскоре вернулись к машине.
– Я, пожалуй, сяду теперь сзади со своей супругой, – заявил дедушка.
Со своей супругой? Я убрал рюкзак с фотоаппаратом в багажник, чтобы освободить место, и помог двум голубкам усесться рядышком.
– Куда желаете, господа? – спросил я, обернувшись к ним.
– Ох, Яник, “москвич” у нас когда-то был, но вот чтоб собственный водитель… – отозвалась бабушка.
– Значит, через Павлов и вниз, к водохранилищу, – распорядился дед. – Джонни, можешь и дальше ехать на той же скорости?
Я снова включил аварийку, стараясь не разгоняться больше двадцати, хотя правая нога так и норовила нажать на газ. Мы миновали гору Девин; впереди на вершине показались руины замка. Узкое шоссе, пролегавшее между кустами и виноградниками, ползло вниз – и вдруг нашим глазам открылась живописная панорама. Мы медленно проехали через Павлов, а потом, спустя несколько поворотов, оказались внизу, на берегу Новомлынского водохранилища.
Прежде дедушка пустился бы в рассуждения о том, нужно ли было затоплять местные пойменные леса, вспомнил бы об ушедшей под воду деревне Мушов, от которой остался только остров с церквушкой. Теперь же я в зеркале заднего вида наблюдал за тем, как он сидит, поджав тонкие губы, со взглядом, полным горькой настойчивости.
Дорога вдоль берега была вся залатана. Мы дотащились до Долни-Вестонице, и я приготовился услышать что-нибудь о Кареле Абсолоне и Йозефе Сейдле, обнаруживших Вестоницкую Венеру. Но сейчас для дедушки даже этой палеолитической матроны – и той не существовало, хотя он полвека рассказывал о ней школьникам.
Я припарковался на насыпи, разделяющей Вестоницкое и Новомлынское водохранилища. Опускался вечер, и над водой носились тысячи птиц. Кто как не дедушка мог бы объяснить, что сюда на зимовку перебираются с севера гуси, утки, гоголи, поганки и даже гагары. Я не знал, кто из них когда сюда прилетает, а главное, не отличал их друг от дружки (впрочем, для перелетных птиц время еще не пришло); я распознал только чаек и, кажется, крачек, круживших над насыпью. Посреди водохранилища торчало несколько сухих деревьев – последние могикане пойменного леса, исчезнувшего под водой. Некоторые из них были облеплены птицами, по неясной команде поднимавшимися в воздух и вновь опускавшимися на засохшие сучья, словно дерево было намагничено, а птицы были с железными сердцами и могли только ненадолго отлепиться от своего насеста, да и то с большим трудом.
– Господи, – прошептал дедушка, и я заметил в зеркало, как заблестели у него глаза.
– Господи Боже, – повторил он, пока бабушка нащупывала его руку.
Я снова опустил стекла, вопли чаек усилились, в машину прокрался ветер. Слева от нас, над Вестоницким водохранилищем, солнце резко садилось, и его косые лучи отражались от водной глади так, что на нее невозможно было смотреть. Но справа то же самое солнце все еще окутывало Новомлынское водохранилище теплой желтизной, словно источая липкий мед.
– Итушка, это же наш последний раз, – прошептал дед.
– Да ладно, будет тебе, – возразила бабушка без особой уверенности.
Не осмеливаясь обернуться, я смотрел на бабушку с дедом в рамочку зеркала над приборной панелью и потому знаю, что они держались за руки и плакали. Ее лицо еще освещалось лучами низкого солнца, проникавшими сквозь боковое окошко, а его – уже терялось в тени. В этот миг и у меня к глазам подступили слезы. Отправляясь в Погоржелице, я вспомнил дедушкины уроки и в последнюю минуту решил побриться, чтобы сделать ему приятное. Теперь я чувствовал, как мелкие ранки на щеках пощипывает от слез.
А дедушка? У него тоже саднило лицо? У всех мужчин саднит лицо, если они сначала побреются, а потом плачут?
Я включил им тихонько Джонни Кэша, а сам, чтобы не мешать, вышел из машины. Прислонившись к белому ограждению, я смотрел на воду и на прибившиеся к берегу обломки деревьев, которые нелепо толклись внизу. Значит, такое и правда случается. Можно вдвоем встретить старость. Я глядел на жемчужную гладь, на резные гребешки волн, на черных птиц, на бледное небо и на свою подержанную синюю машину, где на заднем сиденье близился к развязке голливудский фильм, который никто никогда не увидит.
Take one fresh and tender kiss
Add one stolen night of bliss
One girl, one boy,
some grief, some joy
Memories are made of this
One man, one wife, one love for life
Memories are made of this










































