Текст книги "Несерьезная педагогика"
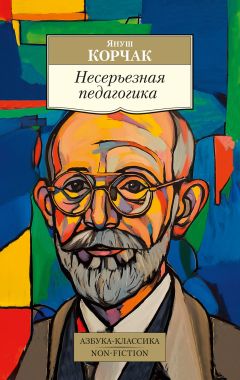
Автор книги: Януш Корчак
Жанр: Воспитание детей, Дом и Семья
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Сцена эта порождает во мне множество мыслей.
1) В мире чувств дети гораздо богаче нас – они думают чувствами.
2) Если даже описывая эту сцену, я совершаю над собой насилие, чем было бы мое вмешательство? «Ханя, отбирать нехорошо – отдай», «Хелька, драться нехорошо – извинись»…
3) Какая же замечательная школа жизни для детей – наш детский сад!
Хелька:
– Ты умеешь так строить?
Нини:
– Мы с тобой не разговариваем.
Юрек хочет взять, Хелька его отталкивает, Юрек не протестует.
Хелька:
– Я вам дам (кубики).
Нини:
– Не надо… не надо.
Ханя:
– Я красивый замок построила.
Хелька:
– Некрасивый, некрасивый!
[Пробел]
Хелька:
– Ты умеешь так строить?
Молчание.
– (?) без тебя обойдемся.
Хелька мне:
– Я красиво построила?
Я:
– Красиво.
Хелька:
– А вы умеете?
Я:
– Умею.
Лишь теперь, отвергнутая, униженная, она обратила на меня внимание, заговорила. Бедняжка!
Хане болтливость Нини отчасти импонирует, отчасти докучает.
Хелька поправляет сдувшийся мячик:
– Вот как надо – видите?
Юреку:
– Дай мне коробку.
Юрек – защитное движение[1]1
Защитным я называю движение, когда ребенок, не желая отдавать какой-то предмет, поднимает руку, в которой его держит, прячет за голову, отводит руку в сторону. – Примеч. авт.
[Закрыть].Хелька гладит его по лицу. Он не дает, отходит. Хелька грубо отнимает, убегает, садится рядом со мной.
[Пробел]
Хелька:
– Ты умеешь так строить?
Юрек:
– Нет. Бзз… взз… взз… вззы… бззззы…
Наконец-то… Но в какой карикатурной форме – я бы не удивился, если б она вздохнула.
Эти записи выдают усталость. Я продолжаю их вести, потому что понимаю ценность такого дневника, но я устал, бесконечно устал, а потому халтурю. Прокомментирую последнюю сцену (уже не доверяю памяти): Хелька, которой так хотелось услышать, что они не умеют того, что умеет она, наконец-то достигла своей цели. Юрек не умеет, Юреку обидно признаться, что он не умеет, так что «бзз-взз-взз» – пренебрежительная реакция на вопрос, попытка сменить тему. Точно так же недавно поступила сама Хелька.
Хелька обращается к Нини, а не ко мне.
Молитва: участвуют Ханя и Крыся. Хелька, подавленная, после молитвы – решительно – Юреку:
– Это мое место, мое!
Юрек уступает, пересаживается.
После круга[3]3
Круг в системе Монтессори – занятие с группой, когда дети под музыку ходят по линии и повторяют движения за ведущим. – Здесь и далее, кроме отмеченных особо, примеч. перев.
[Закрыть] Ханя сгоняет Юрека с его креслица, тот послушно пересаживается на другое.Хелька на своем месте колотит ногами по столику, стучит столиком, хлопает по столику ладошкой.
[Пробел]
У Хельки кубики; она вынимает один, со стуком кладет на стол (движения вялые), подпирает голову руками. Начинает строить – ворота замка, как у Хани; не получается; треугольная верхушка падает с основания снова и снова – в третий раз, в четвертый. Хелька убирает кубики обратно в коробку.
Пробелы – свидетельство моего поражения. Я всего на миг отвернулся, оставил ее возбужденной, одинокой. И нашел расстроенной, несчастной. А на столике уже коробка с кубиками; когда она вынула ее из шкафа, как? Ничего не знаю. Устал и проглядел.
Перечитал записи. Плохо. Мне-то понятно, но читатель разберется, лишь внимательно прочитав текст несколько раз. Таких читателей будет мало. Нужно писать проще – доступнее. На второй день решаю действовать по-новому, иначе. Сначала все записи подряд, затем изложение хода событий, образующих сюжет, и в самом конце – комментарии.
Вот план для студента педагогического училища.
1. Характеристика наблюдаемого ребенка.
2. Условия наблюдения:
а) место наблюдения – описание и план;
б) о себе: в который раз проводит наблюдение, откуда знаком с ребенком, что о нем знает, слышал, подметил, запомнил, прежде чем начал наблюдать;
в) собственное психическое состояние – охотно ли взялся за наблюдение, целенаправленно или случайно занялся этим, здоров ли, в добром ли расположении духа и т. д.
3. Записи in crudo[4]4
В сыром виде (лат.), то есть в первоначальной форме.
[Закрыть] – с пометками «пробел» (в наблюдении). Знак вопроса в скобках, если не удалось расшифровать запись. Важно: сохранить сокращения.
4. Ход событий в кратком изложении.
5. Комментарии к записям.
6. Личное – собственные переживания и размышления.
Мне кажется, что этого плана, пусть не вполне осознанно, я в общем и придерживался. Это напоминает отчасти рассказ о спектакле, отчасти – сочинение о классической драме. Туманность моего повествования объясняется тем, что, читая сочинение о драме Шекспира или Софокла, я имею представление о Гамлете или Антигоне, мой же читатель не знаком ни с героиней – Хелькой, ни с самой пьесой.
Записи первого дня я оставляю в таком виде, в каком их сделал, как неудачный образец, плохой пример. Не уверен, что второй день окажется лучше.
(NB. Пишу я не в день наблюдения, а спустя четыре дня: наблюдения вторника комментирую в субботу, и это сбивает с толку.)
Второй день наблюдения
Записи:
Хелька даже не взглянула на свой столик.
Крыся играет с Маней.
Хелька пытается заговорить со Стасей – никакой реакции.
Хелька пытается заговорить с Янеком – долго.
Хелька зевает.
Хелька и Вика:
– Мне восемь лет.
– Владеку тоже восемь лет.
Вика идет проверять, Хелька сомневается.
X.:
– Владек, тебе сколько лет?
Владек:
– Семь с половиной.
Крыся за столиком старших. Хелька наблюдает за ней.
Молитва, круг. Хелька громко, вызывающе:
– Ой, халат! Мамочка сказала халат…
Бежит. Опрокидывает скамейку.
Громко – воспитательнице:
– Перевернулась.
Мне:
– Рукава вывернулись.
Некрасивая. В следующее мгновение – очаровательная. Полностью погрузилась в свое занятие – пытается застегнуть сзади пуговку халата.
– Пожалуйста…
Хочу помочь, но:
– Я сама, сама…
Тянет вперед и пальцем раздвигает края петельки.
– Пожалуйста, застегните.
Протягиваю руку – отодвигается. Снова пробует; последнее усилие, как бывает у взрослых, – а вдруг в последний момент удастся; последняя попытка.
[Пробел]
Застегиваю:
– Попробуй расстегнуть, это легче.
Не хочет. К столику с буквами – к Крысе.
Учится уважать реальные достижения.
Хелька – буквы – мечты о величии.
Я за столиком; она обращается к пани Н.
Копается в буквах:
– Правильно?
– Нет!
(До чего же все-таки деморализуют детей восторги взрослых!)
Мне:
– Правда ведь, вот так надо складывать?
– Нет.
– Ну посмотрите!
– Нет.
Перекладывает одну букву.
– Посмотрите!
– Неправильно.
Не хочет, чтобы я ей показывал.
Я бросаю оскорбительную реплику (потому что сержусь на нее):
– Ты еще маленькая.
Отходит – показывает пани Н., что столик сломан, потом куклу:
– Правда она некрасиво одета?
Перечисляет, во что кукла одета.
– А у меня что-то есть в кармане. Вот что у меня есть?
– Не знаю, откуда я могу знать. А ты знаешь, что у меня есть?
– А вот и знаю. (Заглядывает.)
Буквы:
– Ну пожалуйста, посмотрите (пани Н.), – правильно?
– Нет.
(Не хочет смириться с тем, что это работа.)
Пани Н. показывает, как складывать, – Хелька не смотрит: ей хочется очаровывать, царить, а не трудиться.
Спрашивает меня:
– А теперь?
– Нет!
Снова к сломанному столику, показывает Янеку. Беседа с пани Н.
Книжка с картинками; разглядывая, напевает одну из песенок детского сада – «Полишинель».
– Вы можете кота нарисовать? А я могу.
(Дома умеет то, чего «не умеют» взрослые.)
Разговаривает с Тадеком, что-то ему запрещает.
Скучает.
– Возьми кубики, строй домики, как Ханя.
– Как Кры-ы-ыся?
– Нет, как Ханя.
– Не хочу. Это просто. А вы можете халат пошить?
– Нет.
– А я могу.
– Ты даже застегнуть не можешь.
– Могу.
– Нет.
– Могу. (Дразним друг дружку.)
– А вы можете коляску нарисовать?
– Нет.
– А я могу.
– А кота?
– Могу.
Даю ей карандаш, бумагу:
– Нарисуй.
– А я умею карандаш рисовать.
Рисует утку (как рисуют трехлетки). Сдержанно, без лишних восторгов, признаю, что получилось хорошо.
– А вы можете?
– Да.
Смотрит удивленно, рисует.
– Ну что это?
– Не знаю.
– Ну что это, у кого столько ногов?
Я рисую утку.
– Дайте бумагу, я мисочку нарисую.
– Рисуй на этой.
– У-у-у… – но рисует.
Вместо мисочки – девочка с корзинкой.
– Ты хотела мисочку нарисовать.
– А красивая мисочка?
– Спроси Крысю.
Разговор Крыси с Хелькой – короткий.
– Что Крыся сказала?
– «А это хорошая корзинка?» – «Плохая».
Я рисую:
– Твоя лучше или моя?
Пальцем:
– Эта. (Показывает на мою.)
Мне ее жалко:
1) восхищение;
2) неприязнь, гнев;
3) сочувствие.
Я объединяюсь с Хелькой против Крыси. Хелькой восхищаются, Крысю обожают. Крыся старается быть первой на круге. Хелька хочет взять свое сразу, наскоком. Крыся ждет, пока само придет. Крыси:
1) пассивные, не расходуют энергию;
2) тихой сапой всюду проникнут, высмотрят, у кого что лучше получается, – долго лишь наблюдают;
3) побеждают без борьбы – внезапным рывком, одним махом.
Хочу помочь Хельке – научить.
– Дай мелок.
Она не знает где. Знает Крыся – приносит.
Рисую на доске домик. Хелька тоже пытается – плохо. Пририсовывает к моему домику окна. Мимо проходит Ляля.
Хелька:
– Вот, смотри – красиво?
Ляля:
– Красиво ты рисуешь.
X.:
– Вот, видишь – окна.
Хелька понимает, что произошло недоразумение, ей стыдно.
Деревья рисует – не хочет вытирать тряпочкой, вытирает обрывком бумаги. Стирает рукой, смотрит на меня, улыбается упрямо.
X.:
– Пожалуйста, нарисуйте что-нибудь.
Я рисую человека – она дорисовывает ему пальцы, исправляет.
Просит нарисовать еще что-нибудь. Рисую птицу.
X.:
– Это птица или жаворонок. (Ждет моих восторгов по поводу нового слова.)
Отхожу на минутку к Крысе – та клеит.
Хелька за мной – оттаскивает от Крыси (ревность).
Теряет мелок, долго ищет – находит.
Мелок упал, сломался. Удивленный взгляд; пишет на доске обломком, специально снова бросает на пол и смотрит (экспериментирует).
Хочет, чтобы я нарисовал еще.
Рисую цветок. Она дорисовывает.
– Что это?
– Очки.
– Зачем?
– Чтобы лучше видеть.
– А это зачем?
– Это чтобы держалось.
– Можно гвоздиками.
– Гвоздиками будет больно.
Снимаю очки, показываю. Она мажет меня мелом.
– Ты меня испачкаешь, Хелька.
– А это новая одежда?
– Нет, старая.
– А у меня новая. Зося сшила.
– А кто такая Зося?
– Человек – с головой, с руками, со лбом…
– А почему усы на лице? – через минуту.
Выясняем, что папа бреется. А я не могу – не на что. Она советует сделать из фольги или из бумаги. Вырезаю под ее руководством из бумаги. На листке остаются две дырки. Хелька прикладывает листок к лицу, пугает. (Ждет моего: «Ой, страшно, ой, боюсь!») Я молчу.
– Страшно?
– Нет.
Даю ей зеркальце, чтобы посмотрела: страшно?
Спрашиваю Крысю, страшно ли.
– Нет.
Хелька рисует что-то на маске, чтобы получилось страшно.
– Теперь страшно?
– Нет.
Она гримасничает.
– А теперь?
– Нет.
Я:
– А что, кто-нибудь этого пугался?
Не отвечает. Примеряет маску мне, пытается примерить Крысе.
Завтрак. X. громко:
– А я уже знаю, где моя бутылочка! (С молоком.)
NB. Крыся вместо «к» произносит «т», – может, этот дефект речи и делает ее немногословной, застенчивой; воспитатель должен о таких вещах помнить, предотвращать последствия.
(Не Хельку я два дня наблюдал, а законы природы, человека.)
В детском саду только две малышки – Хелька и Крыся. По нашему настоянию – «играйте вместе» – им приходится играть, но, если их не трогать, тянутся, скорее, к старшим: это для них нечто большее, чем просто игра. Маня больше всего любит разговаривать, опекать малышей; Крыся это замечает, Маню тоже, очевидно, привлекает немногословная, спокойная, серьезная Крыся. Хелька пока в поисках.
Подходит к Стасе – плохой выбор, к Янеку – удачно: тот всего неделю в саду, еще не освоился, стесняется, мало кого знает. Это уравнивает их, несмотря на разницу в возрасте; они разговаривают. Но Хелька нетерпелива. Пристает к Вике – неловко: сообщает, сколько лет брату, но не уверена, что правильно сказала (восемь), и смущается.
У Хельки любое непосредственное чувство, всякий порыв сковывается и тормозится опасением показаться смешной. Поэтому она не участвует в молитве, в круге, в зарядке. Страдает, но боится – не может преодолеть. Пока дети маршируют под звуки рояля, она, желая обратить на себя внимание, подчеркнуто громко говорит про халат – и переворачивает скамейку: позор! Сообщает об этом удивленным тоном, с притворным смехом и, поскорее сменив тему, говорит мне, что рукава халата вывернулись наизнанку. Поправляет рукава, надевает халат; не может застегнуть. Я хочу ей помочь – отказывается. Думает, что все дело в слишком узкой дырочке (халат застегивается сзади). Сама просит помочь, но в последний момент внезапно отстраняется и пробует еще раз. Снова просит помочь, но пуговицу не отпускает – еще попытка.
Так часто бывает не только с малышами, но и с детьми постарше, и со взрослыми. Когда я студентом работал в больнице, то наблюдал такую сцену: практикант должен вырвать пациенту зуб, у него не получается. Зовет врача, тот подходит. Но студент не отдает клещи, пытается еще разок – зуб ломается.
Буквы азбуки лежат каждая в своей ячейке, как литеры в типографской кассе. Утром все разбросано; складывают их дети, не знающие букв: подобное к подобному. Крыся знает буквы, Хелька хочет сделать вид, что работает. Я догадываюсь: дома начеркает что-то на бумаге и говорит, что написала, а поскольку взрослые это подтверждают – верит, что умеет писать.
Если трехлетнему ребенку кажется, что читать (бормотать под нос), рисовать, писать легко, то неудивительно, что шестилетнему будет неохота прилагать усилия. Хелька настойчиво, сердито добивается, чтобы признали: она правильно сложила буквы; не хочет, чтобы ей объясняли, показывали, помогали. Хочет сама! По ее постоянным вопросам: «А вы умеете?», «А ты умеешь?» – легко догадаться, что дома взрослые притворяются, будто не умеют того, что умеет она.
Сколько раз я это видел – в самых разных вариантах. Трехлетка спрыгивает со ступеньки: «Я умею»; дядя-весельчак притворяется, что не умеет, боится, падает, паясничает; ребенок смеется, толкает его, упрямо подначивает – нехорошая игра, насмешка, фальшь. Трехлетка накалякал что-то на бумажке: «Это лошадка». Дядя потрясен: какая красивая, он бы так не смог; пытается нарисовать, берет карандаш, рисует не тем концом, потом роняет карандаш, бумагу. Ребенок объясняет, как надо, теряет терпение, иногда шлепает дядю.
Если бы дядюшка-весельчак знал, что ребенок смеется от возбуждения – знает, что игра закончится качанием на коленях, объятиями, поцелуями, а другой ребенок по той же причине сердится и раздражается; если бы он заметил сходство возбужденного смеха и радостного блеска в глазах первого малыша и удивленно-гневного взгляда второго с разнузданностью девки в кабинете и сопротивлением барышни в будуаре, – возможно, впредь был бы осторожнее. Когда так ведут себя няни, – возможно, они научились этому как раз от дядюшек-весельчаков; ведь не из деревни же, не из избы они это вынесли – в деревне, я видел, к ребенку относятся серьезно, уважительно.
Гнев, выплеснувшийся в оскорбительной для Хельки реплике «Ты еще маленькая», был явно адресован, скорее, дядям-весельчакам (да и тетям), которые не в состоянии воспринимать красивого двухлетнего малыша без полуосознанной или неосознанной мысли о том, какая пикантная вырастет из него штучка. Так попадает зараза в детскую, так калечат маленьких детей, искривленные души которых потом, в детском саду, болезненно выправляются, однако доверие к взрослым и привязанность к дому утрачены навсегда.
«Нет», «А вот и нет», «А вот и знаю», «А вот и умею» – это тоже из репертуара дядей-весельчаков. Дядя говорит: «А я тебя у мамы куплю», «У тебя глазки некрасивые» – о, их изобретательность не знает границ! Ребенок говорит: «Неправда, а вот и нет; мамочка, правда ведь нет?» – «А вот и да!» – «А вот и нет!» Называется это кокетством. Одни дети терпеть не могут, а другие любят эти шутки, когда злость, неприязнь, страх образуют пряный коктейль эмоций.
Хелька обещает нарисовать мисочку, но понимает, что получается совершенно непохоже, поэтому пускай это будет «девочка с корзинкой»: взрослые такие глупые, что всему поверят. Два раза меняет тему неприятного для нее разговора. Честно признает, что у меня корзинка получилась лучше, но, когда Ляля нарисованный мною на доске домик принимает за Хелькин, не решается объяснить, что вышло недоразумение…
Эпизод с мелком интересный. Хелька не ожидала, что мелок, упав, сломается. Когда падает стакан, он разбивается, а карандаш ломается – ими больше нельзя пользоваться. Мелок тоже сломался. Хелька осторожно пробует: им можно писать, как раньше. Бросает еще раз: что будет? Теперь она знает – и будет знать всю жизнь. (Несколько дней назад другая девочка пробовала писать мокрым мелком.)
Каждый из нас в свое время задавался вопросом, куда девается брошенный в чай сахар. Если нам объясняли, что он «растворяется», то к непонятному явлению прибавлялось непонятное слово. Лишь эксперименты с сахаром, солью что-то потихоньку проясняли; я помню, как выставлял соленую воду на солнце, чтобы увидеть, образуется ли в бутылке снова сухая соль, но не дождался – и ответа так и не получил. Ребенок любит сам размешивать сахар ложечкой, но мамы не разрешают – стакан в этих случаях часто переворачивается.
Разговор об очках. Тут не только стеклышки, через которые лучше видно, но и железки – зачем? Если стекла не держатся, можно прибить гвоздиками. Отвечаю, что нельзя, но она не смеется. Стеклышки, через которые лучше видно, приспосабливали к глазам по-разному – монокль, бинокль, лорнет; не так-то просто оказалось придумать цеплять проволоку за уши. Трехлетней Хельке неведомо то, что коллективными усилиями изобретали на протяжении столетий ученые люди, – и это не смешно. А вот что я на сороковом году жизни, только после вопроса Хельки, впервые об этом задумался – позор.
Иронизируя над ребенком, который чего-то не знает, ты убиваешь в нем желание узнать. Кто признается, что не читал «Фауста», не видел Рубенса, не знает, кем был Песталоцци?[5]5
Иоганн Генрих Песталоцци (1746–1827) – швейцарский педагог.
[Закрыть] И мы читаем для приличия, смотрим для приличия, все наши знания поверхностны: цивилизацию создают личности, политику делают партии, а основная масса народа – дурни, которыми манипулируют: умрут, но не признаются, что не знают, лишь бы не выглядеть смешно. Смеяться над трехлетним ребенком, предлагающим прибить стеклышки к глазам гвоздиками, – предательство и бесстыдство.
Хелька не знает, как держатся очки, но у нее новое платьице. Вот к чему мы в конце концов пришли.
Разговор о деньгах – золотых и бумажных; обрывки подслушанных житейских разговоров. Я по Хелькиной указке прорезаю в листе бумаги две дырки (деньги). Хелька замечает сходство листка с маской, которой добрый дядя имеет обыкновение пугать детей. Запутавшись в теме финансов, хочет выйти из положения, не обнаружив своей неосведомленности. Прикладывает к лицу «маску» и пытается пугать меня и Крысю. Не получается. Наверное, маска плохая – надо скорчить рожу. Не помогает.
Мне кажется, что Хелька начинает понимать: домашние шутят, играют, притворяются, лгут; все совсем не так, как ей казалось. Ей и странно, и притягательно это новое – настоящая жизнь, требующая усилий и борьбы, где ценятся заслуги, а не обаяние, где больше равнодушных взглядов, чем улыбок, больше ловушек, чем спасителей. Домашние не помогают ей, а мешают.
Получилось не так, как я хотел. Я хотел дать студенту педагогического училища образец: как записывать наблюдения и комментировать их. А в результате написал образец для себя самого: как от подмеченного мелкого факта, от детского вопроса переходить к разнообразным проблемам общего характера. Это доказывает, как ограничивают независимое мышление любые рамки, планы, образчики.
Стефан
Мне всегда казалось, что серьезным препятствием на пути разумного воспитания конкретного ребенка оказывается не всегда осознаваемая, но неизменно присутствующая мысль: «Не стоит». Имея сотню воспитанников, я обременен обостренным чувством ответственности, ведь каждое мое слово отзывается в сотне умов, за каждым движением следят сто пар внимательных глаз; если мне удается растрогать или убедить, побудить к действию, мои любовь, вера, энергия возрастают стократно; сколько бы детей ни подвело, хоть кто-нибудь – не сегодня, так завтра – непременно докажет, что понял меня, прочувствовал, что мы вместе.
Воспитывая сотню детей, не знаешь одиночества и не боишься полного поражения. Если же я отдаю часы, дни, месяцы своей жизни одному ребенку, то что имею в итоге? Ценой одной моей жизни я строю тоже всего одну жизнь. Отказывая себе, питаю лишь одного. Мне легче побороть досаду, усталость, плохое самочувствие, начать рассказывать, если меня слушает сотня ребят.
Сталкиваясь с воспитательницами, которые ради одного-двух детей оставили коллектив – иными словами, предпочли место частного педагога работе в приюте или интернате, – я полагал, что ими движет не любовь к своей профессии, а стремление к выгоде, к труду более комфортному и необременительному.
Всего две недели я провел с одиннадцатилетним Стефаном – и убедился, что наблюдение за одним ребенком дает не менее богатый материал, приносит не меньше забот и радостей, чем работа с группой детей. В этом одном ребенке ты замечаешь намного больше, тоньше чувствуешь и глубже продумываешь каждый факт.
Мне кажется, воспитатель, уставший от большого коллектива, вправе – а быть может, даже обязан – применить «севооборот»: на некоторое время уйти от толпы в тишину, чтобы затем вновь вернуться к работе с группой. Насколько я знаю, такой традиции нет: одни педагоги специализируются на индивидуальном, другие – на групповом обучении и воспитании.
Эти записи имеют форму дневника – так я их вел и в таком виде оставляю. Они могут представлять ценность как документ – несмотря на необычные условия, время и место.
NB. Я был тогда ординатором полевого госпиталя. Во время затишья я взял к себе мальчика из приюта; он хотел учиться ремеслу, а при госпитале имелась столярно-плотницкая мастерская. Мы провели вместе всего две недели: я заболел и уехал, мальчик еще какое-то время оставался при госпитале, потом начались военные действия, и денщик отвез его обратно в приют.
Четверг, 8.3.1917
Он у меня уже четвертый день. Я хотел сразу начать записывать. К сожалению, с дневниками всегда так: когда есть что записать, нет времени. Это многих расхолаживает. Мне жаль удивительных чувств, что остались незапечатленными. Я уже привык к присутствию мальчика.
Его зовут Стефан. Мать умерла, когда ему было семь лет, имени ее Стефан не помнит. Отец на войне или в плену, а может, убит. Семнадцатилетний брат – в Тернополе. Сначала Стефан жил с братом, потом у солдат, теперь, уже полгода, в приюте. Приюты открывает городское самоуправление, руководить ими доверяют кому попало. Правительство то разрешает обучение, то запрещает. Это не интернат, а помойка, куда сбрасываются отходы войны, печальные жертвы дизентерии, сыпного тифа и холеры, унесших родителей (точнее, матерей – отцы сражаются за новый передел мира). Война – не преступление, это триумфальный марш, ликование обезумевших на пьяном сатанинском пиру.
Я спросил, хочет ли Стефан поехать со мной, – и тут же пожалел о сказанном.
– Не сейчас – я приеду за тобой в понедельник. Спроси завтра брата, позволит ли он. Посоветуйся, подумай.
Едем; луна, снег. О чем он думает? Глядит с любопытством: костел, вокзал, вагоны, мост. Бесхитростное лицо. Говорят, трудолюбив; при госпитале есть плотницкая мастерская – отдам его в обучение Дудуку.
Экзаменую: читать не разучился.
Задача по арифметике.
– Сколько тебе сейчас лет?
Вижу, не понимает, что такое «сейчас».
– Сей час? Ну как и раньше – одиннадцать.
Не поправляю.
Получил от брата пятьдесят копеек, купил пирожки с повидлом, конфеты, у нас ел холодный зельц – шедевр Пласки; вечером у него разболелся живот. Боль в области слепой кишки. Это плохо: я хотел, чтобы он ел из солдатского котла, пока не решит, останется он тут или нет. Хотел, чтобы с самого начала у него был четкий распорядок дня.
Валентий вздыхает:
– И надо вам это?
У Стефана врожденное чувство порядка: после занятий он складывает книжки стопкой, ручку кладет рядом с чернильницей. Повесил полотенце, один конец длиннее другого – поправил.
Зачем на пятьдесят копеек накупил сластей?
– А чего я буду деньги жалеть?
Это слова не его, а кого-то для него авторитетного – Назарки или Климовича (Климович красиво рисует).
– Отец вернется, – говорю я.
– Вернется – хорошо, не вернется – тоже хорошо.
Это он тоже где-то слышал. Сколько глупостей я мог бы наговорить по этому поводу: «Фу, как ты можешь… об отце…» – и т. д.
Его сейчас интересует другое:
– А зачем у зеркальца ремешки?
– Этот ремешок – для мыла, этот – для расчески, а тот – для зубной щетки.
– А эта папиросница, когда была новая, тоже с трещинами была?
– Да, это как будто крокодиловая кожа.
Совет педагогам. Когда приезжаешь в детский дом воспитателем, пусть дети смотрят, как ты в своей комнате распаковываешь багаж, пусть помогают развязывать корзины или открывать сундук, вынимать и расставлять мелочи. Завяжется разговор – о часах, о ножике, о несессере. Он поможет быстро и естественно сблизиться с детьми. Так и они сами друг с другом знакомятся. Вспомните, как часто взрослые завязывают знакомства через детей и благодаря беседам о детях – в парке, на даче. Если сказать, что нехорошо все трогать, обо всем выспрашивать, дети будут смущены, раздосадованы. Можно сказать им об этом через месяц, через три, в связи с кем-то другим, посторонним, не тобой. Вы-то уже знакомы, вы-то не посторонние.
– А сколько стоит эта папиросница?
– Рубля два-три, наверно. Не знаю, не помню, она у меня уже давно. Видишь, замок сломан, не закрывается.
– А починить нельзя?
– Можно, наверно, но мне не мешает – папиросы что так, что эдак не выпадут.
Я еще не воспитываю, я только наблюдаю и стараюсь не делать никаких замечаний, чтобы не спугнуть Стефана. И все же за эти четыре дня мне пришлось дважды его вразумить.
Первый раз. Во время урока вошел фельдшер. Я был на дежурстве – привезли больных.
– Весь день к вам лезут, – громко и раздраженно сказал Стефан.
Судя по тону и выражению лица, это явно не его слова. Так, должно быть, говорили в приюте – панна Лоня или кухарка.
– Не надо так говорить, – замечаю я мягко, когда фельдшер уходит.
– Я ведь читаю, а он лезет.
Ему странно, что в госпитале двести семнадцать больных и раненых.
– Так вы, когда дежурите, должны всех осматривать?
– Нет, я осматриваю только новеньких, чтобы какого-нибудь заразного больного не поместили к обычным.
– А правда, что корь – заразная болезнь? Когда я болел корью, так задыхался, что говорить не мог. Батя тогда дал мне выпить керосина, получшело. Он никогда к врачу не ходил, сам все знал, как лечить.
– Твой отец был умный человек, – говорю я.
– Конечно умный, – согласно кивает он.
Меня так и тянет спросить, почему же он сказал, что, если отец не вернется, тоже хорошо. Нет, слишком рано.
Второе замечание.
– Слушай, Стефек, не называй пана Валентия «Валентий», говори – «пан Валентий».
– Я и говорю «пан Валентий».
Приютская привычка выкручиваться.
Я сам виноват; теперь, разговаривая со Стефаном, всегда говорю «пан Валентий». Вопрос существенный, особенно в интернате для сирот. Сторож, судомойка, прачка обижаются, когда дети зовут их по имени. В разговоре с детьми всегда следует говорить «пан Войцех», «панна Рузя», «пани Скорупская».
Подтверждение сказанному об интернате: болезнь сближает домочадцев. Недаром и родители, и дети охотно вспоминают – по крайней мере, хорошо помнят – пережитые болезни. В интернате же болезнь – это ненужные хлопоты, она часто способствует отчуждению.
Сколько я приложил стараний, чтобы он смог писать в постели! Пришлось вытащить все из ящика, поставить чернильницу в консервную банку, которую Валентий приспособил мне под пепельницу. Под ящик с одной стороны я подложил подушку, с другой – книги. Стефан поблагодарил меня улыбкой. Интернат не может позволить себе такую роскошь.
– Удобно тебе?
– Да, – и улыбка.
На этом столе Стефан навел порядок: сбоку – книжки, в щели между досками ящика – карандаш. Тяга к порядку у него врожденная. Ситуация новая, значит не подражает – действует самостоятельно.
Теперь сидит и переписывает из букваря стишок.
– Бе-лу-ю… белую… белую…
И заканчивает – мысль напряженно работает:
– Белую руба… белую ру-ба-шеч… рубашечку.
Вздыхает.
– Белую рубашечку… Дам ей в дорогу белую рубашечку.
И все-таки сделал ошибку – написал «блелую».
– Видишь, у тебя вместо «белую» – «блелую».
Улыбается смущенно:
– Я еще раз перепишу.
– Оставь, лучше после чая перепишешь.
– Нет, сейчас.
Снова тишина, прерываемая лишь его сосредоточенным шепотом. Мрачный – видит, что снова ошибся. В первый раз я, чтобы подбодрить его, сделал вид, что не заметил несколько ошибок, но теперь – нельзя.
Как-то вечером он плохо читал и сам не понимал почему.
– Потому что ты голодный, – сказал я тогда.
Интересно, запомнил ли он.
– Как ты думаешь, почему теперь хуже вышло?
– А ежели раз не выйдет, так потом все хуже и хуже выходит.
И – с отчаянием:
– Я еще раз перепишу.
Даже покраснел, кулаки сжал.
Я поцеловал его в макушку (идиотизм), он чуть отстранился.
– Сиро… сиротинка бедная…
И как раз на самом опасном месте, там, где в прошлый раз он пропустил целую строчку, Валентий приносит чай.
– В до-ро-гу… в дорогу дам ей… дам ей в дорогу…
Валентий кладет в стакан сахар. Стефан бросает взгляд и продолжает писать.
– Ножик нашелся, – говорит Валентий.
Стефан смотрит внимательно: ножик? Какой ножик? Подпер голову руками – того и гляди вырвется вопрос; но нет, преодолел соблазн – опять сосредоточен. Валентий улыбается, я делаю пометки, вкратце записываю интересный момент, Стефан ничего не замечает. И через мгновение, торжествующе, выжидательно:
– Готово, пожалста! – и улыбка.
– Хорошо, только ты проглотил одну букву. Хочешь сам поискать?
Пьет чай, хмурит лоб, ищет пропущенную букву.
Жаль, что я не посмотрел на часы – сколько времени он писал. «Часы, часы!» – сколько раз я себе твердил и всегда забываю.
Две мысли. Первая: я столько времени работал с детьми, но не обращал внимания на улыбки. Это слишком тонкое, незаметное проявление, оно не воспринимается сознанием. Лишь теперь я вижу, что это важно и достойно изучения.
Когда он меня спросил как бы небрежно: «Я смогу поездить на лошади?» – тоже с подкупающей улыбкой, я уклонился от прямого ответа: «Теперь скользко, лошади плохо подкованы – может, летом». Дети должны знать, что их улыбка нас обязывает.
Вторая мысль. Переписывание для детей – не бессмысленное действие, напротив, оно требует больших усилий: не пропустить букву, слово, целую строчку, не написать дважды одно и то же слово, не сделать ошибку, уместить слова в строке без переноса, постараться, чтобы буквы получились одинаковыми по размеру и стояли равномерно. Кто знает, может, именно в процессе переписывания ребенок вполне постигает текст? Понятно, что творческий ум скорее устанет от пассивного переписывания. Стефан, когда переписывал, напоминал художника, копирующего шедевр великого мастера. И как жаль учителя, который этого не видел, не ощутил этих усилий, но вынужден исправлять каракули в сорока тетрадках.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































