Текст книги "Несерьезная педагогика"
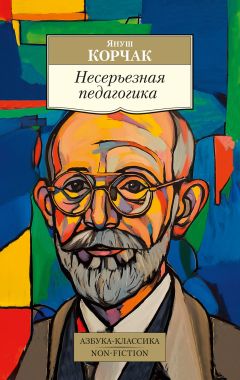
Автор книги: Януш Корчак
Жанр: Воспитание детей, Дом и Семья
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Педагогическая публицистика
О положении детей
Из серии статей «Дети и воспитание»Лето. Сад. Послеобеденное время.
Уже не десятки, а сотни улыбающихся детских лиц. Дети носятся, бегают взапуски, собираются группами, встают в круг, чтобы поиграть вместе, – галдят на весь сад.
Одни взрослые наблюдают за ними со снисходительной и доброжелательной улыбкой, другие – с гримасой недовольства и раздражения, и лишь в глазах немногих можно прочитать глубокую и болезненную задумчивость…
Восемь утра.
Снег, дождь или хорошая погода… улица. Дети идут в школу. До девяти часов движется толпа школьников и школьниц, в форме – гимназической или частных школ, в платьицах подлиннее или покороче, с более или менее набитыми ранцами.
Одни взрослые равнодушно проходят мимо этих самых юных тружеников, другие – их меньше – серьезно вглядываются в каждое личико, словно стремясь вычитать в нем, чтó это воинство принесет будущему, какие залежи сил, мыслей и чувств в себе скрывает…
Воскресенье.
Нищая улица в городе или в деревне, в предместье или в местечке.
Кажется, сколько булыжников в неровной мостовой – столько детских головенок. Ветер треплет светлые или темные вихры, солнечный луч заглядывает в черные или голубые, улыбающиеся или печальные глазки. Эта малышня лихорадочно живет каждой клеткой своего организма, с каждым ударом пульса растет и развивается, всей душой вбирает в себя окружающий мир.
Порой остановится какой-нибудь старичок, посмотрит недолго на солнце и на детей – и пойдет своей дорогой.
Дети – это половина человечества.
* * *
На столе патологоанатома лежит двадцатилетняя девушка. На бледном челе – мертвенность смерти, в сжатых губах – боль, а лицо сохранило задумчивое выражение. В молодой головке вспыхнул решительный протест против условий жизни, в молодом сердце скопились безумные страсти; неопытная, никем не направленная юная душа не сумела ни вступить в борьбу, ни приспособиться. Девушка лишила себя жизни, несмотря на религиозные запреты, несмотря на страх смерти, несмотря на всю устремленность расцветающего организма к жизни.
Не так много лет прошло с тех пор, как она была ребенком, бегала с ровесницами по саду…
* * *
Он опрокидывает еще рюмку. Пьяный туман застилает взгляд. Он знает, что катится по наклонной все быстрее, знает, что навсегда сбился с пути, загубил способности, похоронил идеалы, усыпил совесть. Горький пьяница двадцати пяти лет от роду.
Не так много времени прошло с тех пор, как он вместе с другими детьми спешил в школу…
* * *
Осужденному зачитывают приговор. Его ждут долгие месяцы тюрьмы. Общество прокляло свое дитя, осудило, выдворило за тюремную стену – признало существом вредным, хищным, враждебным. Он, в свою очередь, ненавидит и презирает тех, от кого отделен железной решеткой.
Не так много лет прошло с тех пор, как он бегал с приятелями по улице – шелковистые волосенки, открытая улыбка, невинный взгляд, – строил замки из песка и бросал камешки в воду…
Нищетой своей жизни эти жертвы сурово осуждают родителей и общество – осуждают недавнее прошлое.
* * *
Поэтому, говоря о детях и воспитании, мы обращаемся не только к родителям и воспитателям, но и к обществу в целом, ко всем людям, которым небезразличны жизнь и будущее тех, кто молод и совсем юн. Звучный голос педагогики должен быть слышен в особняках, в усадьбах и в деревенских избах, должен достигать ушей каждого, чтобы как можно чаще напоминать о том, что в наших руках находится будущее общества и счастье детей, напоминать об ответственности, которую мы несем за моральный уровень и благополучие тех, кто займет наше место на арене жизни.
Вера в силу воспитания – не иллюзия мечтателя, но результат многовекового опыта и многовековых исследований. Эту глубокую веру нисколько не пошатнула теория наследственности. Сегодня известно, что характер человека складывается из элементов врожденных и приобретенных. Но врожденные склонности не однородны; человек не рождается ни преступником, ни ангелом; воспитание делает его существом грязным или светлым. Под воспитанием мы понимаем не только влияние родителей, но и воздействие окружения, людей, мира, литературы, жизни. Семья может лишь придать направление этому воспитанию и либо подталкивает душу ребенка к острым рифам, где он разобьется и сгинет, либо через жизненные водовороты приводит ее к пристани любви, преданности, счастья.
Если семья не умеет или не хочет взять штурвал воспитания в свои руки, душа ребенка окажется во власти судьбы. Что пересилит: зло или добро, высокое или низменное?..
* * *
Ребенка признали человеком, существом, с которым следует считаться, которого надо не водить на поводке, а направлять – умело, осмотрительно, усилием разума, чувства и воли. Прежний деспотизм сохранился в воспитании, детский страх перед родителем со временем растаял – что должно занять его место?
«Любовь, уважение и доверие», – ответил рассудок.
«Ничего!» – ответили невежество, легкомыслие и лень.
И в семейные отношения вторглись хаос и разложение. Родители стали ребенку приятелями или прислугой. Отреклись от власти, отказались от руководства, отдали детей в чужие руки.
И вот мы обеспечиваем детей детскими садами, боннами и гувернерами, педагогами, обучаем их языкам, истории, алгебре, музыке, рисованию, пению и танцам, развиваем, а точнее – платим за то, чтобы другие развивали, – их ум…
А сердце?
Учим ли мы детей, как и для кого следует жить, указываем ли подросткам цель в жизни, помогаем ли в те переломные периоды, когда начинает формироваться их мировоззрение, когда они начинают оглядываться вокруг и искать, мечтать и стремиться; да и знаем ли мы, какими идеалами они руководствуются? Связывают ли нас задушевные беседы с глазу на глаз, когда они доверяют нам свои заботы и печали, спрашивают, как разрешить те сотни задач, которые подбрасывают им жизнь и наблюдения, а мы – утешаем, объясняем, поддерживаем?
Нет – душу ребенка мы с младенчества отдаем в чужие руки: интеллект вверяем школе, сердце – миру, окружению, книгам.
Что мы делаем для тела ребенка? Думаем ли о здоровых прогулках (не тех, что в коляске и ворохе одеялец и пеленок), о гимнастике, плаванье, гребле, следим ли за тем, чтобы дети рано ложились и рано вставали, разбираемся ли в гигиене воспитания? Нет, заботы о теле ребенка мы вверяем природе, но не той, что приносит воздух с полей и лугов, а той чахлой природе, что питается духотой школьного класса, сумраком детской комнаты и толчеей гостиной.
Есть истины, которые не требуют обиняков, потому что никого не порицают и никого не ужасают. Печальная картина нашего домашнего воспитания не должна погружать в безнадежную печаль и апатию. Проблема слишком серьезная, чтобы на нее удалось долгое время закрывать глаза; очень скоро она заявит о себе громко и решительно, займет первые строки повестки дня, проложит себе русло, возьмет власть в свои руки. И тогда уж каждого заставит обратить на себя внимание, поскольку, несмотря на всю серьезность, в ней звенит прелесть нежного детского смеха, ощущается мистическое очарование пророчества и веет от нее поэтической прелестью весеннего возрождения.
Из рубрики «Кадры»Саксонский сад в сумерках.
– Отец умер, у матери денег нет; я сегодня еще ничего не ел. – А давно умер твой отец? – Год уже. – А долго он болел? – Долго. – А где лежал, когда болел? – Дома лежал, а потом у Младенца Иисуса[39]39
Больница Младенца Иисуса – одна из старейших в Варшаве, изначально осуществляла медицинскую помощь беднейшим слоям населения.
[Закрыть]. – А похороны отца дорого обошлись? – Не знаю: на похороны дали те люди, что вместе с отцом работали.
– А скажи мне, пожалуйста, что твой брат делает? – Тоже газеты продает. – А третий брат? – Третий брат – это я. – А сколько тебе лет? – Восемь.
– Хорошо; а что делает твоя сестра? – Сестры еще маленькие: одной семь лет, другой пять. – Ну а ты почему не продаешь газеты? – Я продаю, просто уже поздно. – А та сестра, которой семь лет, почему не продает газеты? – Потому что она девочка.
– Ты был у отца в больнице? – Был, целых два раза. – Почему только два раза? – Он потом умер. От чахотки. – Откуда ты знаешь, что от чахотки? – Так мать говорила. – А откуда мать знает? – Не знаю.
– А что твоя мать делает? – Стирает. – В прачечной или по трактирам? – Нет, только когда удастся найти работу. – И давно она так стирает? – Нет, мать на фабрике работала. – На какой фабрике? – Папиросы делала. – А почему теперь не делает? – Потому что теперь работы нет, выгнали ее, и еще одну женщину тоже выгнали.
– А как же ты сюда, в сад, прошел?[40]40
Вход в Саксонский сад был запрещен людям неопрятно одетым или пьяным, евреям в традиционной одежде и детям до 14 лет без сопровождения взрослых.
[Закрыть] – Попросил, чтобы пустили. – И десятку дал? – Нет, не дал. – И тебя пустили? – Сказали, чтобы ничего не ломал. – И ты не ломаешь? – Буду я еще всякие ветки ломать.
– Ты сегодня много заработал? – Вот. – Много: посчитай, сколько тут денег; ты умеешь считать? – Сорок шесть грошей, да еще я брату восемнадцать отдал. – А брат что сделал с этими деньгами? – Ничего, матери отдаст. – А что мать сделает? – Купит что нужно, остальное припрячет. – А зачем мать деньги прячет? – На зиму прячет, потому что зимой мало газет покупают. – И много уже мать накопила? – Я не знаю.
– А где твоя мать живет? – Мы все на Окоповой живем. – И ты сам дойдешь до дому? – Я на Маршалковскую[41]41
Одна из центральных улиц в Варшаве, рядом с Саксонским садом.
[Закрыть] пойду. – А что ты там будешь делать? – Там брат. – А почему брат сюда с тобой не пришел? – Потому что он на улице больше заработает. – А почему ты не на улице? – Потому что у меня номера нет. – Что значит – у тебя нет номера? – Что нельзя. – А что тебе сделают, раз нельзя? – В участок заберут. – А ты уже бывал в участке? – Нет еще. – А ты боишься в участок попасть? – Там не бьют. – А откуда ты знаешь, что не бьют? – Ребята говорили. – А ребята откуда знают? – Они уже были в участке.
– А у тебя тут не отнимут деньги? – Я не отдам. – Но ты маленький. – Если какой-нибудь мальчик пристанет, я ему дам шесть грошей. – А если он у тебя всё отберет? – Всё не отберет.
– А почему отец не пошел сразу в больницу, когда заболел? – Потому что отец боялся, что там режут. – Больных режут? – Нет, когда умрешь. – А отца резали, когда он умер? – Я не знаю.
– А почему ты сказал мне, что сегодня ничего не ел? – А так все ребята говорят. – Я знаю одного мальчика, который так не говорит. – Значит, есть не просит. – А что ты сегодня ел? – Чай пил и хлеб ел. – С сарделькой? – Нет, сарделька шесть грошей стоит. – А с чем ты ел этот хлеб? – С чаем.
– А когда отец был жив, вы богатые были? – Богатые, у нас была комната, и зеркало, и собачка. – А большая была собачка? – Нет, вот такая, маленькая. – И что случилось с этой собачкой? – Сдохла. – А что с зеркалом случилось? – Мать продала. – А долго собачка болела? – Нет, совсем не болела. – А почему сдохла? – Я не знаю. Когда ей мальчик камнем лапку перебил, она все на трех лапках бегала и бегала, такая была милашка.
Читательнице «Голоса»Вы пишете:
«Мальчик заболел оспой; эта болезнь сделала его почти полным инвалидом. Работать он не может. В семье Ежаков стал обузой. Отец над ним измывается, хотя ребенок спокойный и послушный и по хозяйству старается помочь, как умеет. Несколько недель назад несчастный пытался покончить с собой и его, едва живого, вытащили из Вислы. Теперь у него одна мысль: как бы лишить себя жизни. Каким образом можно облегчить долю этого ребенка, как в данном случае поступить?»
Поскольку вы обратились ко мне, вот мой ответ.
1) Если бы у нас, подобно тому как это устроено в цивилизованных странах, существовала обязательная прививка от оспы, мальчик не стал бы инвалидом, мог работать.
2) Если бы у нас, подобно тому как это устроено в цивилизованных странах, было достаточное количество приютов для инвалидов, можно было бы поместить его в такой приют. У нас же подобное возможно только по основательной протекции.
3) Можно привлечь отца к ответственности по суду за издевательства над мальчиком. Без протекции его можно посадить под арест на семь дней. Однако облегчит ли это участь ребенка?
4) Если мальчик покончит с собой, Ежаки будут отвечать перед судом за то, что плохо смотрели за ребенком.
Если вы способны сочувствовать несчастью и если глаза ваши способны видеть, загляните в другие дворы, и вы обнаружите там таких Ежаков и им подобных – десятки тысяч – и тогда уж не будете спрашивать, что делать с этим одним.
Если по протекции или в результате других усилий вам удастся запихнуть его в какой-нибудь сомнительный приют, то тем самым вы отберете место у другого Ежака, который беднее на одно сострадающее его участи сердце.
Об этом следует как следует поразмыслить, чтобы хорошенько понять…
Больничные зарисовки[42]42Материалом для «Больничных зарисовок» послужил опыт работы Януша Корчака в Детской больнице имени Берсонов и Бауманов (1904–1912) в Варшаве на ул. Слиской, 51, а также врачебная практика в среде варшавских бедняков. В Детской больнице принимали на бесплатное лечение беднейших еврейских детей. При больнице работала амбулатория (одна из крупнейших в Варшаве), где помощь оказывали любому обратившемуся туда ребенку, вне зависимости от вероисповедания и национальности.
[Закрыть]
Надо бы написать какое-нибудь предисловие или вступление. А то – ни с того ни с сего…
А может, без предисловия – может, потом, когда мы уже немного познакомимся? Ведь именно так происходит в жизни, когда люди случайно встречаются: вперед потолкуют об одном, о другом, потом разговорятся. И лишь после: «Я такой-то, думаю то-то и стремлюсь туда-то».
Так что – обойдемся без предисловия…
I
– Фамилия ребенка?
– Радецкий Казик.
– Возраст?
– На Всех Святых[43]43
1 ноября.
[Закрыть] полтора года исполнилось.
– Адрес?
– Твардая, пятьдесят три.
Ребенок с утра резвый, играет, после обеда – немного температурит, а ночью уже такой горячий, что не удержишь, рукам больно. Головку держит неподвижно, пальцем показывает на ушко. Полгода назад из ушка текло – тогда тоже была высокая температура. Когда первый раз желёзки выскочили на шее, мать йодом помазала, потому что так женщины посоветовали, – желёзки спрятались, а второй раз йод совсем не помог. Поэтому она пришла к доктору.
– Остальные дети здоровыми растут?
Ну, как… было двенадцать. Четверо живы, восемь умерло.
Первый умер сразу после рождения.
Второму было тридцать две недели – такой был пухлый, веселый, совсем не болел. Вечером его в колыбель положила, а утром мертвый – уснул, как куренок.
Третий растет.
Четвертому было около года, когда умер, – какие-то шишки у него на теле вылезли.
Пятый умер от кори.
Шестой жив.
Седьмого дифтерит задушил.
Восьмой непонятно от чего умер – она не знает.
Девятый растет.
Десятый и одиннадцатый умерли от одной и той же болезни: животик начал раздуваться, потом ножки раздулись.
А двенадцатый жив…
Муж кашляет, сколько она его помнит, а квартира всегда была сырая.
– И этот Казик тоже выглядит, как будто не жилец, правда же, пан доктор?..
Восемь раз она зря рожала и крестила, в полицейский участок заявляла, грудью кормила – много боли вытерпела, много ночей недоспала, – потом в деревянный гробик укладывала дитя холодное и неподвижное, и черная земля сыпалась на крышку гроба, и жестяной крест ставили. Больше не посадит его отец на колени, вернувшись с работы, – не будет малыш улыбаться и отца за усы дергать.
Восемь гробиков под землей; а у Казика, девятого, из ушка течет и на шее желёзки…
Вот вам первая больничная зарисовка – когда их больше наберется, тогда напишу предисловие. Кровавое предисловие.
II
Новис Генек с Охоты[44]44
Район Варшавы.
[Закрыть], от роду восемь месяцев, сын поденщика – тоже двенадцатый по счету ребенок, как и Казик Радецкий.
Там умерло восемь, а четверо растут; тут умерло восемь, а четверо растут. Там одного дифтерит задушил, у двоих животик раздулся, у одного шишки на теле вылезли; а тут один умер от чирьев, а остальные – потому что заходились.
– Что это значит – «заходились»?
Ну, от крика заходились. Родился, плачет, спать по ночам не дает; мать кормит грудью, а он все одно голодный, мать еще молоком поит, а он все одно кричит. Даст ему касторки – пару дней все хорошо, а потом снова заходится.
Потом вроде уже все налаживается: ребенок толстенький, ножки и ручки пухлые, с перевязочками – и веселый, и умненький. Положишь – лежит, смотрит по сторонам – спокойно, словно блинчик, – ночью два-три раза покормишь – и спит до утра, и не слышно его. И так два, три, четыре месяца.
Потом вдруг понос – не так чтобы очень сильный, три-четыре раза в сутки; но она уже знает, что это значит. Не успеешь оглянуться, начнется рвота, – и за пару дней ребенок превратится в тряпочку – дряблый, тощий, сморщенный, скукоженный, – можно подумать, подменили его, совсем другой стал.
И голодный! Рот делается такой большой – хоть руку туда запихни, весь кулак – и сосет. А дашь ему грудь – рвет его, и кричит не своим голосом.
Правду говоря, она пришла только для того, чтобы потом свидетельство о смерти от доктора получить; а лечить – семерых уж лечила, ничего не помогло. Или не знают они этой болезни? Одного лечили порошками – и ничего, другого каплями – и тоже ничего, разве чудо какое случится…
Время от времени полиция поймает, а пресса сообщит, что схватили преступницу. Ведьма брала «на содержание» младенцев, морила их голодом, а потом или в печи жгла, или в канаву бросала. Фабрикантша ангелочков! Но вот: схватили, посадили в тюрьму – она понесет заслуженное наказание! Справедливость восторжествовала. Если бы сегодня судили очередную Скублиньскую[45]45
В 1890 г. Марианна Скублиньская была осуждена за то, что до смерти морила голодом взятых на содержание детей.
[Закрыть], я бы доказал – если не судьям, то всем самостоятельно мыслящим и чувствующим людям, – что женщина невиновна.
Вот родная мать, которая слезами полила каждый гроб, пока наконец слезы в ее печальных глазах не иссякли, которая не морила голодом своих детей, лечила их – за последний грош молоко «прямо из-под коровы» покупала, – стоит теперь с восьмым по счету, беспомощная, и ждет чуда.
И было бы чудом, если бы при чудовищном хаосе общественного хозяйства, при преступном способе удовлетворения общественных нужд – у нас имелись бы больницы для подобных Генеков и школы для их матерей.
III
– Что вы хотели?
– Я за свидетельством о смерти.
– Я лечил ребенка?
– Да, жена приходила месяца два назад.
– Не дам свидетельства!
Почему? Два месяца назад она приходила дважды. Первая запись в карте – «состояние тяжелое», вторая – «состояние улучшилось», потом двухмесячный перерыв, а теперь вдруг – свидетельство о смерти.
– Я не знаю, от чего умер ребенок: может, его отравили?
– Да кто ж станет дитя травить?
Тадек Павицкий от рождения был слабенький; посадишь – упадет. Аппетит хороший: дай ему волю, больше отца бы съел. Но все как-то чах. Да, наверняка это была чахотка. Из пятерых детей в живых только двое осталось – и те слабенькие.
Мансарда, холодно – ночью вода замерзает; жена ходила к соседям греть бутылки с водой, прикладывала малышу к ногам. Печку поставили, чтобы немного просушить комнату, но как погаснет – снова холодно, а все время топить не будешь: работы-то нет.
Малыш кашлял, в последние дни что-то его душило, и глазки гноились, и жажда сильная. Жена прийти не может, сама болеет.
– Пан доктор, вы же сказали, что без грудного молока он умрет. Несколько дней его одна женщина кормила; но она брезгует чужим ребенком. Да кто ж станет дитя травить?
И вот стоит безработный горбатый сапожник, умоляет дать свидетельство о смерти ребенка; потому что без свидетельства не похоронят.
Закон стоит на страже, общество бдит, заботится о своих покойниках. Разве когда-нибудь бывало так, чтобы на кладбище места не хватило? Одно кладбище заполнится, так еще земли прикупят. Один пуд бланков свидетельств о смерти закончится, другой напечатают. Чтобы каждый получил то, что ему причитается, чтобы хватило, – чтобы никто себя после смерти ущемленным не чувствовал.
Частный доктор не выдаст свидетельство о смерти – выдаст районный, – уж кто-нибудь да выдаст, потому что оно, видимо, нужнее, чем больницы, теплые квартиры, хлеб. Может, отец ребенка отравил? Преступник!
IV
– Я бы хотела, чтобы он пожил немного, отца дождался. Отец его еще не видел. Пусть бы на сына хоть раз посмотрел… Бедняжечка ты мой… Как раз должен был родиться, когда отца в армию забрали.
А как Стасику еще пожить, если в нем этой жизни – что в бабочке, бьющейся о прогнившие стены подвала, куда ее ветер загнал через маленькое зарешеченное окошко. Нет, не увидит отец Стасика, разве что совсем скоро из армии вернется, а он уж полгода как не пишет.
– Я, наверное, ночью буду ему каждые два часа грудь давать, а днем попрошу, чтобы его водичкой поили, раз вы, пан доктор, говорите, что коровьего молока ему нельзя… Но послушают ли? Надоест им ребенок – что угодно ему в рот сунут, лишь бы не кричал.
Известное дело: чужие люди. Хорошо, что с ребенком не выгоняют.
– Бедняжечка ты мой. – Она заворачивает Стасика в платок; бледное личико трехмесячного старичка морщится от плача.
Страшные эти лица стариков-младенцев – увядшие, с заострившимся подбородком и запавшими глазами.
Идет мать на Тамку[46]46
На улице Тамка в Варшаве находится монастырь Сестер Милосердия (деятельность этого ордена направлена на помощь бедным и обездоленным).
[Закрыть] к монашкам за бесплатными лекарствами. А где-то далеко-далеко раздается команда:
– Бегом марш! Раз-два, раз-два! Левой-правой, левой-левой!
И бегает солдат Дуда по плацу казармы, и боится не попасть в такт. Барабанщик[47]47
В оригинале по-русски. Речь идет об армии Российской империи.
[Закрыть] бьет в барабан, а жена Дуды бежит на Тамку к монахиням за бесплатными лекарствами, чтобы Дуда хоть раз своего сына увидел, а Стасик – хоть раз – отца.
V
– Сможете через два дня принести ребенка?
Мочь-то она может, но снова полдня потеряет. Кабы он один был, так можно было бы с ним возиться. Но другие плачут, есть просят.
– Сколько лет старшему?
– Двенадцать лет; по дому все умеет, но ребенка принести не сможет, у самой в чем только душа держится.
Мужа арестовали; он как раз мимо фабрики Хантке[48]48
Это время многочисленных арестов среди варшавских рабочих, в частности на фабрике Хантке, известной своими революционными настроениями (в 1899 г. именно там началась первая в истории Варшавы всеобщая забастовка).
[Закрыть] шел, вот и забрали. Говорят, теперь в Творки[49]49
Психиатрическая больница под Варшавой.
[Закрыть] повезут или что; видать, с ума у них там сошел…
Ребенок во время осмотра не плачет, понимает, что мать ради этого ощупывания потеряла заработок за половину дня: она стирает белье.
Ребенок не плачет, улыбается и тянет к доктору ручки.
– По отцу скучает, – говорит женщина.
– Понимаю, голубушка, – отвечает доктор.
Мгновение тишины – только перо скрипит по бумаге.
– Каждые два часа давайте ложечку этого лекарства.
Когда же мы, черт возьми, перестанем прописывать салициловую кислоту от бедности, от эксплуатации, от бесправия, от сиротства – от преступления? Когда же, провались оно все пропадом…
– Ночью тоже давать лекарство?
– Ночью? Нет, ночью не надо. Пускай спит…
– Спасибо, пан доктор.
VI
– А это не чахотка у Фредека? Жена чахоточная, а малыша целует. Как же матери родное дитя запретишь целовать.
– Жену в больницу надо.
– Да была она. Лежала-лежала, потом выписали. Говорят, для тех, кому можно помочь, мест нет, так какой смысл держать ту, которой все равно уже не поможешь. И то правда. Доктора старались, ничего не могу сказать, но не вышло у них.
У Фредека всего лишь воспаление легких.
– Плохо, когда мать болеет. Летом старший мальчик выпал с третьего этажа. Говорили доктора, что печень у него испортилась, но теперь уже здоров. Хотя как здоров: на ухо жалуется; верно, уколы какие-нибудь нужны, но некому заняться…
И так всегда: спрашиваешь, как ребенок заболел, а в результате узнаёшь, что жена больна, что муж без работы, всякие на первый взгляд лишние детали, которые отнимают время, а о том, о чем спросил, так ничего тебе и не скажут.
– Пока дети здоровы, на них внимания не обращаешь. Здоровы – и ладно. У богатых-то по-другому…
И снова: жена больна, или муж без работы, или хозяин денег требует за квартиру – а чаще всего все это разом. Сведения для врача вроде как лишние.
– Каждые два часа по ложечке, – звучит как насмешка, как печальная жалоба на собственное бессилие.
VII
– Быдло!..
Или:
– Стоит ли ради них стараться?..
Решительно не стоит…
Сами подумайте: врач, такой ученый, такой преданный своему делу, – бесплатно спрашивает, чем ребенок болен, – даже бесплатно осматривает, приехав с бесплатной скорой помощью, – даже рецепт совершенно бесплатный выписывает – и говорит:
– Придете через два дня и принесете ребенка.
А мать закутывает ребенка в платок, уходит – и нет ее. И не знаешь, что дальше было: помогло лекарство, стало хуже, ничего не изменилось?
Порой болезнь врача заинтересует, он просит:
– Голубушка, придите, пожалуйста; только обязательно, хорошо?
– Хорошо, – отвечает мать. Неделя, месяц – ее и след простыл. А ведь бесплатно…
Стоит ли ради них стараться?..
Придет такая мать через пару месяцев с другим ребенком или тем же самым, снова заболевшим, – спрашиваешь: «Почему вы тогда не пришли?» – говорит, что сама заболела, или мужа в больницу забрали, или не на что было лекарство купить, так что постеснялась прийти; или белье по домам стирала, потому что муж не работает, или не с кем было детей дома оставить, или хозяин из квартиры выгнал, так что пришлось детей к сестре отвести. У каждой отговорка найдется.
А бывает и так: мать запрет детей в квартире, а сама побежит с больным ребенком в больницу за советом. Но доктор как раз опоздал или привратник не захотел пустить, требовал десятку на пиво; она прождала два часа, а дети тем временем подожгли дом либо из окна выпали. В газетах напишут: «дети без присмотра» или «преступная небрежность», полиция составит протокол, и мать предстанет перед судом…
Так что лучше спрашивать:
– Вы сможете прийти с ребенком через неделю?
Дети постарше иногда приходят сами. Бледненькая Казя, у которой часто головные боли и бессонница, приходит, а что касается остальных четверых – мать занята, шьет сорочки «в интендантстве». Еще приходит Эстер – лечит маленького брата, пока мать торгует на базаре.
– Повтори, Эстер, что ты должна сделать?
– Я куплю четыре бутылочки, в каждую налью пополам воду и молоко, заткну ватой и поставлю в кастрюльку…
– А с соской что сделаешь?
– Соску положу в кипяченую воду и прикрою крышкой, чтобы не пылилась.
– А с руками что сделаешь?
– Руки вымою мылом и вытру чистым полотенцем…
Эстер уже тринадцать лет, и она вырастила троих детей. Эстер могла бы многому научить одну мамашу с Маршалковской улицы…
VIII
– Это очень опасная болезнь?
– Очень.
– А выйдет он?
«Выйдет» – это значит «выздоровеет».
У ребенка дифтерит, воспаление легких после кори, английская болезнь[50]50
Рахит (устар.).
[Закрыть] с рождения и «сорок» зеленых вонючих испражнений в сутки; из уха течет, на глазу чирей – и прямая кишка выпадает.
Ребенок еврея-извозчика, кажется, с Милой улицы, а может, с Низкой.
Мать делала все, что было в ее силах: прикладывала мешочек с крупой, купила на шесть грошей касторки и на десять – «винца, рвоту вызвать»; соседка ставила банки, фельдшер спринцевал горло, два раза «делал пар». К ногам прикладывала бутылки, а компрессов опасалась – как бы сыпь не намочить…
– Последнюю подушку продам!
Нищету, которая берет ребенка за горло и душит, невежество, которое придавливает ему грудь тяжелым коленом, смерть, шествующую с такой невероятной уверенностью, с таким безразличием, – все бессилие вековых знаний мать надеется побороть последней подушкой. Мелодрама!
– А этот чирей на глазу давно у него?
– На глазу? Да это ерунда, глупости. У того, что дома, здорового, такой же чирей на глазу.
– Глупости… Это вы, голубушка, глупая!
И забитая, нищая еврейка из бедного деревянного домишки, привычно унижающаяся перед дворником, эта грязная, безграмотная, голодная, оборванная, не спавшая много ночей женщина вдруг чувствует себя оскорбленной в своем человеческом достоинстве.
– Глупая?.. Была бы я богатая, так небось за умную бы сошла.
Такую пощечину врачу может отвесить только вспышка осознанного отчаяния.
«Была бы я богатая…»
За границей есть больницы для детей, потому что там чиновники честные: им не разрешают красть…
IX
– Столько хлопот, пока вырастишь.
– Что поделаешь, голубушка…
Порой навалится усталость. Кажется, куда-то подевались центральные улицы, дома с ваннами и комнатами для прислуги – остались одни трущобы с коридорами и душными клетушками, в которых любой здоровый младенец заболеет, а слабый – умрет. Кажется, что замерло уличное движение со всем его живописным шумом, и только бредут в серых сумерках серые фигуры сгорбленных изможденных женщин, и каждая несет в больницу замотанного в платок больного ребенка. Траурная тишина. Две вереницы: в одну сторону и в другую. У каждой матери, возвращающейся из больницы, – белый клочок бумаги – целительный рецепт.
Забываешь о том, что в это же самое время в театре репетируют новый спектакль, в мастерских шьют платья для завтрашнего бала, в банках служащие выписывают чеки тем, кто собирается провести зиму в теплых краях. Нет, ничего этого не существует – одни лишь матери, согнувшиеся под бременем своих детей, семенят в больницу и обратно.
Спокойная улыбка, радость жизни – все попряталось, затянуто тучами, испуганно дожидается весны; в мире воцарился тревожный холод.
– Я могу прописать капли, но их нужно каждый раз запивать сливками.
– Откуда ж я на сливки возьму? Полпинты молока покупаю для грудного… Хоть бы его до лета как-нибудь дотянуть, а там, может, сестра на пару недель в деревню заберет…
X
Много молока, так что она и своего младенца кормит, и еще одного взяла на содержание. Ее ребенок беленький, чистенький, а чужой весь в какой-то коросте. Она обоих кормит одинаково и купает одинаково, а теперь у той матери к ней претензии, что ее ребенок запаршивел. Она пришла убедиться: может, для чужого ребенка ее молоко слишком острое, а может, у ребенка дурная кровь или еще что.
Кровь у чужого ребенка дурная, он тяжело болен, хуже того – болезнь заразная.
Таких детей нельзя кормить грудью. Она должна непременно прислать сюда мать ребенка – та, вероятно, тоже больна. И сама должна следить, не появятся ли прыщики на соске. Придется прийти к врачу еще не один раз, вместе со своим ребенком, потому что и он мог заразиться.
Женщина пришла через неделю, но одна: на груди выскочил прыщик.
– А ребенок?
– Здоров, не хотелось тащить его в такой мороз.
– А тот ребенок?
Отдала матери. Она еще ругалась…
Я отправил женщину к врачу по венерическим заболеваниям: прыщик на груди – это сифилис. Сколько людей пострадало, какова цепочка заражения – неизвестно. Врач видит только мелкие фрагменты жизни, и нелегко ему придется, если он обладает живым воображением и из этих картинок невольно выстроит живую и полную картину.
XI
В окно «Скорой помощи» упал сноп солнечных лучей. Ребенок, которого мать держит на коленях, дернулся, зажмурил глаза и расплакался. Младенцы боятся солнца, а старшие любят его, радуются, улыбаются.
– Почему он испугался солнца?
– А он его никогда не видел, – отвечает мать.
– Вы живете на цокольном этаже?
– Если бы… Раньше жили, но теперь хозяин его сдал, а нас переселил в подвал. Под потолком одно маленькое окошко. Мой там сторожем. Все больные от этой сырости.
От одежды, волос ребенка пахнет сыростью и затхлостью.
Житель подвала мечтает о цокольном этаже. Санитарным состоянием квартир ведает околоточный надзиратель. Уплатив ему три рубля, хозяин может дальше калечить людей и убивать десятки детей. Рассуждая о самоуправлении в городах, больше всего спорят, какие права должны быть у местного языка, а какие – у государственного. Написаны толстые тома законов, предписаний. Наивные полагают, что все это – не более чем недоразумение.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































