Текст книги "Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи"
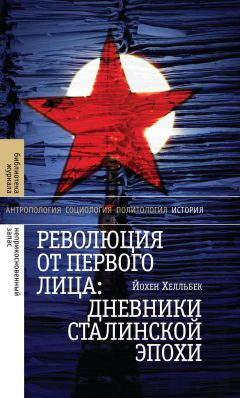
Автор книги: Йохен Хелльбек
Жанр: Политика и политология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Сознательность и действие как меры ценности личности в Советском Союзе являлись также важнейшими критериями, в соответствии с которыми определялась ценность ведения дневника. Ведение дневника было законным и ценным занятием, если автор использовал его для укрепления своей умственной приверженности труду в советском коллективе. Можно утверждать, что производственный дневник, предусматривавшийся редакторами сборников, посвященных Метрострою, был идеальным советским дневником: его цель заключалась в том, чтобы способствовать дневниковому осмыслению трудовой среды и тем самым насыщать физический труд душевной самоотдачей. Трудовая среда и коллектив в сочетании с руководством со стороны редколлегии гарантировали безусловную направленность мыслей авторов дневников на осознанное действие. Но для этого требовалось, чтобы дневники вели политически грамотные люди, а таких на строительстве московского метро было мало. Что касается дневников, которые писались вне трудовой среды и не под бдительным оком коллектива, то в них, наоборот, заключалась опасность не укрепления, а ослабления коммунистической воли авторов. Здесь существовал риск предпочтения рефлексии действию, а поэтому такие дневники оценивались неоднозначно и с некоторой долей подозрительности. Это помогает объяснить, почему дневники не находились на магистральной линии политики субъективации, проводившейся большевистским государством.
Авторы советских дневников создавали свои личные самоотчеты, не имея четких предписаний наподобие тех, которые были характерны для пуританского дневника. У них не было уверенности в пользе дневника, и они не знали, как «правильно» его вести. Большинство из них вели дневники по собственной инициативе, а некоторые открыто жаловались на отсутствие официальных инструкций по организации эффективной работы по самосовершенствованию. Поэтому анализ подобных дневников показывает, до какой степени люди, действуя по своей воле, творчески вписывали себя в неопределенную матрицу революционной субъективации, самостоятельно вырабатывая некоторые базовые категории и механизмы самореализации в советском духе.
ГЛАВА 3
ЛАБОРАТОРИИ СОЗНАНИЯ
В 1893 году Маврикий Фабианович Шиллинг, молодой дворянин и подающий надежды дипломат, живший в Петербурге, отмечал в своем дневнике, что обошел множество магазинов в поисках толстой тетради с замком, но все такие тетради распроданы, и он смог сделать заказ только на тетрадь из следующей партии. Изысканно оформленные дневники с замком и ключом были, как правило, недоступны в Советской России. Авторам дневников сталинской эпохи приходилось иметь дело со школьными тетрадями, да и те были в дефиците. Многие авторы дневников упоминали о том, что из-за отсутствия бумаги и тетрадей они были вынуждены приостановить писание своих хроник. В статье в «Правде» с сожалением сообщалось о дефиците школьных тетрадей и их низком качестве: «Грубые, шершавые, неопределенного цвета обложки легко впитывают грязь и потому засалены и неопрятны. Клякс и замазанных слов гораздо больше, чем допустимо даже для учеников первого класса, и в этом не вина детей: в редкой тетради найдешь крохотный клочок промокательной бумаги». В отсутствие тетрадей кое-кто вел дневник в бухгалтерской книге, которую предположительно мог найти у себя на работе8787
Шиллинг М. ГАРФ. Ф. 883. Оп. 1. Д. 104 (12.01.1893); я благодарен Диане Шаттенберг за то, что она указала мне на этот дневник. О дефиците бумаги см.: Степан Подлубный. ЦДНА. Ф. 3. Оп. 1. Д. 15, 17 (01.01.1935; 18.01.1939); Личный архив Леонида Потемкина. Дневник. Т. 2. Л. 4 (09.01.1930); Руднева Е. Пока стучит сердце: Дневники и письма Героя Советского Союза Евгении Рудневой. М.: Молодая гвардия, 1958. С. 62 (3.08.1938); Правда. 1934. 22 дек. Владимир Бирюков и Александр Афиногенов вели машинописные дневники: ГАСО. Ф. 2266. Д. 1385—1388; РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 3. Ед. хр. 5—6.
[Закрыть]. Пользование бухгалтерской книгой, по-видимому, подтолкнуло профсоюзного работника Александра Медведкова к своеобразной дневниковой бухгалтерии. Он фиксировал события каждого дня своей жизни в нескольких таблицах с такими подзаголовками, как «число и месяц», «дни», «наименование проделанной работы и отдыха», «содержание работы и отдыха», «личные выступления и действия», «потраченное время» и «интимность». В таблицы он заносил количество часов, ежедневно затрачиваемых на каждый вид деятельности. Другой автор вел свой дневник на разрозненных официальных бланках – как советских, так и дореволюционных8888
ГАРФ. Ф. 7900. Оп. 1. Д. 7. Л. 11—12. Своеобразные «бухгалтерия» и «счетоводство» были важными занятиями авторов дневников в разных культурах и в разные эпохи, см.: Langford R., West R. (eds.). Marginal Voices: Diaries in European Literature and History. Amsterdam: Rodopi, 1999. Владимир Бирюков вел дневник на до– и послереволюционных бланках.
[Закрыть].
Таким образом, дневники сталинской эпохи внешне резко контрастировали с дореволюционными дневниками, которые зачастую велись в толстых, иногда переплетенных в кожу томах, порой сделанных из «мраморной» бумаги. Этот контраст был еще заметнее у тех авторов дневников, которые вели их и до, и после революции и рано или поздно были вынуждены сменить солидно переплетенные тома на грубые тетради, выпущенные в условиях советской экономики8989
См., например, дневники Федора Ширнова, Зинаиды Денисьевской и Дмитрия Фурманова. Весь дневник Ширнова – с 1888 по 1938 год – поместился в одном толстом томе, см.: Garros V., Korenevskaya N., Lahusen T. (eds.). Intimacy and Terror: Soviet Diaries of 1930s. New York: New Press, 1995. Р. 67—97. Денисьевская до 1919 года вела дневник в переплетенных томах, после чего перешла на тетради (см. главу 4). Фурманов после революции вел дневник в бухгалтерских книгах; см.: Фурманов Д. Собрание сочинений. Т. 4, 6.
[Закрыть]. Символизирующий переход авторов дневников от упорядоченной жизни к бедности и сильным потрясениям, образ двух этих книг – переплетенного в кожу тома и школьной тетради – воплощает в себе и другой переход: от ведения дневников как занятия привилегированных членов общества к демократической программе всеобщей грамотности, обучения и фиксации личностных изменений.
Дефицит бумаги, который приходилось преодолевать авторам дневников в 1930-е годы, лишь дополнительно подчеркивает силу их желания взяться за перо. Та же настоятельная потребность отражается в ряде общих тем дневников, связанных в представлении авторов с насущными вопросами, решение которых невозможно без их участия и борьбы. Многие авторы дневников верили, что живут в историческую эпоху, и стремились участвовать в событиях, составлявших ее суть. Безусловная обязанность и, у многих, желание быть вовлеченными в историческое развитие были в равной степени характерны как для верных сторонников сталинского режима, так и для некоторых из его острых критиков. Авторы дневников также знали, что для участия в политике революционных преобразований они должны сначала преобразовать себя. Они использовали дневники для отслеживания своих мыслей и действий в свете требований «общественной полезности». Для того чтобы включиться в историю, было необходимо трудиться и бороться. Хотя многие авторы не могли «слиться с революцией» и вместо этого были поглощены «маловажными» делами – от домашнего хозяйства до любовных романов, – они все же винили себя в «мелочности» своих забот и настаивали на том, что их человеческая и гражданская ценность зависит от способности служить более широким интересам общества. Они стремились приобщиться к опыту более крупного коллектива, представлявшегося им живым организмом. Приверженность коллективу придавала их жизни смысл и энергию, выходящие за рамки простого выживания в эпоху усиленного идеологического надзора. В свою очередь, многие из тех, кто не мог или не хотел мыслить в едином порыве с идущим вперед коллективом, чувствовали себя подавленными и бесполезными, а некоторые даже сообщали о своем желании умереть. Будучи жизнетворческой силой, революция ставила перед теми, кто находился в оппозиции революционному государству, вопрос о жизни и смерти.
Революционное время
Как демонстрируют многие советские дневники 1930-х годов, их авторы остро ощущают, что живут в исключительный исторический период и должны оставить о нем свидетельство. «Когда-ж я начну писать воспоминания 30-х годов?» – спрашивает себя один из них. То, что он задавал этот вопрос в 1932 году, когда десятилетие едва началось, показывает, насколько уже к тому времени укоренилось представление о сталинской индустриализации как об отдельной эпохе, разворачивающейся на глазах ее свидетелей и участников. Не сводясь к простой фиксации событий, дневник часто решал дополнительную задачу: вписать автора в эпоху, начать диалог между Я и временем в исторических категориях и таким образом вывести собственное Я на уровень субъекта истории. Двоякая цель дневника – фиксация истории в ее становлении и фиксация становления собственного Я как субъекта истории – определяла многое в дневниках коммунистов того периода, но распространялась и на авторов, критически относившихся к коммунистическому режиму. По сути дела, чем сильнее эти авторы критиковали политический строй, тем активнее они обращались к истории9090
Дневник Степана Подлубного. ЦДНА. Ф. 30. Оп. 1. Д. 11 (02.09.1932). Это интенсивное присутствие исторической рефлексии напоминает наполеоновский период, когда тоже наблюдался всплеск создания автобиографических текстов с историческим уклоном. См.: Fritzsche P. Stranded in the Present: Modern Time and the Melancholy of History. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2004; Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика и историческое сознание XIX в. М.: Археографический центр, 1997.
[Закрыть].
Александр Железняков, коммунист, проводивший коллективизацию в Вологодской области, начал вести дневник, услышав, что будет назначен председателем сельсовета в другом районе. В первой записи он прощался со своими товарищами-активистами. Уточняя результаты их «борьбы» – коллективизировано 70% крестьянских хозяйств, организовано 12 колхозов, – Железняков писал, что эта «победа должна быть отмечена в истории колхозов Лихтовского сельсовета». Железняков включал сообщение о своем новом назначении в более широкий нарратив коллективной классовой борьбы: «Классовый враг, кулак, не спал, настраивая отсталую массу бедняков, середняков против колхозов… Итак, в ожесточенной схватке с отживающими и умирающими кап. элементами родились, живут и крепнут наши колхозы. Много еще впереди борьбы, в особенности на новом месте, в Пироговском сельском совете, куда я переброшен районным комитетом партии»9191
1933—1936 гг. в грязовецкой деревне (Дневник А.И. Железнякова) // Вологда: Историко-краеведческий альманах. Вологда: Русь, 1994. Вып. 1. С. 455 (30.05.1933).
[Закрыть].
Та же стратегия заметна и в дневнике Маши Скотт, которая расширила идеологическую рамку своего повествования до предела – до эпоса о международной классовой борьбе. Маша, учительница крестьянского происхождения, жившая в Магнитогорске, вспоминала о встрече с Джоном Скоттом, американским инженером, приехавшим на строительство, за которого она впоследствии вышла замуж. Она описывала свое впечатление об изможденном молодом человеке в лохмотьях, засыпанном пылью от домны:
Этот первый американец, которого я когда-либо видела, был похож на беспризорного мальчишку. Я увидела в нем продукт капиталистического угнетения. Перед моим умственным взором предстало его безрадостное детство; я представила себе долгие часы бесчеловечного труда на каком-то капиталистическом предприятии, которые он был вынужден отрабатывать еще мальчиком; я вообразила позорно низкую зарплату, которую ему приходилось получать, чтобы купить немного хлеба и быть в состоянии работать на следующий день; я вообразила, как он боялся потерять даже это скудное вспомоществование и оказаться на улице без работы в случае, если не сможет выполнять свою работу к удовольствию и выгоде паразитов-хозяев9292
См.: Scott J. Behind the Urals: An American Worker in Russia’s City of Steel (1942). Bloomington: Indiana University Press, 1989. Р. 118—119.
[Закрыть].
Драматург Всеволод Вишневский считал своей «задачей» вести дневник, чтобы «сохранить для истории наши наблюдения, нашу сегодняшнюю точку зрения – участников». Читая об исторических «ошибках и победах» автора и его современников, будущие поколения должны были утвердиться в своей приверженности делу построения идеального коммунистического общества9393
Вишневский В. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 6 (дополнительный): Выступления и радиоречи. Записные книжки. Письма. М.: ГИХЛ, 1961. С. 411 (22.01.1942).
[Закрыть].
Даже дневник, который сам автор расценивал как ежедневную бытовую хронику, имел историческое измерение. Николай Журавлев, сотрудник архива из Калинина (Тверь), хотел создать последовательное описание «нормальных [дней] нормального человека» для будущего историка города и советского быта. Характерно, что Журавлев начал описание обычной жизни с необычного события – 800-летия со дня основания города. То, что Журавлев придавал историческое значение своему проекту, видно из описания шествий и выступлений, происходивших в тот день: «Так праздновать могут только в стране социализма! Помню я эти официальные “торжества” при царизме… А наш праздник доподлинно массовый, доподлинно народный праздник…» Он пытался документально показать, что советский быт качественно отличается от прежнего, преображен революцией – в соответствии со сталинским утверждением о том, что быт был революционизирован9494
Дневник Н.В. Журавлева. ГАКО. Ф. 652. Оп. 1. Ед. хр. 2 (06.01.1936; 07.01.1936). Несмотря на намерение Журавлева сосредоточиться на «фактах», а не на сменах настроений, его дневник превратился, по сути дела, в исповедь, в которой фиксировались рабочие конфликты и проблемы в личной жизни. О советских проектах революционизации быта см.: Naiman Е. Sex in Public. Р. 185—188; Clark К. Petersburg. Р. 242—260; David-Fox М. Revolution of the Mind. Р. 101—117.
[Закрыть].
Представление о том, что дневник должен быть ориентирован на историю, чтобы стать легитимным личным документом, отражено и в упреках, которые авторы этих дневников обращали на самих себя за то, что им не удалось добиться такого акцента. Завершая первую же запись в своем дневнике, который в течение нескольких следующих лет будет посвящен в основном несчастной любви к девушке по имени Катя, московский комсомолец Анатолий Ульянов упрекал себя за «тупую» неспособность связать дневник с более значительной жизненной целью: «Правильно ли выражение, что дневник – мещанство? Я считаю, что это и правильно, и неправильно. Если писать только о любви, о своих любовных страданиях, это, пожалуй, и будет паскудной мещанской выходкой». Осознавая, что он сам в той или иной степени заражен чем-то подобным, Ульянов клялся перестать «заниматься “болтологией”, в дневнике воспроизводить только действительность». Под нею он подразумевал «жизнь, о которой люди пишут книги», жизнь героев, созидающих новый социалистический мир. Пока же в его дневнике, наоборот, «мало написано о самой сути существования»9595
ОР РГБ. Ф. 442. Оп. 1. Ед. хр. 4—5 (18.02.1930; 01.03.1930; 12.04.1933; 07.05.1933).
[Закрыть].
Другой автор, писатель Александр Перегудов, лишь через четверть века понял, что замысел его дневника оказался неудачным. В 1961 году он отметил, что, перечитывая свои записи, поразился, насколько «мелкими» они были: «Где же то великое, что происходило в нашей стране, что меняло ее облик, укрепляло ее могущество? Объясняю это тем, что не для этой высокой цели предназначался дневник, а для небольших “интимных и лирических” записей, которые касались чисто семейной жизни, природы и были очень интересны только для меня и Марии. Как я жалею теперь, что не вел другой, большой дневник о больших событиях, сколько раз собирался начать и не начал»9696
РГАЛИ. Ф. 2211. Оп. 3. Ед. хр. 18 (08.04.1961). Дневниковые записи Перегудова, делавшиеся в 1930-е годы, действительно не отличались особой глубиной и состояли в основном из характеристик погоды и «протокольных» описаний действий автора: «Я спал… проснулся… выпил две чашки чаю».
[Закрыть].
Подобно Ульянову и Перегудову, молодая учительница Вера Павлова сожалела, что ее дневник касался лишь мелких и поверхностных бытовых эпизодов и не затрагивал «крупных и значительных» жизненных вопросов. Ее дневник слишком «субъективен», заключала она, а потому «скучен и шаблонен по форме». Она наставляла себя, что надо писать «проще, создать что-то новое, и чтобы это новое открыло, ознаменовало собой какой-то поворот… новую полосу… Да, писать что-то объективное, выводить, оживлять новые образы… Сгустить события, объединить единой нитью, единой мыслью, устремленностью». Писать о жизни «субъективно», без осмысления, с позиций личного наблюдения значило писать старомодно и нетворчески. Задача состояла в том, чтобы осознать, как история преломляется в личной жизни. Записывая эти замечания в 1931—1932 годах, Павлова предвосхищала основные принципы возникавшей теории социалистического реализма, требовавшей от советских писателей изображать действительность в революционном развитии и концентрированно выражать в литературных героях классовую борьбу и продвижение к бесклассовому обществу. Павлова предъявляет к нарративу четкие требования: чтобы дневник был ценным, он должен быть посвящен ведущей идее эпохи9797
ЦДНА. Ф. 336. Оп. 1. Ед. хр. 32 (15.10.1931; 08.07.1932).
[Закрыть].
Понимая дневники как исторические хроники, их авторы, такие как Павлова, Ульянов и Вишневский, прилагали усилия к тому, чтобы представить себя субъектами истории. Календарная сетка, предоставляемая дневником, помогала им выразить осознание времени, которое было главным условием формирования исторической субъектности9898
См.: Sherman S. Telling Time: Clocks, Diaries an English Diurnal Form, 1660—1785. Chicago: University of Chicago Press, 1996. Р. 58—68.
[Закрыть]. Дневник Владимира Бирюкова, уральского этнографа и библиотекаря, показывает, каким образом календарные даты могли служить временны́ми отметками, позволявшими отличить новое время от старого и четко локализовать автора в координатах советской действительности. Бирюков, которому было тридцать с лишним лет, критиковал тщательные приготовления своей матери к Пасхе, «хотя [она] отлично знает, что мы с Ларинькой ни в какие пасхи не верим». На следующий день он заметил о горах пасхальных куличей на столе, которых хватило бы до 1 Мая: «Пусть сегодняшний праздник будет мамочкин, а потом – наш». В аналогичном духе профессор ленинградского технического вуза Василий Педани, который завел дневник в 1930 году в связи с рождением внука Славы, отмечал, что 12 апреля 1931 года, когда Славе не исполнилось еще и года, семья научила мальчика отвечать на пионерское приветствие «Будь готов!» Слава «поднимал ручонку: “Всегда готов!”» Указав, что эта забава происходила в традиционный праздник Пасхи, Педани тем самым подчеркивал коммунистическую направленность воспитания внука. Прочитав роман писателя XIX века Ивана Гончарова, Вера Павлова была потрясена тем, насколько образ жизни в дореволюционной России не соответствовал советскому образу жизни: «Кажется, будто те события происходили, по крайней мере, несколько столетий назад… Только 80 лет и в них такой большой скачок, поворот истории»9999
ГАСО. Ф. 2266. Д. 3088 (23.04.1938; 24.04.1938), личный архив Вячеслава Ульриха (Гейдельберг), запись от 12.04.1931; см. также: Rolf M. Constructing a Soviet Time: Bolshevik Festivals and Their Rivals during the First Five-Year Plan // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2000. Vol. 1. № 3. Р. 447—473; Павлова В. ЦДНА. Ф. 336. Оп. 1. Ед. хр. 32 (16.07.1933). Речь идет о романе «Обрыв».
[Закрыть].
Нина Луговская (р. в 1919 году) была дочерью ветерана партии социалистов-революционеров, которого преследовали коммунистические власти. Несмотря на то что семейную квартиру неоднократно обыскивала тайная полиция, отец посоветовал всем трем своим дочерям вести дневники, сказав, что на их время будет «чрезвычайно интересно» оглянуться в последующие годы. В своем дневнике Нина пыталась разоблачать «лживость» коммунистической пропаганды, описывая голод и угнетение, которые она наблюдала вокруг себя. Жалуясь на бесхребетность и забывчивость своих товарищей, она мечтала о жизни, наполненной революционным действием (что, в духе партии эсеров, вполне могло означать террористические акты). Однажды она упомянула о намерении убить Сталина, чтобы отомстить за несправедливости, чинимые отцу100100
Луговская Н. Хочу жить!: Дневник советской школьницы (1932—1937). М.: Глас, 2003. С. 8, 42—42 (24.03.1933).
[Закрыть].
Ленинградский студент-историк Аркадий Маньков тоже вел дневник, полный едких политических замечаний. Как и калининский архивист Журавлев, Маньков рассматривал свой дневник как «сырье» для истории сталинского быта, которая рано или поздно будет написана, но, в отличие от Журавлева, писал дневник с целью скомпрометировать политический режим. Современная структура советского общества, писал Маньков, «чисто капиталистическая», называть его марксистским государством кощунственно. Тем временем сам Маньков призывал к осуществлению революционных целей марксизма – уничтожению эксплуатации и достижению материального изобилия. Он особо подчеркивал прогрессивность своей критики. Он описывал себя как «революционера», который «не приемлет современную ему действительность в принципе и идет по линии ее отрицания, во имя… идеала будущего. Он знает, что будущая жизнь лучше, но что она может быть достигнута только ценой беспощадного разрушения настоящей»101101
Маньков А.Г. Дневники 30-х гг. СПб.: Европейский дом, 2001. С. 16, 42 (30.03.1933; 23.04.1933). Я справлялся с оригинальной рукописью дневника в личном архиве Манькова в Санкт-Петербурге и сравнивал ее с напечатанным вариантом. Впоследствии Маньков стал известным историком, специалистом по допетровской России.
[Закрыть].
Знаменитый биохимик Владимир Вернадский посвятил дневник, который он вел в период «большой чистки», описанию волн арестов в своем научно-исследовательском институте и среди друзей и коллег. Лаконичные записи Вернадского четко указывали на безумие и чудовищность этой кампании. Но более всего он был озабочен пагубным влиянием чисток на саму советскую власть, в основе которой, по его мнению, действительно стояли «интересы масс, во всем их реальном значении (кроме свободы мысли и свободы религиозной)». Вернадский подозревал, что Сталин и его окружение были охвачены коллективным психическим расстройством, ибо как иначе можно было объяснить то, что своими действиями они «могут погубить большое дело нового, вносимого в историю человечества»? «Большим делом» было строительство социалистического государства, за что, по мнению Вернадского, стоило благодарить лично Сталина. Именно этот идеал советской государственности побудил Вернадского, одного из бывших лидеров либеральной кадетской партии и рьяного защитника государственной экономики, критиковать политику большевистской власти102102
Вернадский В.И. Дневник 1938 года // Дружба народов. 1991. № 2 (04.01.1938; 1.03.1938); см. также: Волков В.П. Кадет Вернадский // Нева. 1992. № 11—12; Минувшее. Вып. 7. Париж, 1989. С. 447.
[Закрыть].
Несмотря на возрастные и профессиональные различия, критические подходы Манькова и Вернадского к режиму поражают своей близостью. Оба они верили в законы исторического развития, предвещающие возникновение в будущем идеального общественного устройства, оба претендовали на активную роль в построении этого будущего и оба не понимали людей, которые не признавали их ви́дения будущего, а вместо этого оглядывались на прошлое. К числу последних относился дядя Манькова, бывший купец, а ныне – «лишенец». Маньков клеймил дядю, внешне «приятного» человека, за негативистские и ретроградные настроения: «Дядя Ваня – живое воплощение скотской ненависти к Советской Власти, ко всему сущему со стороны среднекалиберного буржуа-мещанина, от которого вместе с его доходами отняли всю цель, весь смысл жизни». С такой же решительностью отвергал возможность возврата к прошлому писатель Михаил Пришвин: «Православный крест… монархия… попы… панихиды… урядники… земские начальники – невозможно!» Несмотря на то что Пришвин осуждал бесчеловечную политику советского государства, он рассматривал эпоху, в которую жил, как исторически необходимый железный век, требовавший дисциплины и подчинения со стороны граждан. Его дневник служил для фиксации порывов «ветра истории»103103
Личный архив Манькова (06.07.1933); называние дяди именем чеховского персонажа подчеркивало его неспособность приспособиться к требованиям современности. См.: Пришвин М.М. 1930 год // Октябрь. 1989. № 7 (6.05.1930); Он же. Дневники. М.: Правда, 1990. С. 365 (24.02.1946). На протяжении 1930-х годов Пришвин пытался разрешить конфликт между хочется и надо, созвучный большевистской дихотомии стихийности и сознательности. Дневник, который Пришвин вел с 1905-го до смерти в 1954 году, – его основное литературно-философское произведение. См. личное собрание Л. Рязановой и В. Круглеевой (Москва). Рязанова и Круглеева готовят к публикации полное критическое издание дневника писателя. (За последние 20 лет издано полное собрание его дневников, охватывающих период с 1905 по 1951 год. – Прим. ред.)
[Закрыть].
Каковы бы ни были их политические расхождения, авторы всех этих дневников проявляли отчетливое осознание своего времени как исторической эпохи и самих себя как субъектов истории, обязанных участвовать в создании социалистического мира. Этому корпусу дневников можно противопоставить некоторые другие, авторы которых избегали революционного смыслового горизонта. К их числу относится дневник Евдокима Николаева, московского рабочего-самоучки и бывшего члена кадетской партии, родившегося в 1872 году. Личная библиотека Николаева, насчитывавшая около 10 тысяч томов, была конфискована после его ареста в 1920 году по подозрению в контрреволюционной деятельности. После ряда последующих арестов в 1938 году Николаев был казнен. На протяжении всего советского периода Николаев строго придерживался в своем дневнике юлианского календаря, отстававшего от григорианского, введенного в 1918 году, на тринадцать дней. Он скрупулезно называл улицы и предприятия их дореволюционными наименованиями. В противоположность этнографу Бирюкову, насмехавшемуся над Пасхой со ссылкой на 1 Мая, Николаева советский праздник труда натолкнул на воспоминания о жизни при царизме: «И как весело и радостно всем тогда чувствовалось. Какое во всем было изобилие, и как все было дешево да счастливо. Как было тогда хорошо, как привольно тогда всем жилось, а главное – свободно и весело. Но все это, как сон, миновало, явилась смута, и пришли с каторги чуждые стране и русскому народу преступные люди, захватили в свои руки власть над русским народом и стали проделывать эксперимент за экспериментом». В отличие от других критиков, осуждавших тогдашний режим во имя светлого будущего, Николаев отвергал революционные начинания как таковые, считая их «утопической, бессмысленной системой какой-то “колхозной” жизни народа, которая проводится исключительно одним только принуждением и террором»104104
«Исчез человек и нет его, куда девался – никто не знает»: Из конфискованного дневника // Источник. 1993. № 4. С. 51, 52, 58 (01.05.1933; 17.02.1937).
[Закрыть].
Игнат Фролов, колхозник из Московской области, тоже придерживался в своем дневнике сталинских времен юлианского календаря. Однако он не пользовался дневником в политических целях. Его записи разворачивались в соответствии с циклическим календарем природных времен года, с подробными описаниями погоды и состояния урожая картофеля. Он упоминал обо всех русских церковных праздниках. Лишь иногда поток повествования прерывался замечаниями о пагубных деяниях «безбожников-коммунистов», руководивших колхозом. В дневнике Фролова нет признаков саморефлексии или интроспекции: в нем отражен образцовый случай «домодерного» сознания – жизнь в мире, управляемом силами природы и религии105105
Garros V., Korenevskaya N., Lahusen T. (eds.). Intimacy and Terror. Р. 111—165; см. также: На разломе жизни: Дневник Ивана Глотова, пежемского крестьянина, Вельского района Архангельской области, 1915—1931 гг. М.: РАН, 1997; «Дневные записки» усть-куломского крестьянина И.С. Рассыхаева: 1902—1953 гг. М.: Институт, 1997.
[Закрыть].
Таких дневников было заметно меньше, чем шумно возвещающих об участии в революционных преобразованиях. Их незначительное число обусловливалось не только рискованностью подобного «инакомыслия» – дневники Луговской, Манькова и Пришвина были по крайней мере столь же политически взрывоопасны. Проблема заключалась скорее в автомаргинализации, к которой приводило исключение себя из революционного времени. В период политической мобилизации и общественной активности трудно было «молчать… и стоять в сторонке», как описывал свое положение автор другого дневника, уральский крестьянин Андрей Аржиловский, за которым тянулась «контрреволюционная» личная история106106
Garros V., Korenevskaya N., Lahusen T. (eds.). Intimacy and Terror. Р. 114 (30.10.1936). Как и отец Нины Луговской, Аржиловский настоятельно рекомендовал своим детям вести дневники (Ibid. P. 137, 12.01.1937).
[Закрыть]. Многие авторы советских дневников считали совершенно неприемлемой поддержку дискредитированного царского режима как альтернативу коммунистическому государству, но именно в этом направлении толкало Евдокима Николаева полное отрицание советской власти.
Пришвин признавал существование проблемы автомаргинализации в коммунистическую эпоху. Комментируя проблему взаимоотношений между интеллигенцией и большевистской партией, которые он понимал как обмен старой культуры на политический активизм, Пришвин заключал: «Им казалось, что они хозяева, нам казалось, что, в конце концов, мы их ведем. А кто стоял в стороне, тот превращался в старую деву». Надежда Мандельштам писала, что ее брат Евгений считал, что бóльшая часть власти советского режима над интеллигенцией связана со словом «Революция», от которого «ни за что не хотели отказаться. Словом покоряли не только города, но и многомиллионные народы. Это слово обладало такой грандиозной силой, что, в сущности, непонятно, зачем властителям понадобились еще тюрьмы и казни». Мандельштам прибавляла, что очарование «Революции» оказалось неотразимым даже для «весьма достойных» современников, в том числе для ее мужа Осипа. Пришвин и Надежда Мандельштам говорили только об отношениях партии и интеллигенции, но, как свидетельствуют дневники многочисленных самоучек из низших слоев общества, привлекательность участия в революции распространялась далеко не только на эти группы107107
Пришвин М.М. «Жизнь стала веселей…»: Из дневника 1936 года // Октябрь. 1993. № 10 (12.03.1936); Мандельштам Н. Воспоминания. М.: Согласие, 1999. С. 126.
[Закрыть].
Два дневника 1930-х годов показывают масштабы и ограниченность исторического сознания, стимулировавшего появление многочисленных дневниковых записей, посвященных самоосмыслению. Хотя оба они велись вернувшимися на родину эмигрантами, трудно представить себе документы, настолько отличающиеся по тону и направленности. Николай Устрялов, профессор права, служивший одно время офицером в Белой армии, а по окончании гражданской войны эмигрировавший в Китай, уже давно завидовал «историческому оптимизму», с которым воплощался в жизнь советский революционный проект. Он вернулся в Советский Союз в 1935 году, готовый включиться в строительство нового мира. В своем дневнике Устрялов фиксировал признаки «зари новой эпохи», которые он повсеместно замечал в Москве. Вид спортивного парада на Красной площади укрепил его уверенность в том, что «наша революция» знаменует «подъем, начало, тезис нового диалектического цикла». В наблюдениях Устрялова был силен рефлексивный элемент, поскольку он полагал, что лишь благодаря способности увидеть историю в действии он может «заслужить советскую биографию». Устрялов знал, что его прошлое как белого офицера затруднит обретение им достойного места в советском обществе. К тому же вид марширующих юных спортсменов усиливал в нем ощущение собственной старости и отсталости от времени. Но он не мог представить себя просто пассивным наблюдателем того, как история движется к своему триумфальному завершению: «Нелегко чувствовать себя “лишним человеком” в наши дни, когда, казалось бы, каждому найдется вдоволь дела! Хочется уйти по горло в деятельность – только бы не быть лишним в нашу пору, в исторический час, когда решаются судьбы нашей великой страны, нашей великой революции. Хочется вполне, до конца стать своим в рядах советских людей, советских патриотов, и тягостно переносишь свою постылую изолированность, окружающие тебя взгляды холодной “бдительности” и корректного недоверия». Летом 1937 года Устрялов был арестован по обвинению в участии в антисоветском заговоре и расстрелян108108
Устрялов Н. Под знаком революции. Харбин: Полиграф, 1927. С. 87; Устрялов Н. «Служить» родине приходится костями… – Дневник Н.В. Устрялова 1935—1937 гг. // Источник. 1998. № 5—6 (03.09.1935; 05.07.1936; 18.02.1937).
[Закрыть].
Еще одной возвратившейся эмигранткой была Татьяна Лещенко-Сухомлина, певица и поэтесса, которая жила в Западной Европе и Соединенных Штатах и вернулась в Москву в 1935 году после развода с мужем-американцем. Лещенко-Сухомлина не принимала дух самопреобразования, присущий советской революции, и не отвергала его. В отличие от многих людей, приехавших в Советский Союз в 1930-е годы, среди которых были десятки немецких коммунистов, спасавшихся от нацизма, она не ссылалась на политические причины своего возвращения в Россию. Назад на родину ее привела невыносимая ностальгия. Непривычная к советской системе, она не была склонна к политическому истолкованию повседневной жизни; ее наблюдения диктовались эстетическими чувствами, отсутствовавшими во многих других дневниках того периода. Она была ошеломлена грубостью обращения людей друг с другом, «трамваем, набитым орущими и толкающимися людьми, которые ругаются и дурно пахнут». В зоопарке, куда она пришла с дочкой, на нее уставился человек, присевший рядом на скамейку. Когда она улыбнулась в ответ, он сказал: «Простите, я только что был в Третьяковке. Вы похожи на итальянскую мадонну, которую я там видел. Я никогда не видел такой женщины. От Вас нельзя отвести взгляд. Я хотел бы смотреть на Вас вечно». Женщина в трамвае тоже обратила внимание на ее внешний облик: «Ну, наконец, могу сказать, что увидела красивую женщину. Вы, очевидно, не русская. По выражению лица можно сказать, что Вы не наша»109109
ОР РГБ. Ф. 543. К. 32. Ед. хр. 15 (14.07.1935; 17.09.1935); см. также: Лещенко-Сухомлина Т. Долгое будущее. М.: Советский писатель, 1991. С. 5—7.
[Закрыть].
Эстетика Лещенко-Сухомлиной, где в центре находился индивидуальный стиль, резко отличалась от эстетики социалистического реализма, воспринимавшей грубое настоящее через призму идеального будущего и оценивавшей тот или иной факт лишь с позиций его общественной полезности. Как бы для вытеснения неприятных впечатлений, поглотивших ее в Москве, она включила в дневник воспоминания о своем трехлетнем пребывании в Испании: «Океан, скалы, глянцевитая зелень апельсиновых деревьев, розы и песок… И солнце, ослепительное и великолепное, будто весь мир лежит под ним. И оно освещает весь этот мир, растапливает в своих лучах все уродство, все горе, все болезни. О, солнце Испании – как счастье!» В противоположность многим авторам советских дневников, Лещенко-Сухомлина находила источник счастья в прошлом, а не в светлом будущем, которое предстояло построить. Она отождествляла счастье со спокойным существованием на природе, а не с активной борьбой за ее покорение. Ее позиция была созерцательной, а не активной. Интересно, что ее ностальгический пассаж посвящен именно Испании. Испания часто фигурировала в советских дневниках того периода, но большинство авторов дневников обращались к совсем другому образу Испании – образу страны, ведущей героическую гражданскую войну с силами фашизма. Испания фигурировала в них не как фон для воспоминаний о прекрасном прошлом, а как арена ожесточенной классовой борьбы, в которой определялось будущее110110
ОР РГБ. Ф. 543. К. 32. Ед. хр. 15 (13.07.1936).
[Закрыть].
Мысли Лещенко-Сухомлиной об Испании получили существенное развитие на протяжении недель, последовавших за этой записью в дневнике. Прочитав в газетах о фашистских бомбардировках дорогих для нее испанских городов, она осознала противоречие между «трафаретностью» своих воспоминаний и отталкивающей реальностью войны. Она приняла предложение рассказать об Испании в Союзе скульпторов-художников и была обрадована и поражена восторженной реакцией на свое выступление. Впоследствии его напечатали в красноармейской газете «Красная звезда». Эволюция ее представлений об Испании свидетельствует о возможностях советских пропагандистских образов влиять не только на представление людей о себе, но даже на их воспоминания. В 1947 году, в ксенофобской послевоенной атмосфере, Лещенко-Сухомлина будет арестована и приговорена к восьмилетнему заключению в трудовых лагерях111111
Там же (24.07.1936; 29.07.1936; 29.09.1936); арест и приговор описаны в книге: Лещенко-Сухомлина Т. Долгое будущее. С. 302—309.
[Закрыть].









































