Текст книги "Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи"
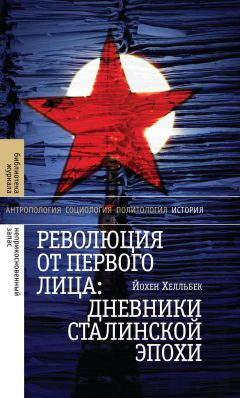
Автор книги: Йохен Хелльбек
Жанр: Политика и политология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Советскому интеллигенту можно было упоминать о материальных трудностях, только если это способствовало его самопреобразованию. Например, Вера Инбер гордо перечисляла в дневнике трудности, с которыми она столкнулась, в доказательство новообретенной силы:
Да, много работы впереди. И какой трудной, какой черной. Хорошо только то, что я физически окрепла от беготни, от таскания тяжелых сумок, от езды в Переделкино, от более легкой, менее жирной пищи… Я знаю цену любой физической и умственной работе. Знаю, как сдерживать раздражение, когда стоишь в овощной лавке в трех очередях, у кассы, у выдачи, а потом еще доплаты… Ноги ноют, свертки расползаются, в клеенчатом пальто страшно жарко телу, а к лицу липнет муха и нечем ее отогнать: третьей руки не хватает137137
РГАЛИ. Ф. 1072. Оп. 4. Ед. хр. 4 (27.09.1937).
[Закрыть].
Галина Штанге, жена профессора московского технического вуза, фиксировала в дневнике трудности современной жизни, чтобы подчеркнуть героические жертвы ее поколения при строительстве социализма – и сообщить о них будущим поколениям: «1.01.1937. Просто ужас охватывает, когда подумаешь, как живут сейчас люди вообще и инженеры в частности. Мне рассказали про одного инженера, который живет с женой на 9-ти метрах. Когда приехала мать навестить их, то ему уже окончательно негде стало заниматься, так он поставил лампу на пол, а сам лег (под столом на живот) и так занимался, отложить было нельзя – работа срочная. Я записала этот случай, чтобы те, кто будут жить после нас, прочитали и почувствовали, что мы переносили». Этот фрагмент читался бы иначе, если бы в нем отсутствовало последнее предложение о будущем читателе, к которому обращалась Штанге. Ее замечания об условиях жизни свидетельствовали бы об отчаянии и политической критике. Существует риск изоляции отдельного утверждения от более общего повествовательного контекста и нарративных стратегий, в которые он интегрирован. В советский революционный период этот контекст определялся нарративами преобразования и очищения; эти нарративы задавали понимание призывов Инбер и Павловой к стойкости, они же придавали унылым заявлениям Сыча и Перегудова взрывной политический смысл.
Работая над искоренением своей прежней, буржуазной сущности, интеллигенты – авторы дневников также активно участвовали в реализации проекта переделки прежнего населения России в новых людей. Это может показаться парадоксом, ибо как мог класс со столь «нечистым» происхождением представлять себя создателем общества, очищенного от груза прошлого? В дневниках обнаруживаются два основных мотива, побудивших представителей интеллигенции принять эту программу. Благодаря багажу образования и культуры интеллигенция как никакая другая общественная группа подходила для того, чтобы претендовать на роль наставников в большевистском государстве. Приверженность делу просвещения масс, «погрязших в темноте», возникла задолго до революции и была неотделима от профессионального и нравственного призвания русской интеллигенции. Кроме того, роль «социальных инженеров» позволяла интеллигентам экстериоризировать собственное стремление к самообновлению, распространяя этот идеал на весь СССР и тем самым добиваясь собственной легитимации и отпущения грехов.
Дух перевоспитания пропитывал дневник Павловой. Преподавая некоторое время в «темной, серой» и «отсталой» деревне близ Москвы, она утверждала, что на нее возложена непростая миссия переделки крестьянской молодежи. Юные колхозники воспринимали ее преподавательскую работу только поверхностно, «а что-то инстинктивное, глубоко внедрившееся отталкивало все новое», препятствовало ее усилиям, направленным на «перевоспитание». В одном комичном эпизоде Павлова изобразила текущее положение дел в деревне, внешне затронутой революцией, но по существу все еще погрязшей в отсталости. Ее коллега-учительница, не слишком превосходившая образованностью остальных жителей села, назвала сына в честь Октябрьской революции. Нередко Павловой приходилось слышать доносившиеся из дома этой учительницы крики: «Октябрь, слезай с горшка!» или «Куда мово Октября черти уперли?» В другом месте дневника Павлова с явной гордостью отмечала: «Я даю знания, я приучаю работать, воспитываю новые привычки, “делаю” людей!.. Очаровательно чувство владения людьми (хотя бы и младшими)… И вот сознание твоей значимости и значимости твоей работы – вот этот синтез, он обусловливает удовлетворение, увлечение». После энергичной антирелигиозной кампании на фабрике «Красный факел» в Москве, в организации которой участвовала Павлова, она писала уже более раздраженно: «Сколько времени и работы нужно еще для того, чтобы поднять эту массу на высоту действительно граждан социалистического государства… Насколько нужна интеллигенция, чтобы вести эту работу?» Как советский учитель она не испытывала трудностей в связи со своей сомнительной, отчасти буржуазно-интеллигентской индивидуальностью, вызывавшей у нее множество тревожных сомнений в других условиях. Задача, поставленная перед советскими интеллигентами, – быть учителями и воспитателями новых людей, конструировать их – оправдывала советскую интеллигенцию, прилагавшую большие усилия, чтобы обновить саму себя.
Приватное и публичное, личное и общественное
Историки советской системы часто предполагают, что лишь заявления, сделанные в частном порядке, являются надежным показателем «реальных» убеждений людей. Поэтому они придают дневнику, понимаемому преимущественно как частная запись, уникальное значение в плане неискаженного выражения личного Я. Соответственно дневники, возникшие в публичной сфере, – например, бригадные дневники или записи, предназначенные для публичного прочтения, – отвергаются как неподлинные, особенно с учетом давления советского государства, заставлявшего их авторов заниматься самоцензурой.
Проблема применения бинарной оппозиции приватное/публичное к дневникам и субъективности сталинского периода заключается в том, что эта оппозиция проецирует на советские условия либеральное понимание индивидуальности. Эта бинарная оппозиция исходит из предположения, что советские граждане, подобно либеральным субъектам, стремились к личной самостоятельности и что, следовательно, их личностное самовыражение развивалось вразрез с общественными или государственными институтами. Более того, либеральная модель основана на постулате о том, что все люди культивируют личную сферу как сферу неограниченной и подлинной личной субъективности. Однако в связи с дневниками, написанными советскими людьми, возникает вопрос об универсальности стремления к самостоятельности и о приватном как сфере проявления целостной личности. Понятия приватного и публичного остаются полезными в той мере, в которой они фигурировали как работающие понятия в советских условиях, но важно учитывать конкретно-исторические смыслы, лежавшие в их основе и определявшие их использование138138
См.: Weintraub J. The Theory and Politics of the Public/Private Distinction // Weintraub J., Kumar K. (eds.). Public and Private in Thought and Practice. Р. 1—42.
[Закрыть].
С точки зрения марксистов, приватное существование способствовало развитию таких антиобщественных инстинктов, как индивидуализм, партикуляризм и эгоизм. Кроме того, сфера приватности служила идеологическим инструментом сохранения капиталистической системы. Ее функция заключалась в том, чтобы обмануть угнетенного рабочего, дать ему передышку и заставить забыть о фундаментальном состоянии отчуждения. Уничтожив частную собственность, социалистическая революция должна была преодолеть отчуждение собственного Я и позволить человеческому роду восстановить свою общественную природу. При социализме любое представление о приватности станет анахронизмом. Освободившись от прежнего состояния капиталистического угнетения и собственной раздвоенности, человек вновь сделается общественным существом. Согласно Марксу, «прежде всего, следует избегать того, чтобы снова противопоставлять “общество”, как абстракцию, индивиду. Индивид есть общественное существо». Общество социалистического будущего должно было не функционировать как внешняя скрепа, а выражать подлинное внутреннее единство людей. Освобожденная от внутреннего раздвоения и классового конфликта, каждая личность в новом мире будет отождествлять себя с обществом139139
Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 42. М.: Политиздат, 1974. С. 118.
[Закрыть].
Как идейные марксисты, большевики стремились не только уничтожить частные структуры в социально-экономической жизни, но и очистить сознание советского населения от личных забот. Революция должна была охватить все стороны жизни людей и, в частности, те, которые считались частными и аполитичными. Как напоминала советским гражданам «Комсомольская правда», «быт – не личное дело; это важнейшая сфера классовой борьбы. Быт неотделим от политики, и люди, нечестные в быту, нравственно порочные, порочны и политически». Надежда Крупская предупреждала: «Отделение личной жизни от общественной рано или поздно приводит к предательству коммунизма. Мы должны стремиться связать свою личную жизнь с борьбой за построение коммунизма»140140
Комсомольская правда. 1938. 15 дек., цит. по: Kharkhordin О. Reveal and Dissimulate. Р. 357; Крупская Н.К. (1924), цит. по: Naiman Е. Sex in Public. Р. 92.
[Закрыть].
В дневниках того периода отчетливо прослеживается советский императив, в соответствии с которым человек должен жить политической жизнью, мыслить о своем существовании в терминах общественной полезности и не позволять личным заботам подрывать устремленность к общим целям. Степан Подлубный неоднократно упоминал о своей «внутренности» или «душе». Он стремился активизировать свое Я и сделать его неотъемлемой частью революционную программу советского государства. В его понимании душа советского гражданина должна была быть насыщена отчетливым политическим содержанием и энтузиазмом. Его раздражало, когда он ощущал, что «вся внутренность спит» или что «настроение [у него] идиотское и “не политическое”». Но когда его охватывало чувство возвышенного приобщения к политике, он с удовольствием наблюдал за слиянием субъективных, внутренних чувств с объективной, общественной сферой. Сходным образом Анатолий Ульянов подчеркивал в дневнике связь своей личной жизни с общественным существованием, зная, что культивирование и фиксация личных забот как таковых могут выставить напоказ его мещанство. Первую тетрадь дневника он начал программным заявлением, поклявшись всегда связывать проявления своей «личной жизни», насколько они заслуживают фиксации, с «общественной жизнью»: «Я живу только этим и все личные интересы почти все время уживаются с общественными». Однако всего лишь несколькими строками ниже Ульянов менял тему и начинал описывать свои любовные переживания. Бóльшая часть его дневника 1930-х годов была, по сути дела, посвящена романам с различными женщинами. Но вновь и вновь Ульянов упрекал себя в «мелкобуржуазности», принимая очередное решение распутать хитросплетения своего низменного личного существования и вести более высокую, рационально определенную жизнь141141
Подлубный С.: ЦДНА. Ф. 30. Оп. 1. Ед. хр. 11—12 (07.06.1932; 01.06.1933); Ульянов А.: ОР РГБ. Ф. 442. Оп. 1. Ед. хр. 4—5, 7 (недатированная запись, до 18.02.1930; 18.02.1930; 01.03.1930; 1.07.1932; 26.01.1935).
[Закрыть].
Дело не в том, что авторы советских дневников должны были просто отрицать личную сторону своей жизни и не рассказывать о ней в дневниках. Бинарные оппозиции, устанавливавшиеся авторами дневников, не сводились к противопоставлению личного внеличностному, индивидуального социальному и приватного публичному. Наоборот, в своих записях они стремились избегать подобного бинарного противопоставления. Сопротивляясь присущей дневникам тенденции к одностороннему, сконцентрированному на собственном Я и потенциально индивидуалистическому повествованию, они старались подчеркивать свою политическую сознательность, активность и социализированность. Но такое подчеркивание не исключало интимного отношения к собственному Я. Ульянов обращался к дневнику как к личному другу и обычно заканчивал записи прощанием, эмоционально подписанным «Толька». Этому комсомольскому активисту никогда не приходило в голову упрекнуть себя в интимном, почти романтическом тоне, в котором он обращался к дневнику. Настоящей проблемой для него было злоупотребление дневником как возможностью дать выход своей слабости, пассивности и сосредоточенности на себе, и в одном месте он формально извинялся перед дневником за то, что использовал его для освобождения от «скуки, сплина и хандры»142142
ОР РГБ. Ф. 442. Оп. 1. Ед. 7 (6.02.1935).
[Закрыть].
Сама по себе интимность – романтические мечтания или эпизоды из семейной жизни – не считалась идеологически предосудительной. Наоборот, гражданам давали право и по ходу 1930-х годов все более активно обязывали культивировать «личную жизнь», которая рассматривалась как свидетельство гуманности и высокоразвитости социалистической культуры143143
Паперный В. Культура Два. М.: Новое литературное обозрение, 2006; Volkov V. The Concept of «Kulturnost’».
[Закрыть]. Чем более выдающихся успехов достигали граждане, такие как стахановцы или герои-полярники, в своей производственной деятельности, тем более развитыми социалистическими личностями они, предположительно, являлись, тем большее право на личную жизнь имели. Очевидно, что в этих случаях личная сфера не вступала в конфликт с общественными обязанностями и стремлениями, а была лишь одним из выражений социалистической ориентации гражданина.
Это новое узаконивание личной жизни хорошо выражено в дневнике московского биолога Ариадны Чирковой. Ее сын умер в младенчестве, и после того, как ее бросил муж, она осталась с малолетней дочкой, – так что не было никого, кроме дневника, кто мог бы понять ее мысли и чувства, всю ее «внутреннюю жизнь». Чуйкова с завистью комментировала радиопередачу о группе летчиков, зимовавших на Северном полюсе. Радист, отмечала Чиркова, «все время заботится… настолько о своей семье, что даже напоминает жене разные мелочи, которые она должна не забыть сделать, прочесть ту или другую книгу, подписаться на журналы, сходить в театр и т.д. <…> Я скептик, я не верю что-то этому… Но я плакала, слушая эту передачу и потом подробный отчет его жены о том, как семья проведет сегодняшний день». Чиркова плакала, потому что слышанное ею по радио – правдой оно было или вымыслом – напоминало о том, что у нее самой не было такой личной жизни, которую она понимала как семейную жизнь с любовью, близостью и стремлением к образованию в общих рамках героического существования.
Наоборот, размышления на личные темы, которыми изобиловал дневник Чирковой, следовало подавлять, потому что они «недотягивали» до статуса полноценных свидетельств личной жизни:
Мои записи всегда и всюду могут произвести одностороннее впечатление. Это только внутренний мир. Я. Но этим миром я занята только тогда, когда пишу это, или в совсем отдельные незначительные (по степени) моменты в течение дня. Напр., дорога в лабораторию. Остальное время все уходит на работу. Общественная жизнь захватывает и вырывает целиком. Борьба всегда стоит для меня на первом месте. Эти записки – это маленький мой отдых, никому не нужный, кроме меня. Когда кормлю Ирочку сливками или апельсинами, думаю с ужасом о тысячах, десятках и сотнях тысяч детей, которые не имеют ничего подобного. И таких еще много даже у нас…144144
РГАЕ. Ф. 525. Оп. 1. Ед. хр. 70 (05.05.1935; 13.12.1935; 06.03.1937).
[Закрыть]
Хотя Чиркова начала с подчеркивания малозначительности личной сферы в качестве темы для ее дневника по сравнению с жизнью в целом, далее она отождествила именно личную жизнь со своим Я, таким образом подразумевая, что ее профессиональная жизнь и общественные достижения являются по отношению к этому Я чем-то внешним. Похоже, что, делая эту запись, она осознала рискованность избранной терминологии, а потому поспешила добавить, что даже в самые интимные моменты, наедине с дочерью, остается преданной общему и помнит о «сотнях тысяч» несчастных детей мира, которые голодают и лишены материнской заботы. Данная запись отчетливо свидетельствует о специфически советских моральных механизмах, не позволявших гражданам СССР чрезмерно погрузиться в личную жизнь, независимо от того, счастливой или несчастной она была.
Двойственная иерархия личного/общественного и частного/всеобщего, к которой обращалась Чиркова в своем дневнике, отражена и в определении понятия «гражданин» в официальном словаре сталинской эпохи: «сознательный член общества, человек, подчиняющий свои личные интересы общественным». Широкие общественные интересы превалируют над чисто личными и в дневнике Льва Дейча, бывшего активиста партии меньшевиков, которому во время ведения дневника было шестьдесят с лишним лет. Дейч разделил одну из записей на две части: начал с замечаний о «политической сфере», а затем перешел к «личной сфере». Акцентируя «крупнейшие события» в политической сфере, он не мог сообщить ничего утешительного о своем личном состоянии, которое описывал как «не особенно хорошее» и даже «отвратительное». Показательно также, что в первой части он употреблял собирательное местоимение «мы» («ждем от этого всевозможных благ»), а личную жизнь описывал в первом лице единственного числа145145
Ушаков Д.Н. (ред.). Толковый словарь русского языка. М.: Гос. ин-т «Советская энциклопедия», 1935. Т. 1. С. 613; Записные книжки Л.Г. Дейча. С. 26 (20.11.1933).
[Закрыть].
Неравное положение «личной» и «государственной» сфер отчетливо заметно в дневнике ленинградской школьницы и дочери высокопоставленного местного партийного работника Нины Соболевой. В январе 1940 года комсомольская ячейка поручила Соболевой вести культпросветработу на Ленинградской фабрике игрушек. Чтобы подготовиться к выполнению этого поручения, она решила систематически изучать «Правду», а также вести дневник для записи прочитанного и размышлений о нем. В одной из первых записей в дневнике говорилось:
13.01.1940. Сегодня в газете:
Поток приветствий товарищу Сталину.
Война в Европе. Берлин. Газета Кёльнише Цайтунг пишет о попытках англичан и французов развязать войну на севере.
Париж…
Лондон…
Внутренние новости: «Дело клеветнической группы Напольской» (о контрреволюционной клеветнической деятельности этой группы. Все пять ее членов получили тюремные сроки. Напольская, Ивановская и Горохов – по 20 лет, Михайловский и Ионов – по 15).
Да, утром, сделав выписки из газет, я хотела написать о себе, но возникло странное чувство: неловко после хроники государственных дел писать всякого рода личный вздор. Может быть, надо завести два дневника? Один для общественной сферы, а другой – для личной146146
АВМБР. Ф. Р-242. Антонина Коптяева, студентка университета, впоследствии ставшая писательницей, в 1937 году вела дневник, начав его с записей, в которых перечислялись лишь заголовки «Правды». Сразу за ними последовал ряд датированных 1939 годом записей, в которых фиксировались интимные фантазии и мечтания, см.: РГАЛИ. Ф. 2537. Оп. 1. Ед. хр. 127.
[Закрыть].
Если личное нельзя было возвысить до уровня политического (а такой возможности у Соболевой, очевидно, не было), то ведение двух дневников воспрепятствовало бы осквернению политического текста мелочными личными заботами.
Как у Соболевой, так и у Ульянова замыслы ведения дневников зародились из размышлений о том, как согласовать личную жизнь с ролью общественных активистов и граждан советского государства. Однако по мере их ведения они осознали, что дневники способны завести их в расколотый, солипсический, «личный» мир, неприемлемый для советского гражданина, и отреагировали на такую возможность, указав, что личная сфера иерархически включена в их общественное существование. Но ни один из них не смог обеспечить в своем дневнике преобладание государственного языка. Всего лишь через две недели после процитированной выше записи Соболева ограничила упоминания о «Правде» только заголовком и продолжила: «Честно говоря, мне не хочется сегодня читать газету. Лучше напишу что-нибудь о себе». С этого момента ее дневник становится все более личным, превращаясь в летопись дружб и подросткового бунта против родительского авторитета. Через год после начала ведения дневника газетные сообщения оттесняются в конец записей о событиях личной жизни: «Прежде чем закончить, хотя бы вкратце изложу вчерашние газетные сообщения»147147
АВМБР. Ф. Р-242 (27.01.1940; 05.02.1941).
[Закрыть].
Не все авторы советских дневников испытывали противоречивые чувства, записывая в них интимные мысли и сны. Владимир Железняков, будучи председателем сельсовета, осознавал, что должен подчинять личные заботы интересам общества: «11.06.1933. Утром в 3 часа проводила меня жена Мария. Хорошо было встречаться, а прощаться хуже. Отбросив все свои личные интересы, я бодро пошагал, спеша на поезд. В голове был Пироговский c/сов». Но он не стеснялся украсить страницы дневника ярким описанием своего сна. Ему снилась гражданская война в Испании и виделось, как он втыкает штык в животы фашистов. Потом в постель пришла жена и разбудила его: «Пожалел я свои прерванные грезы. А может быть, я увидел бы героический Мадрид и славных летчиков, сбивающих вражеские самолеты… Мы с вами – геройские сыны испанского народа! Фашизм будет побежден! Ты, жена, в следующую ночь аккуратнее поворачивайся. Я буду воевать с фашизмом». Железняков мог позволить себе изложить этот сон в дневнике, потому что он полностью совпадал с общественными настроениями, а потому не угрожал целостности его Я. Этнограф Владимир Бирюков не видел снов о гражданской войне в Испании; напротив, эта война и неудачи республиканской армии вызывали у него мучительную бессонницу. Как Железняков, так и Бирюков жили очень далеко от полей испанских сражений, и тем не менее война и классовая борьба во всем мире ощутимо присутствовали в летописях их жизни148148
1933—1936 гг. в грязовецкой деревне. С. 468, 520—521 (11.06.1933; 13.12.1936); ГАСО. Ф. 2266. Д. 1387 (15.01.1937).
[Закрыть].
Безусловно, не все авторы советских дневников стремились вести образцовую жизнь, наполненную исключительно общественными заботами, и даже у тех, кто к этому стремился, как правило, не все получалось. Тем не менее разделение на личную и общественную сферы или частные и всеобщие интересы, а также требование подчинять первые последним структурировали события, переживавшиеся большинством авторов дневников. Даже критически настроенный студент-историк Аркадий Маньков однажды записал: «23.03.1939. У человека есть две жизни: общественная и частная. До сих пор гармонически они были слиты лишь у немногих счастливчиков. В подавляющем большинстве было так: если не удавалась одна, всецело отдавались другой». Несмотря на поставленный им диагноз раскола между общественным и частным существованием, Маньков все же принял нормативное представление о едином Я, охватывающем как общественное, так и личное. Он сожалел о неспособности советской власти вдохновить его субъективный дух и таким образом интегрировать его Я. Услышав об оккупации Гитлером Мемельской области, Маньков заключил, что ему придется идти на войну, не имея идейной цели, за которую стоит сражаться. Таким образом, даже такой критик власти, как Маньков, был привержен идеалу целостной личности, в которой личное возвысится до уровня общественного149149
Маньков также замечал, что общество и государство уже не составляют в Советском Союзе единого целого, причем государственные интересы размываются, а общественные связи атомизируются. В результате он диагностировал двойственность не только личности, но и общественного строя в целом. См.: Маньков А. Дневники 30-х гг. С. 285 (04.11.1940).
[Закрыть].
Некоторые другие авторы дневников, рассуждая об отношении между своими интимными мыслями и общественной сферой, проводили различие между «мажорным» и «минорным» ключами. Когда их голос в дневнике становился задумчивым, подавленным или унылым, они называли это минорным ключом. Такой тон одиночества был не похож на звучное, единогласное одобрение, которое они приписывали советскому коллективу, и к тому же вступал в противоречие с идеалами уверенности и силы, которые они стремились воплотить. По возвращении в Москву бывший эмигрант Николай Устрялов не мог найти работу, и его не признавали полноценным советским гражданином. Его огорчение, в основном не находившее выражения в дневнике, вышло на первый план в записи, посвященной параду молодых спортсменов в Москве. Именно к этому коллективу он стремился принадлежать, ведь там было все, чего ему недоставало: «…когорты и легионы молодежи, отличное ранне-осеннее солнце, оркестровый клекот громкоговорителей – звуки все боевые, бравурные, мажорные. Песни борьбы, задора, веры, молодости». Алексей Кириллов, журналист, исключенный из партии потому, что он одно время поддерживал Троцкого, в дневнике писал об отчаянии и часто посещавших его мыслях о самоубийстве. Но он неоднократно призывал себя писать в оптимистическом, «мажорном» ключе: «Я стараюсь быть бодрым и готовлюсь драться за право быть в партии, за право быть на земле». Аналогичным образом литературный функционер Александр Аросев, когда его коммунистические качества были поставлены под сомнение, доверил свои грустные мысли дневнику, одновременно надеясь вскоре переключиться на «мажорные» ноты. Приватность во всех этих случаях означала одиночество, конфликт и уныние в противоположность шумному, энергичному и боевому хору общественной жизни150150
Устрялов. Н. «Служить мне приходится костями…» С. 13 (03.09.1935); Кириллов А. В середине тридцатых: Дневники ссыльного редактора // Наш современник. 1988. № 11. С. 111, 121 (21.02.1935; 20.05.1935). Апелляции Кириллова о восстановлении в партии были отклонены; в 1936 году он совершил самоубийство: Аросева О.А. Без грима. М., 2003. С. 51 (15.01.1934).
[Закрыть].
С представлением о приватности было связано понятие скрытности. В 1938 году Маньков отмечал, что арестована еще одна группа студентов МГУ, но он привык к такому положению и уже не думал, что могут арестовать и его. «Впрочем, – добавлял он, – что у меня за душой? Пока только дневники». Как и Маньков, Подлубный осознавал, что тайны его дневника дорого стоили бы ему, если бы попали в те руки, но не переставал писать. В то же самое время он чувствовал себя отравленным и отягощенным «черными мыслями» и стремился освободиться от них. У него не было положительного представления о том тайном пространстве, в котором можно было бы локализовать чувство собственного Я и личные ценности, расходящиеся с общественными нормами. Поэтому он не воспринимал дневник как запись событий личной жизни, которые следует запомнить. Скорее дневник служил «помойной ямой» для «выплескивания помоев, скопляющихся в… голове». Подлубный рассматривал ведение дневника как битву, из которой он в конечном счете выйдет очищенным, проникнутым общественными ценностями и освобожденным от любой альтернативной, эгоистичной и поэтому нечистой приватной сферы151151
Маньков А. Указ. соч. С. 197 (25.10.1938); ЦДНА. Ф. 30. Оп. 1. Ед. хр. 13 (23.01.1933).
[Закрыть].
Просматривая бумаги в столе у отца, юная Нина Соболева обнаружила ужасный документ: протокол партсобрания, на котором отца обвинили в клевете на невинных коммунистов в 1937—1938 годах. Согласно этому документу, отец защищался, утверждая, что они на самом деле были врагами народа. Соболева не знала, чему верить. Она писала: «После непреднамеренного прочтения бумаг отца у меня (“в душе”? “в сердце”?) возникло тяжелое чувство». Обвиняя себя в одном из самых серьезных, по меркам того времени, проступков, Соболева утверждала, что знание отцовской тайны превратило ее в «двурушницу»: человека, внешне советского, но с внутренней тайной, нарушавшей нормативное требование искренности. Она решила прекратить вести записи в «оскверненном» дневнике, спрятать его в надежном месте и завести новую тетрадь. Описание дневника как хранилища недозволенных и компрометирующих мыслей показывает, что она рассматривала сферу тайного как темную оборотную сторону революционных идеалов чистоты и открытости, темный угол, возникший на фоне стремления советских людей к свету. Поступок Соболевой был недозволенным в условиях всеобщего стремления к очищению жестом утаивания, но не был (или еще не был) источником положительной самоидентификации или гордости в связи с зарождением традиции самостоятельного мышления152152
АВМБР. Ф. Р-242 (17.05.1940). Другой взгляд см. в: Kharkhordin О. The Collectve and the Individual in Russia. Р. 271.
[Закрыть].
Понятие приватности как таковое не имеет неизменного значения. Оно приобретает положительный или отрицательный оттенок в зависимости от идейного контекста, в котором проявляется Я человека. Нет ничего удивительного, что в советских условиях, учитывая дух публичности и коллективизма, поощрявшийся советским государством, личные дневники велись не для того, чтобы культивировать частное существование в противоположность общественной сфере. Поэтому использование бинарной оппозиции публичное/приватное в либеральном варианте, основанном на предположении, что приватная сфера является локусом положительной идентичности, нельзя считать приближающим к пониманию советской субъективности. Это не значит, что авторы дневников не комментировали свою частную жизнь: они подробно рассказывали об интимных мечтах, фантазиях, романтических встречах или семейных проблемах и фиксировали такие повседневные вещи, как съеденные за день продукты. Но многие из них укоряли себя за обращение к такому «мелкобуржуазно-индивидуалистическому» способу повествования, который они считали неприемлемым в советской стране. Важнее всего было то, что подобные личные мысли, оторванные от общественных ценностей и интересов, грозили разрушением идеала целостной личности, а потому отвергались, когда авторы дневников начинали размышлять о качествах своего Я. Едва ли есть хоть один дневник, в котором пропагандировались бы идеалы независимости, самодостаточности и индивидуализма. Многие из них были личными в том смысле, что в них люди прятали от любопытных взглядов свои тайны, но эти потаенные мысли не систематизировались и не расширялись до уровня приватных идентичностей.
Авторы дневников не пользовались дихотомией приватного и публичного, скорее соотнося свое личное, частное существование с социальным и общественным интересом. Эти описания указывают на наличие двух траекторий (мелочной и ограниченной субъективной жизни личности и жизни коллектива, воплощающей объективный ход истории), которые в идеале должны были слиться воедино. Вновь и вновь авторы дневников писали о том, что прилагают усилия к включению собственной жизни в «общий поток жизнедеятельности» советского коллектива153153
См., например, дневник Александра Афиногенова: РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 3. Ед. хр. 5 (29.07.1937).
[Закрыть]. Личное существование, отделенное от жизни коллектива или даже противопоставленное ему, считалось неполноценным и несовершенным. Коллектив, представлявшийся живым, «дышащим» организмом, был конечной целью самореализации. Вступая в коллектив, личность объединялась с другими личностями и за счет этого как бы вырастала над собой. Отношения личности с коллективом значительно превосходили отношения с любой другой личностью по своему значению и по способности дать человеку ощущение общности. Анатолий Ульянов в одном месте прерывает «уединенные» размышления о Кате, сердце которой он не может покорить, и о Гале, заигрывания которой оставляют его равнодушным, и заявляет, что на самом деле любит дорогую партию, которая нуждается в нем не меньше, чем он в ней. Клятва, данная им, как и подобает, в день революционного праздника, воплотилась в жизнь несколько месяцев спустя, когда Ульянов действительно вступил в Коммунистическую партию154154
ОР РГБ. Ф. 442. Оп. 1. Ед. хр. 10 (09.11.1936). По-русски слово партия – существительное женского рода.
[Закрыть].
Если членство в коллективе могло «погасить» неприятности в «личной жизни» советского человека (о чем свидетельствует и дневник Чирковой), то потеря этой включенности была способна привести к полному одиночеству. Это особенно заметно в случае Юлии Пятницкой, которой пришлось наблюдать, как от нее отворачиваются бывшие знакомые, а ее сыновья теряют друзей. Она пришла к выводу, что «горе имеет какой-то запах, от меня и от Игоря одинаково пахнет, хотя я ванну принимаю каждый день, от волос и от тела». Порой Пятницкая чувствовала себя отчужденной даже от детей. Когда она призналась старшему, 16-летнему, сыну в «злых, ядовитых» подозрениях, что они оказались пленниками жестокой и деспотической государственной системы, он упрекнул ее: «Мама, ты мне противна в такие минуты, я могу убить тебя». Она также писала о том, что ее младший, 11-летний, сын говорил: «Жаль, что папу не расстреляли, раз он враг народа». Чтобы воссоединиться с революционным сообществом и преодолеть общественную изоляцию, Пятницкая должна была осудить своего мужа как «врага народа». Так посоветовал ей государственный обвинитель, к которому она обратилась за помощью. Значительную часть дневника Пятницкой занимали описания того, насколько «опустошена и измучена» она была, потому что не могла собраться с силами, чтобы возненавидеть своего мужа и тем самым вновь стать полноценной советской гражданкой и членом социалистического коллектива155155
Пятницкий был расстрелян в июле 1938 года после допросов и физических пыток, продолжавшихся по меньшей мере 220 часов. Он так и не подписал признания в приписывавшихся ему преступлениях. См.: Starkov B. The Trial That Was Not Held // Europe-Asia Studies. 1994. Vol. 46. № 8. Р. 1307; Пятницкий В.И. (ред.). Голгофа: по материалам архивно-следственного дела на Соколову-Пятницкую Ю.И. С. 29, 46 (18.07.1937; 25.02.1938).
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































