Текст книги "Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи"
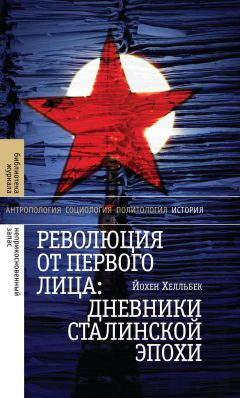
Автор книги: Йохен Хелльбек
Жанр: Политика и политология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Рациональность, кризис, спасение
Решив «доказать, не для других, а для себя… что [она] выше, чем жена, и выше, чем мать», Пятницкая засвидетельствовала тем самым, что существовали два способа восприятия действительности: с позиций личного наблюдения и с позиций идеологически санкционированной истины. В личном плане, и особенно как жена и мать, Пятницкая верила мужу и хотела отстаивать его невиновность. Но высшее призвание советской гражданки обязывало ее преодолеть личные чувства и принять (даже поддержать) арест мужа как действие, соответствующее интересам общества и государства. Авторы дневников сталинской эпохи прибегали к различным механизмам слияния двух этих разных измерений в единую позицию.
Описание действительности как проявления идеологической истины было главным требованием эстетической теории сталинской эпохи – социалистического реализма. По словам партийного идеолога Карла Радека, «великие творения социалистического реализма не могут… быть результатом случайных наблюдений на определенных участках действительности, они требуют от художника охвата громадного целого. Даже тогда, когда художник дает великое в маленьком, когда он хочет показать мир… в судьбах одного маленького человека, – он не может выполнить своей задачи, не имея в мозгу своем образа движения всего мира». Художник Борис Иогансон отстаивал социалистический реализм как полярную противоположность «фотографическому отображению фактов», которое проповедовал натурализм. Натурализм предпочитал «неотрефлексированное представление отдельных фактов, без их осмысления в процессе познания». Наоборот, основным отличием искусства социалистического реализма было наличие у художника «воли или целенаправленности»156156
Первый Всесоюзный съезд советских писателей. С. 318. Борис Иогансон цит. по: Гройс Б. Утопия и обмен. С. 31.
[Закрыть]. Авторы дневников применяли эстетику и познавательные императивы социалистического реализма к построению повествований о себе. Они регулярно вмешивались в фиксацию событий, возвышая смущающие и приводящие в замешательство бытовые наблюдения до уровня целенаправленности, разумной целостности и ориентированности на будущее. И напротив, многие авторы дневников, остававшиеся на уровне натуралистических заметок, связывали это со слабостью своей воли или, хуже, с внутренней болезнью. Тем самым они признавали влияние тайных мыслей на формирование или переделку своей внутренней природы.
Иллюстрацией подобных попыток слияния воедино противоречивых восприятий действительности может служить дневник венгерского писателя Эрвина Шинко, жившего в Советском Союзе в 1935—1937 годах. Будучи не в состоянии вместить гнетущие впечатления от современной советской действительности в санкционированную идеологическую схему, он тем не менее сумел добиться своеобразного слияния этих восприятий, мысленно переносясь в будущее. В записи, озаглавленной «Ночные размышления, или Письмо моему еще не рожденному юному другу», он писал о стремлении взглянуть на будущий социалистический строй, чтобы иметь возможность «с меньшей горечью и большим хладнокровием принять эту промежуточную остановку, этот ведущий из прошлого в будущее путь, который называется “Советским Союзом”… А поскольку я верю в Завтра, в социалистическое Завтра, в котором нынешнее состояние Советского Союза не может быть не признано этапом отсталости, бесчеловечного произвола и бюрократизма, то пытаюсь, преодолев стену времени, подать руку молодому человеку, который будет жить в то время, когда ретроспективный взгляд на нашу современность станет для более счастливого человечества лишь неприятным воспоминанием, отраженным в учебниках»157157
Sinkó E. Roman eines Romans: Tagebuch. Köln: Verlag Wissenschaft und Politik, 1962. S. 196—197 (15.07.1935).
[Закрыть].
Писатель Корней Чуковский с еще большей легкостью возвысил свои личные наблюдения до уровня истины социалистического реализма. Отдыхая на Кавказе, он посетил маленький городок: «Жарко, пыльно, много пыльного, много прекрасного – и чувствуется, что прекрасное надолго, что у прекрасного долгое будущее, а гнусное временно, на короткий срок. (То же чувство, которое во всем СССР). Прекрасны заводы Грознефти, которых не было еще в 1929 году, рабочий городок, река, русло которой отведено влево… А гнусны: пыль, дороговизна, азиатчина, презрение к человеческой личности.
В пространстве нескольких строк Чуковскому удалось превратить пыльную стройплощадку в эмблему совершенного социалистического общества, расположив ее в эсхатологической временнóй рамке коммунистической идеологии. Определенность, заданная этой временнóй перспективой, позволила ему провести различие между устойчивыми достижениями советского строя (техническим прогрессом, олицетворенным заводами; социалистическим государством благополучия, выражением которого служил рабочий городок; господством человека над природой, воплощаемым в повороте рек) и эфемерными отрицательными чертами: пылью, беспорядком и «презрением к человеческой личности», которое, возможно, относилось к наблюдениям о дурном обращении с рабочими на нефтяных заводах158158
Чуковский К. Дневник 1930—1969. С. 64 (04.07.1932).
[Закрыть].
В противоположность Чуковскому Аркадий Маньков осуждал соцреалистическую концепцию революционного времени как пропагандистскую уловку коммунистического режима. Прочитав рассказ Алексея Толстого, в котором изображалось будущее устройство индустриализованной советской страны, Маньков отмечал: «Прием тенденциозного и спекулятивного смешения времен – очередная увертка наших “социалистов”, направленная в сторону воздействия на сознание людей в целях овладения им. Таков генезис массы иллюзий, коренящихся в наши дни в головах людей». Но дневник Манькова демонстрирует и его постоянные страхи в уместности собственных сомнений в идеологической истине. Сделав критическую запись о падении уровня жизни, Маньков берет паузу: «А вдруг это все неверно, что я написал. Близоруко. Вдруг да это только внешняя сторона явлений, видимость, совершенно необходимая, так сказать, узаконенная историей, а за этой видимостью скрывается светлая и радужная сущность?!? А я проглядел эту сущность, ибо я ничтожная, близорукая тварь, способная только замарать истину, но не вскрыть ее?.. А может и в самом деле во мне сидит дряхленький, желтый черт, классовый враг, как пишут в газетах?? А может?.. А может?»159159
Личный архив Аркадия Манькова (07.04.1933). Этих и некоторых других самокритичных пассажей нет в опубликованной версии дневника Манькова. После беседы с человеком, отстаивавшим «правильность» советской власти, Маньков записывал в дневнике: «Мой близкий друг, мой неизменный спутник – всеотрицающий, ненавидящий, разрушающий дух. Это мой демон, наполняющий собой каждый кровеносный шарик, бегущий по моим жилам» (Маньков А. Дневники 30‐х гг. С. 95 (27.09.1933)).
[Закрыть]
Объяснение Маньковым своей критики официальной политики как голоса затаившегося внутри него классового врага разделяли и другие авторы дневников непролетарского и, стало быть, «классово чуждого» происхождения. Вера Инбер приходила к выводу, что ее «неумение сочетать личное с общественным» (в частности, неспособность примирить материнский долг с обязанностями советского писателя) было свидетельством «интеллигентского корня», который «еще не выдернут». Вера Павлова приписывала свои сомнения по поводу того, является ли свобода осознанной необходимостью, как гласило официальное советское определение, «“гнилой” интеллигентности», все еще мешающей ее сознанию. Степан Подлубный сводил свои «реакционные» мысли к неспособности искоренить кулацкую сущность и даже выявлял аналогичные установки у ряда своих знакомых, также имевших классово чуждое происхождение. Наконец, Николай Журавлев, который был сыном помещика, связывал упорно сохранявшуюся засоренность своего сознания с тем, что им, к несчастью, «16 лет прожито при царизме, при этом под крылышком папаши-помещика. “Тяжелая наследственность”, хочется сказать на языке врачей-психиатров». Подвергая сомнению рациональность и непротиворечивость советской идеологии, эти авторы ставили под сомнение и советскую сущность своих собственных Я. Мысли, которые не могли быть включены в рациональное советское мировоззрение, обладали потенциалом обратной трансформации их авторов в кулаков или помещиков. В ходе ведения дневника авторы превращались в социальных выразителей своих тайных настроений.
Чтобы избежать итоговых последствий такой логики, некоторые авторы дневников как бы раздваивались на различные голоса – советский и антисоветский – и утверждали, что критический голос выражает не все их Я, а только голос врага, сидящего у них внутри. Параллельно показательным процессам, проводившимся режимом приблизительно в то же самое время, советские граждане, таким образом, пользовались дневниками для того, чтобы подвергнуть суду самих себя и разоблачить внутреннего врага и тем самым восстановить чистоту и цельность своего советского Я. Мастером использования этого приема был этнограф Владимир Бирюков. Он никогда не доходил до уровня интроспекции и отчаянного самокопания, отличающего многие другие дневники, потому что изобрел другого человека, назвав его «обывателем» и вкладывая ему в уста мысли, критичные по отношению к советской политике. Затем он отвечал этому человеку, становясь на позиции сознательного советского гражданина: «Фейхтвангер пишет в своей книге “Москва 1937”, что якобы зиновьевско-каменевский процесс произвел в Европе неблагоприятное впечатление… Если бы обыватель сказал, дескать подсудимые – протестанты против установившегося режима, то выходит, что такими протестантами являются шпионы и провокаторы еще со времени николаевского режима… Ну и хороши протестанты!» Бирюков пользовался этим повествовательным приемом неоднократно, и можно лишь предположить, что позиция «обывателя» выражала мысли, которые занимали его самого, – иначе зачем бы он записывал их в дневник? Однако, отрекаясь от их авторства, Бирюков пытался избежать проблемы «смешения», которую приходилось решать другим критически настроенным авторам дневников160160
РГАЛИ. Ф. 1072. Оп. 4. Ед. хр. 4 (07.08.1933); ЦДНА. Ф. 336. Оп. 1. Ед. хр. 32 (29.01.1932); Ф. 30. Оп. 1. Ед. хр. 15 (31.10.1935); ГАКО. Ф. р-652. Оп. 1. Ед. хр. 2 (9.02.1936).
[Закрыть].
Стратегии разделения Я и отрезания от него «плохих», «испорченных» частей проливают новый свет на самоцензуру в сталинский период. Исследователи часто рассматривают самоцензуру, противопоставляя ее искренности. Они интерпретируют ее как проявление столь сильной боязни раскрыть субъективную истину другим, что эта истина полностью вытесняется. Но похоже, что авторы советских дневников цензурировали себя не столько для того, чтобы скрыть опасную истину от окружающих их людей, сколько для того, чтобы сохранить дорогую им истину о себе самих. Самоцензура, таким образом, действовала и как средство самосохранения. Молчание, сообщал в своем дневнике Эрвин Шинко, было в середине и конце 1930-х годов излюбленным способом публичного общения московских коммунистических функционеров. В другом контексте он распространял это утверждение и на себя: «Я скорее отрезал бы себе язык, чем сказал хотя бы одно слово, которое можно было бы истолковать в том смысле, что я нахожусь в “оппозиции” к той цели, единственным гарантом и защитником которой выступает сейчас Советский Союз»161161
Sinkó Е. Roman eines Romans. S. 138, 197 (20—21.06.1935; 15.07.1935). Другие случаи самоцензуры см.: ЦДНА. Ф. 30. Оп. 1. Ед. 16 (06.12.1937); РГАЕ. Ф. 525. Оп. 1. Ед. хр. 70 (18.09.1937); Луговская. Хочу жить! С. 8; Чуковский. Дневник 1930—1969. С. 3. Трудно в точности указать на другие случаи самоцензуры, помимо очевидных пробелов в дневниковом повествовании, свидетельством которых являются нарушение ежедневного ритма записей, вырванные страницы или подчистки. Сам по себе эллиптический стиль записей о чистках в достаточной мере не подтверждает нежелания высказываться, особенно если такой же стиль характерен и для записей предшествующих лет. Взять хотя бы дневник Всеволода Вишневского. Посмотрим также на следующую запись из дневника Галины Штанге: «2.03.1938. Сегодня начался процесс правого троцкистского блока. Писать о нем не буду, т. к. собираю газеты и в них все можно прочесть». Из нее не обязательно делать вывод, что Штанге боялась выражать свое подлинное отношение к процессу, учитывая то, что подобным же образом она высказывалась и в другой, более радостной обстановке: «6.12.1936. Вчера вечером была принята новая Сталинская Конституция. Не буду высказываться по этому поводу, – я чувствую то же, что и вся страна, то есть беспредельное восхищение». Похоже, обеими записями Штанге говорит, что советская печать или общественность гораздо лучше могут выразить ее субъективные чувства, чем она сама. Другую интерпретацию см. в: Garros V., Korenevskaya N., Lahusen T. (eds.). Intimacy and Terror. Р. XVII.
[Закрыть]. Нина Соболева прибегает к самоцензуре, чтобы пресечь мысли, грозящие выйти за рамки идейно выдержанного советского рассуждения. Соболева работала агитатором на Ленинградской фабрике игрушек, где в ее задачи входило разъяснение газетных заголовков «Правды» пожилым и малограмотным работницам. В феврале 1940 года она размышляла о напечатанном «Правдой» без комментариев выступлении Гитлера, в котором тот оправдывал войну с Британией и Францией, сравнивая соотношения территории и населения в этих странах с соответствующим соотношением в Германии. Если территория Британской империи, согласно Гитлеру, составляла около 40 млн кв. км при населении 46 млн человек, то территория Германского рейха составляла лишь 600 тыс. кв. км при населении 80 млн человек. Соболева признала рассуждения Гитлера разумными и добавила, что во всей Европе территории государств надо перераспределить в соответствии с демографическими нуждами. Она даже рекомендовала Советскому Союзу самому первым предложить часть своей территории Германии, учитывая колоссальный размер этой территории и общеизвестное нравственное превосходство советской власти. Ввиду недавно возникшей моды на воинствующий советский патриотизм Соболева сомневалась, что правительство СССР предпримет такой шаг, хотя прибавляла, что считает русскую традицию имперского расширения, которой обязана своими размерами советская страна, предосудительной. В этом месте Соболеву охватывали колебания: «Нет, лучше я на этом закончу, а то бог знает, куда меня эти мысли заведут. И вот ведь смешно – до тех пор, пока я газеты не читала, мне в основном все было понятно и никакие такие мысли мне в голову не приходили, а теперь с каждым днем для меня все больше непонятного обнаруживается»162162
АВМБР. Ф. Р-242 (02.02.1940).
[Закрыть].
Источником еретических мыслей Соболевой послужило не какое-то подпольное или эмигрантское издание, а «Правда» – официальный орган ЦК ВКП(б). Критическое мнение о сталинской России не обязательно зависело от воздействия альтернативных источников информации, недоступных в тоталитарном государстве. Соболеву подтолкнуло к ереси буквальное сравнение советской политики 1940 года с революционной программой 1917-го. Еще удивительнее то, что Соболевой двигала не какая-либо собственная политическая программа или желание разоблачить режим. Наоборот, она стремилась понять коммунистическую идеологию, поверить в нее и разъяснить эту идеологию своим малограмотным слушательницам, а в ходе подготовки к выполнению этой задачи посещала курсы агитаторов, на которых ее научили вдумчиво читать «Правду»163163
Там же (13.11.1940).
[Закрыть]. Подлинная причина ее ереси была связана с поставленной перед ней задачей понимать советскую идеологию и всецело овладевать ею, чтобы быть способной разъяснять эту идеологию другим.
Описанное событие было не единичным: читая газету, Нина постоянно обращала внимание на несоответствия и противоречия, которые не могла для себя разрешить. За помощью она обращалась к отцу, крупному коммунистическому руководителю. Он журил ее за детские рассуждения и рассказывал об «интересах советского государства», делавших необходимыми все те политические повороты, которых она не могла понять. Не вполне убежденная, Нина приступала к чтению каждого следующего номера газеты со все большим страхом: «Каждый день, открывая свежий номер “Правды”, я с опаской изучаю заголовки». Она отказалась от попыток понять и объяснить советскую политику на страницах своего дневника. И с облегчением заметила, что работницы не требуют объяснения читаемых ею политических текстов: «В конце концов, это хорошо, что они больше не задают вопросы. Все молчаливо выслушивают, благодарят и уходят». Однако когда она предложила читать другую литературу – сказки и рассказы, – женщины были «готовы слушать часами, несмотря на то, что у всех у них есть дети и семьи»164164
АВМБР. Ф. Р-242 (02.07.1940; 12.10.1940; 12.12.1940).
[Закрыть].
Другие дневники также показывают, что еретические мысли низвергали их авторов с высот идеологического всезнания в бездну сомнений, которые могли привести даже к психическому заболеванию. В 1939 году Ольга Берггольц описывала, как трудно ей сохранить прежнюю идеологическую стойкость после полугодового пребывания в тюрьме по подозрению в том, что она является врагом народа. До ареста ее мысли отличались «ясностью» и образовывали «стройную систему». Но ее коммунистическое Я в тюрьме было запачкано и поколеблено: «Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули ее обратно и говорят: “живи”». Она писала о том, что чувствует себя отравленной ядом сомнений, возникших в результате испытанной в тюрьме несправедливости и бесчеловечности. Особенно беспокоило ее, как она продолжит оставаться советской писательницей, если ее коммунистические убеждения разрушены: «Как же я буду писать роман о нашем поколении, роман о субъекте эпохи, о субъекте его сознания, когда это сознание после тюрьмы потерпело такие погромы, вышло из дотюремного равновесия?» Несколько месяцев спустя Берггольц вернулась к той же теме и на сей раз заподозрила у себя психическое заболевание: «Лечиться, что ли? Ведь скоро шесть месяцев, как я на воле, а нет дня, чтобы я не думала о тюрьме… Да нет, это психоз, это, наверное, самая настоящая болезнь». Но она упоминала и о том, что, находясь в тюрьме, читала стихи о Сталине, и слушатели благодарили ее и были тронуты до слез. Оды Сталину имели тот же рационализирующий эффект, что и дневник – и то и другое использовалось для того, чтобы побороть начинающееся заболевание личности и восстановить ясность и стройность ее рационалистического мировоззрения165165
Безумство преданности: Из дневников Ольги Берггольц // Время и мы. 1980. № 57. С. 277—287 (14.12.1939; 23.12.1939; 25.12.1939). См. также дневники Алексея Кириллова, Ивана Литвинова и Александра Соловьева: Кириллов А. В середине тридцатых; Литвинов И.И. Дневник // Неизвестная Россия. ХХ век. 1992. № 4. С. 81—139; Соловьев А.Г. Дневник красного профессора (1912—1940) // Там же. С. 140—228.
[Закрыть].
Чрезвычайно распространены в дневниках 1930-х годов были метафоры загрязнения и отравления. Подлубный уподоблял свой дневник «помойной яме, куда [он] выплескивает помои, скопляющиеся в… голове». Маньков называл его скопищем «самых грязных и отвратительных мыслей». Пятницкая осуждала собственную веру в невиновность мужа как «ужасную», «ядовитую» и «вредную». Равно коммунисты и некоммунисты писали о своей неспособности подняться на требуемый идейный уровень как о симптоме тяжелого заболевания – «болезни воли», «паралича», «отравления». Маньков сравнивал свое навязчивое стремление критиковать сталинскую политику с онанизмом и бранил себя за эту болезнь, способствующую лишь развитию инстинктов индивидуализма и нарциссизма, но полностью лишенную общественной полезности. Шинко сожалел, что не принадлежит к «большому сражающемуся сообществу», а стало быть, не добьется «спасения»: «Я просто не могу достичь ничего подобного… Сознание этого сковывает мои действия». Нина Луговская, делая записи в дневнике, колебалась между резким осуждением советской системы, включая замысел убийства Сталина, и приступами «пессимизма» и «безнадежности», особенно острыми в революционные праздники, когда она слушала трансляцию парадов по радио и ощущала «болезненную» отделенность от «окружающей жизни». В 14 лет она отметила, что чувствует себя «старой, потерявшей надежду и отчаявшейся… Вся моя жизнь пройдет в этом безнадежном пессимизме». Отрицательные чувства заставляли ее вспомнить персонажей Чехова – «неудачников, недовольных жизнью», но неспособных что-либо в ней изменить. Кроме того, Нина писала, что для того, чтобы жить по-настоящему, ей требуется коллектив единомышленников, испытывающих сходные эмоции. Но она не могла найти их ни среди соучеников, среди которых подозревала наличие сексотов, ни среди сестер, которые не разделяли ее увлечения политикой. Неоднократно она писала о желании наложить на себя руки – по примеру одного из чеховских персонажей, совершившего самоубийство. Ее арестовали в 1937 году и приговорили к пяти годам принудительных работ166166
Подлубный С.: ЦДНА. Ф. 30. Оп. 1. Ед. хр. 12 (23.01.1933). Личный архив Аркадия Манькова (12.06.1933; 5.12.1933); Sinkó. Roman eines Romans (31.08.1935); Луговская Н. Хочу жить (05.09.1933; 22.09.1933; 08.11.1933; 09.11.1933; 18.03.1934; 10.02.1935; 11.06.1936).
[Закрыть].
Изображая революционных субъектов в кризисном состоянии, дневники также выступали катализаторами восстановления духовного здоровья, чистоты и ясности ума у их авторов. Само представление о микробах, отравляющих веществах и грязи, оказавшихся в душах авторов дневников, предполагало возможность и даже необходимость целебного или очистительного вмешательства. Оказавшись отвергнутой обществом, Юлия Пятницкая писала: «Никогда не забывать, и дети мои никогда не забудут, как нужно зорко следить, как нужно беречь в чистоте свои мысли и свой язык, и как коротка жизнь человечья. Каждая жизнь должна дать что-нибудь своим, ближним по духу. Каждая жизнь должна дать сколько-нибудь от того, что она возьмет от общества». Дневник Пятницкой в тот период был полон упоминаний о чистоте и очищении. В записях, как будто бы не связанных с признанием смятенного состояния своей души, она описывала уборку квартиры, стирку, глажку белых брюк сына или прием ванны. Казалось, что Пятницкую охватило навязчивое стремление к чистоте, но ни одно из перечисленных действий не могло восстановить чистоты ее сознания. Кроме того, она сообщала, что ее сын после ареста отца больше не ходит в школу. Он выходит из квартиры только после наступления темноты и целыми днями сидит дома, тоже навязчиво занимаясь стиркой и глажкой167167
Голгофа. С. 32—33, 46—48 (18.07.1937; 20.07.1937; 01.03.1938; 13.03.1938).
[Закрыть].
Авторы дневников надеялись, что «очищение» от грязных и нездоровых мыслей в дневнике позволит им стать чище и здоровее, освободит от сомнений, восстановит силу воли и ясность мыслей. Естественно, работа по очищению, которой предавались в дневниках их авторы, имела смысл только в условиях нечистоты. Процесс самоконституирования как идеального, абсолютно прозрачного советского человека по определению зависел от наличия загрязнений, от которых следовало избавиться, поскольку преодоление таких загрязнений, понимаемых как душевные слабости, выступало средством последовательного укрепления воли. Так авторы дневников выявляли все новые загрязнения, от которых было необходимо избавиться, и все новые признаки разложения, которое было необходимо нейтрализовать. В этом смысле дневники можно рассматривать как средство увеличения собственной прозрачности168168
Кит Бейкер говорит о «транспаризации» как о новом политическом стиле, созданном Французской революцией: Baker K. A Foucauldian French Revolution // Foucault and the Writing of History. Р. 187—205.
[Закрыть]. Пятницкая описывала этот механизм, указывая в дневнике на то, что «все, что меня мучает, все мои тяжкие мысли, когда они появляются порой, потом уходят – после некоторой работы над собой». Она также жаловалась на то, что отсутствие мужа лишило ее «исповедника», к которому можно было обратиться, чтобы избавиться от душевных слабостей: «Все, все я ему говорила, хотя и огорчала порой, и размолвки у нас были, но на душе было ясно, чувствовала себя честным человеком. Перед Пятницким ничего не скрывала». Теперь же единственным средством спасения остался для нее дневник: «И захочется выбалтывать на бумаге – уже привыкла, да и Пятницкого нет»169169
Голгофа. С. 97, 103 (25.05.1938; 28.05.1938). Художник-авангардист Густав Клуцис тоже был «исповедником» для своей жены Валентины Кулагиной, отрывки из дневника которой опубликованы в книге: Tupitsyn M. Gustav Klutsis and Valentina Kulagina: Photography and Montage after Constructivism. New York: International Center of Photography, 2004, особенно Р. 196—197 (14.04.1930; 27.04.1930). Гендерные отношения могли быть и противоположными. Коммунистка Мильда Драуле давала советы мужу, Леониду Николаеву, после того как его исключили из партии, но ее наставления не помешали ему через несколько месяцев убить Сергея Кирова. См.: Петухов Н., Хомчик В. Дело о «Ленинградском центре» // Вестник Верховного Суда СССР. 1991. № 5—6. С. 18; Кирилина А. Неизвестный Киров. С. 253—254.
[Закрыть].
Стремясь стать абсолютно откровенными, авторы дневников подчеркивали, насколько они искренни, обнажая души и высказывая самые сокровенные мысли. Размышляя в дневнике о написанном ею автобиографическом романе, Вера Инбер замечала: «Пусть увидят, как устроен писатель. Без всяких секретов». Вишневский писал в 1939 году: «Последнее десятилетие было в огромном напряжении, трата сил неимоверная, взлеты, падения, драмы, страсти… Все это неумолимо отражается на душе, на нервах и на сердце… Не хотелось бы писать об этом, но “объективная” действительность требует». По сути дела, советские нарративы об обнажении души зависели от модуса искренности, как становится ясно из фрагмента, в котором Ольга Берггольц жаловалась на то, что ее дневник был опорочен государственным прокурором, который использовал его как основание для ее обвинения: «Сам комиссар Гоглидзе искал за словами о Кирове, полными скорби и любви к Родине и Кирову, обоснований для обвинения меня в терроре. О, падло, падло. А крючки, вопросы и подчеркивания в дневниках, которые сделал следователь? На самых высоких, самых горьких страницах!» Берггольц была возмущена тем, что дневник, в котором она была совершенно искренна, мог быть использован для такого несправедливого анализа ее души. Эти переживания заставили ее дополнительно подчеркнуть собственные убеждения в дневнике и отказаться от всякой неоднозначности, чтобы избегнуть повторного непонимания: «И вот эти измученные, загаженные дневники лежат у меня в столе. И что бы я ни писала теперь, так и кажется мне – вот это будет подчеркнуто тем же красным карандашом, со специальной целью – очернить, очернить и законопатить – и я спешу приписать что-нибудь объяснительное – “для следователя” – или руки опускаешь и молчишь, не предашь бумаге самое наболевшее, самое неясное для себя… О, позор, позор, позор! <…> Нет! Не думать об этом! Но большей несвободы еще не было…»170170
Инбер В. РГАЛИ. Ф. 1072. Оп. 4. Ед. хр. 4 (29.01.1933; 11.01.1934); Вишневский В. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 6 (дополнительный). С. 370; Безумство преданности. Из дневников Ольги Берггольц // Время и мы. 1980. Т. 57. С. 282 (01.03.1940).
[Закрыть]
Хуже всего, с точки зрения Берггольц, было то, что она уже не могла высказывать свои сомнения и страхи для того, чтобы упорядочить их и включить в рациональную схему, то есть использовать дневник как средство очищения. Она боялась, что если продолжит так поступать, то НКВД вырвет эти утверждения из контекста и истолкует их как выражение всей целостности ее Я. Ее страхи имели основание: в условиях «большой чистки» выражения сомнения были равносильны опасным контрреволюционным действиям. Более того, даже выражение лояльности человека, подозреваемого в контрреволюции, вызывали недоверие: чем большей лояльностью отличались эти выражения, тем с большей вероятностью мог враг с их помощью притвориться честным советским гражданином. Изучая дневник Берггольц, где она выражает скорбь по Кирову, комиссар Гоглидзе имел перед глазами очевидный прецедент: на московском показательном процессе в январе 1937 года государственный обвинитель Андрей Вышинский разоблачал лицемерие обвиняемого Георгия Пятакова, который еще в 1934 году прилюдно рыдал над трупом Сергея Кирова, убийство которого, по утверждению Вышинского, он сам и спровоцировал. Утверждая, что Пятаков скрывал контрреволюционную сущность под советской внешностью, Вышинский изображал его человеком, который, глядя в зеркало, восторгается своей способностью притворяться171171
Процесс антисоветского троцкистского центра (23—30 января 1937 года). М.: НКЮ Союза ССР, Юридическое издательство, 1937.
[Закрыть]. Читая дневник Берггольц в свете диагноза Вышинского, прокурор не мог не истолковать ее декларируемую любовь к Кирову как обманный прием, контрреволюционный жест самой подлой разновидности.
Не будучи в состоянии восстановить чистоту своего сознания, авторы некоторых дневников жаждали помощи от самого НКВД. Они считали сталинскую тайную полицию нравственным авторитетом, способным как понять их, так и вылечить их болезни. Подлубный предполагал, что НКВД исправит его мысли и сделает его образцовым гражданином социалистической страны. Вместо этого тайная полиция продолжала напоминать ему о кулацком происхождении и препятствовать его превращению в нового человека: «Ужасно, ужасно, что получается, вместо излечения они меня калечат». Пятницкая выражала надежду, что НКВД позаботится о ее превращении в полноценного социалистического гражданина: «Я честно прошу помощи человеческой у НКВД, я прошу суровой для меня жизни, но это все же была бы жизнь (борьба, работа и безусловный рост человеческого, а следовательно, и гражданского духа)». Она хотела высказать все свои «хорошие мысли» лично наркому внутренних дел Николаю Ежову. В конечном счете, она надеялась, что НКВД или сам Ежов примут на себя роль «исповедника», которую прежде исполнял ее муж: «Единственно, чего бы мне хотелось, – это доверия со стороны просто трудящихся, когда я начну работать, и доверие НКВД. Такое доверие, чтобы все, что меня мучает, все мои тяжкие мысли, когда они появляются порой, потом уходят – после некоторой работы над собой, чтобы обо всем я могла говорить с кем-нибудь из НКВД. Я бы получила то, что я имела при Пятницком». Пятницкая также подчеркивала, что она никогда и не думала скрывать что-либо от НКВД: «Но я ведь от НКВД ничего и не думаю скрывать – это у меня принцип». В другом месте она отмечала, что готова решиться на откровенность «…разве только с кем-либо из НКВД. Несмотря ни на что, они ближе». Подлубный тоже приветствовал встречи с НКВД как редкие моменты полной откровенности и освобождения: «Как-то очищаешь душу от каких-то помой. Ве[дь] говоришь искренно, правдиво, в то время, когда вся жизнь в другом месте ложь». Для Подлубного и для других как дневники, так и НКВД играли роль агентов прозрачности172172
Голгофа. С. 61, 75, 97, 103 (13.03.1938; 22.03.1938; 25.05.1938; 28.05.1938); ЦДНА. Ф. 30. Оп. 1. Ед. хр. 13 (26.10.1934), 15 (05.01.1935).
[Закрыть].
Если некоторые авторы дневников пережили сталинские чистки как успешную проверку их силы воли, став после них сильнее, моложе и чище, то другим это не удалось. После неоднократных попыток очиститься от неподобающих мыслей и вновь получить пропуск в советское общество Пятницкая, похоже, постепенно осознала, что ее борьба напрасна: «Ведь были же месяцы, когда голова моя была ясной. Я умела себя держать в руках, я пыталась бороться за свою жизнь, у меня не было конфликтов с Советской властью. Но что-то новое случилось: или я больная, или меня нужно изолировать от своих граждан. В газетах я вижу много отвратительного, во двор посмотрю – тоже все переворачивает…» Если она была «больна», то все же могла надеяться на излечение, хотя теперь, когда у нее не было целителя, к которому можно было бы обратиться, – ни Пятницкого, который был ее «исповедником» до ареста, ни НКВД, который не принял эту роль на себя, – излечение становилось затруднительным. В то же самое время Пятницкая находила все больше доказательств, в том числе на страницах собственного дневника, что она неисправимая контрреволюционерка. Это означало, что не только часть ее души, но и все Я заражено неизлечимым злом. Единственный выход из такого положения заключался в том, чтобы изолировать себя от остального советского общества, чтобы не заражать здоровый социальный организм. Пятницкая даже пошла к государственному обвинителю и «заявила [ему] о своем настроении и мыслях, при которых мне бы надлежало быть изолированной от общества. Я заявила ему, что я сама себя изолировала на все это время – уже 9 месяцев, но что меня целесообразно изъять вполне официально». Уже в том же 1938 году она была арестована и отправлена в Казахстан, в исправительно-трудовой лагерь, где работала экономистом. Ее сын Игорь отбывал наказание в той же системе лагерей, и в последний раз они виделись в 1939 году. Судьба Юлии окончательно определилась после того, как она отвергла сексуальные домогательства начальника лагеря. Он отправил ее на тяжелые работы на строительстве плотины. Осенью 1940 года солагерники отвернулись от нее, слишком слабой и больной для того, чтобы продолжать работать, и оставили умирать в загоне для овец. Продолжавшаяся всю ее жизнь борьба за то, чтобы включиться в трудовой коллектив и способствовать строительству светлого будущего, завершилась для Юлии Пятницкой полной изоляцией от общества и от людей173173
Голгофа. С. 75, 101—103 (22.03.1938; 28.05.1938); о заключении и смерти Пятницкой см. с. 114—116.
[Закрыть].
***
Самоопределение в сталинскую эпоху – вопрос о личной идентичности, силе и слабости, душевном здоровье или безумии – было глубоко и неразрывно связано со способностью внутренне усвоить идеологию. Борясь за восстановление своих идейных убеждений, авторы дневников тем самым боролись за восстановление собственного Я. Во многих случаях такая борьба происходила в условиях тирании рациональности, вынуждавшей пресекать, вытеснять или перерабатывать мысли, препятствовавшие созданию полностью рационального мировоззрения. В отличие от употребления этого термина в современной психологии, «рационализация» в то время означала не попытку неустойчивой и слабой личности закрыть глаза на неудобную правду с помощью рациональных рассуждений. Наоборот, рационализация была важна для советских граждан, которые, как предполагалось, верят в научные законы развития и в разумность своего существования. Таким образом, от советских граждан постоянно требовалось рационализировать свои ежедневные наблюдения, приводить их в соответствие с постулатами идеологии. Чем в большей степени их наблюдения отклонялись от требуемой точки зрения, тем с большей энергией они должны были бороться за то, чтобы вновь вернуть их в нормативную сетку. Таким образом, способность рационализировать то или иное явление была признаком психологической силы. Рационализация порождала силу воли и решимость, возвращала молодость. Напротив, лица, которым не удавалось рационализировать свои наблюдения, которые погружались в поток хаотических или критических мыслей, считались слабовольными, психически невыдержанными и в конечном счете обреченными.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































