Читать книгу "Mittelreich"
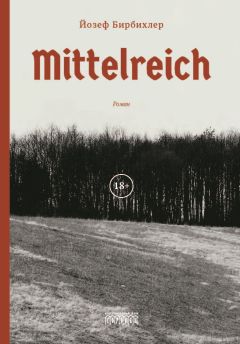
Автор книги: Йозеф Бирбихлер
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Виктор молча сидел перед хозяином, который пытался добиться понимания и активно жестикулировал для большей выразительности. Лицо Виктора пылало. Постепенно он успокоился, краска сошла с лица, он будто еще раз услышал сказанные слова. «Откуда это взялось? – подумал он. – О чем я говорил? Такого со мной еще не было!» Он вспомнил лазарет и то, как боролся за ногу. «Нет. Всё же один раз было». Тишина давала ему силы.
Виктору было чертовски неуютно, когда на него выплескивали эмоции. Он ерзал на стуле и исподлобья посматривал по сторонам.
– Не хочу судить, – наконец осторожно произнес он, – когда речь о религии – а вы говорите о религии, если я правильно понял, – каждый спасает душу по-своему. Так меня учила мать. В собственности я ничего не понимаю, тут вы правы. Я работал в банке перед тем, как меня призвали на фронт. Через меня проходило много денег, которые мне не принадлежали. Чтобы в голову не лезли дурные мысли, лучше вообще не думать. Считаешь, бывало, деньги, пропасть денег за день, автоматически, ничего не чувствуешь. А о равенстве и справедливости лучше вообще забыть. Иначе тронешься. И кто сказал, что собственник не попадет в Царствие Небесное? Он попадет туда таким же голым, как и нищий. Ему придется начинать сначала, а нищему нет. Вот, думаю, и вся разница, когда протянешь ноги.
Виктор умолк. Допил пиво и собрался уходить.
Панкрац левой рукой взял у Виктора пустую кружку, а правой усадил его на деревянную скамью.
– Выпейте еще, господин Хануш, – предложил он, – чтобы не захромать.
Панкрац отправился за стойку к бочке и наполнил кружку.
– Я немного разволновался, – сказал он, – не берите в голову. Всего лишь хотел предложить вам работу. Может, вы предпочтете работать в тепле, на кухне, и готовить картофель, а не выращивать его на улице в любую погоду. Мне нужен умный и отзывчивый человек.
И он поставил на стол вторую кружку пива.
Наконец-то Виктор понял, откуда дует тепленький ветер. Вот оно что! Как же он сразу не догадался!
– Я не из тех, кто бросает место, которое получил всего пару дней назад, – сказал он, сделав большой глоток, – но как раз сегодня хозяин сильно оскорбил меня, и я задумался, стоит ли это терпеть.
– Вот как? Что же произошло?
– Ну, когда он, в смысле Егер, сегодня утром – в свободный день! – выдернул меня из комнатушки, поручив принести с грядки красную капусту, которую вы заказали, я еще не совсем проснулся, споткнулся о лопату, забытую кем-то в огороде, и наступил на грядку с петрушкой. Сломал два кустика, не больше. И тут он стал орать и ругаться, обозвал меня придурковатым беженцем и славянским чурбаном, по сравнению с которым даже еврей сверхчеловек, да еще швырнул мне в спину деревянный ящик для капусты. Про евреев пусть говорит что хочет, но меня не трогает. И какой я славянин? Пусть этот сукин сын не сидит дома, а съездит куда-нибудь – может, узнает, кто славянин, а кто нет.
Теперь уже Панкрац молча сидел перед жестикулировавшим, побагровевшим от злости Виктором.
– Не знаю, что делать, – продолжал тот. – Без работы я не смогу содержать жену и дочь. Но смогу ли вернуться к Егеру? Тоже не знаю.
Он одним глотком выпил полкружки темного пива.
– Понимаете, – снова заговорил Виктор, все больше волнуясь, – последние годы были непростыми, я пережил такое, что этой дубине и не снилось…
– Рассказывайте, рассказывайте, – бесцеремонно перебил его Панкрац, вставая, – я принесу еще пива, – и взял кружки тремя пальцами. – Мне из-за стойки слышно. – Он уже в третий раз ушел за стойку с пустой посудой. – Рассказывайте! Я внимательно слушаю.
– Да что говорить, – ответил Виктор слегка неуверенно, отчего его волнение стало уже не таким бурным. – В феврале сорок пятого пришли русские. Мы жили в домишке на окраине Каттовица. Дочери в январе как раз исполнилось семнадцать. Мы были небогаты, но денег хватало, не нуждались. И тут пришли русские. Мы долго не раздумывали, остаться или податься на запад. Дочери было семнадцать! Вот и весь ответ. Мы представляли, что с ней могут сделать русские, слухов ходило предостаточно. Мы собрали, что могли унести, и вместе с другими отправились на запад. Меня призвали осенью сорокового, мне было почти тридцать девять. Мне повезло: будучи банковским служащим, первые годы я сидел в канцелярии и только под конец пришлось защищать Бреслау. В начале февраля сорок пятого я смылся. Уже была возможность. Все они, и нацисты тоже, так наложили в штаны, испугавшись русских, что никто не следил, организованно ты отступаешь или делаешь ноги. Я удрал. Дезертировал. Не потому что трус. Нет. Быть пушечным мясом не хотелось. У меня семья. Защищать Германию? Уже нечего было защищать. Так что тогда? Через три месяца мы были в Мюнхене. Везде толпы людей. Сплошь с востока. Если не видел сам, невозможно представить, сколько их было. И повсюду лица местных. Тогда я понял, какие бывают глаза у убийц. До этого, на войне, где разрешалось убивать, взгляды были другие. Взгляды становились тупыми, убивать разрешалось. Но тут приходилось разбираться с совестью. Если разрешено убивать, ты чувствуешь не скованность, а свободу. Однако совесть гложет. Поэтому взгляд и тупеет. Но тут они испугались за свои денежки. А убивать нас им уже не разрешали. Хотя они ненавидели нас так же, как до этого евреев или русских. По глазам все было видно, могу вам сказать. По глазам видно, что эти люди творили раньше и что хотели бы творить снова. От Берлина до Нюрнберга и Мюнхена все устремились в деревни. Сплошь беженцы с востока. Повсюду эти глаза. Что касается городов… От них ничего не осталось. Выбора не было. Пришлось искать счастья в деревне. Так я и осел у Егера.
Панкрац уже какое-то время назад вернулся за стол с пивом, и Виктор сделал еще один большой глоток. Он немного устал и почувствовал облегчение.
– Да, Егер бывает порой вспыльчив, – сказал Панкрац, – всем известно. Любит, так сказать, помахать шпагой, его тут некоторые зовут Егерь со шпагой. Если хотите, я с ним поговорю, и вы перейдете работать ко мне. Но только если вас это устраивает.
Виктора все устраивало, и Панкрац уладил с Егером. Тот, правда, впал в ярость и обвинил Панкраца, что тот самым бессовестным образом переманивает у него предоставленных оккупационными властями работников, накачивая их пивом и рассказывая пьяным рожам вещи, которые граничат с клеветой. Как, спрашивается, Панкрац вообще себе такое позволил – идти против оккупационных властей! (Виктор, предвкушая триумф над кляузником Егером и замаячившее новое место, не стал сдерживаться и выплеснул все, что ему рассказывал Панкрац, и про Егеря со шпагой, и про все остальное, и прибавил еще от себя…)
Панкрацу удалось с помощью тонких намеков на эмоции Егера и положение в его хозяйстве обезоружить того и окончательно успокоить несколькими тысячными купюрами пока еще действительной, но все сильнее падающей старой валюты, доставая из кармана тысячу за тысячей, пока Егер с тяжелым вздохом не умолк и не сгреб деньги. После этого все уладилось. Вопрос с оккупационными властями Панкрац тоже решил, официально оформив переход Виктора от Егера в усадьбу на озере; тем все и завершилось.
Виктор прожил в усадьбе до самой смерти. С женой и дочерью он вскоре разъехался и вступил в тщательно скрываемые отношения с некой немолодой богатой дамой.
☨
– У нас мальчик! – прокричала Старая Мара в начале октября 1946 года вниз со второго этажа, где в угловой комнате с окнами на озеро только что разрешилась от бремени молодая хозяйка усадьбы. Громкий крик услышали все в доме, и стало понятно, что старые времена закончились.
– Девочка! – крикнула она спустя год с лишним в ноябре 1947-го в половине седьмого вечера, заглянув в коровник, где работники заканчивали дела. Молодой Фехнер, который с отцом и братом бросил хозяйство в Силезии и как беженец работал в усадьбе на озере, едва мог поверить: молодая хозяйка и не совсем молодая мать всего два часа назад подавала ему в кухне солодовый кофе и полдник, чем он будет хвастаться еще много лет при каждой возможности, всегда в неподходящее время и в неподходящем месте, – девочка в придачу к мальчику, и так скоро! Доброе предзнаменование. Когда в разгар рождественского поста опять раздался крик Мары «Снова девочка!», никто уже не сомневался, дела шли в гору семимильными шагами. Еще одна девочка! Конечно, мальчик – хорошо, даже лучше, работы много. Но ребенок появился на свет прямо перед Рождеством! Какое счастье!
И как раз в это время возникло новое государство, нового Адольфа звали Конрадом, а новая марка набирала вес день ото дня.
Спустя две недели после рождения второй дочери, за три дня до Рождества, в девять утра за Панкрацем заехал фронтовой товарищ Кранц из Мюнхена на синем мерседесе. Дома хозяин не ночевал, и на следующее утро Виктор заметил, что сестры хозяина несколько взволнованы. С почты позвонили жене Кранца с целью убедиться, что всё в порядке, и только молодая хозяйка совершенно не тревожилась, потому что единственная была посвящена в тайну. Именно это спокойствие вызвало со стороны обеих золовок упреки в равнодушии вопреки наложенной таинством брака обязанности беспокоиться о муже.
– Ведешь себя так, будто тебе все равно, если с ним что-то случилось, – исходила ядом Филомена.
– Ты просто завидуешь, – ответила молодая мать и приложила новорожденную дочку к обнаженной груди.
Это вызвало новый взрыв возмущения у золовок, которые потребовали, чтобы она была так любезна не заниматься на кухне этим бесстыдством: в любой момент может войти посторонний.
– Этим положено заниматься в спальне с опущенными шторами, – у Голубки началась легкая истерика, – у нас приличный дом.
Виктор, который мыл в темном коридоре резиновые сапоги в раковине, слышал эти нападки на материнскую природу. В послевоенном гареме мужа молодой матери было не так просто добиться расположения. Враждебность и зависть членов семьи часто служили приправой к морали и нравам, предписываемым браком. Женщина выходила замуж еще и за родню мужа. Семейное счастье нужно было завоевать, а потом защищать. Первые годы молодой матери нелегко было свыкнуться с высокомерием, с которым в доме, претендующем на благородство, относились к ее крестьянскому происхождению. Она, как ей было приказано, вернулась в супружескую спальню и поплакала. Она кормила дочку и ждала возвращения мужа, мысленно осыпая его упреками за то, что именно сейчас он оставил ее с тремя маленькими детьми в доме, где живут его сестры. Даже Старая Мара, которая красноречивым взглядом часто поддерживала ее в борьбе за женскую власть в доме, не могла помочь, в таких щекотливых вопросах она тоже придерживалась строгих правил, предписываемых целомудрием и религиозностью. Мара выросла в крестьянской семье и была не замужем – первое роднило ее с Терезой, второе – с золовками.
Виктор, человек городской, будучи свидетелем, разрывался между этими полюсами. Инстинкт приспособленца подсказывал, что пока первенство в борьбе будут удерживать сестры. Он видел, что хозяин дома не осмеливается решительно выступить против упрямых и высокомерных сестер и встать на защиту жены и матери своих детей. На это Виктор и пытался ориентироваться. Он был только помощником по хозяйству, а не стороной в спорах. Безусловно, сварливость старых дев нравилась ему меньше, чем свежесть и непосредственность сохранившей в сорок лет молодость женщины, чье тело благодаря позднему материнству снова расцвело и радовало глаз чувственными формами. Однако он вел себя сдержанно и не позволял себе принять чью-либо сторону.
На следующий день, в канун сочельника, около четырех часов пополудни хозяин вернулся из города. Синий мерседес Кранца остановился перед садовой калиткой. Оба вышли из машины, осмотрелись, открыли дверцу со стороны дома, вытащили с заднего сиденья завернутую в шерстяное одеяло картонную коробку размером восемьдесят сантиметров на метр, понесли ее в дом и скрылись в просторной кладовой. Через несколько минут они вышли уже без коробки. Панкрац, дважды повернув в замке ключ и спрятав его в карман, пригласил товарища в хорошо натопленный трактир.
Пока Кранц, которого сестры хозяина развлекали беседой, угощался кофе, Панкрац забил карпа весом три фунта и упаковал в серо-коричневую бумагу. Когда Кранц собрался уезжать, Панкрац положил сверток на переднее сиденье, сопроводив действие словами:
– В знак признательности за верную дружбу и готовность всегда прийти на помощь.
Ни в усадьбе на озере, ни во всем Зеедорфе на исходе 1949 года еще не было самоходных экипажей. Передав приветы супругам и условившись навестить друг друга в праздники, друзья распрощались. Опустилась холодная ночь. Наступило Рождество.
☨
На следующий день с раннего утра в натопленной гостиной под иконами установили елку. Голубка наряжала ее пять часов. Работники в амбаре складывали сено, Виктор на тележке с ручным управлением перевозил наколотые дрова из сарая в кухню, а Герта командовала двумя служанками и их ученицей, заставляя всех троих носиться между кладовой и печью. Там все жарилось и парилось, бурлило и шкворчало. На втором этаже принимали ванну. В доме остановился властитель Баварии кронпринц Константин, наследник больше не существующего королевского дома, с одной из постоянно меняющихся «кузин». Он-то и получил право первого купания. Княжескую комнату заранее топили уже три дня, Виктор переносил наверх по лестницам гору буковых дров. Королевским высочествам должно быть как можно теплее. Чердак над княжеской комнатой выстелили слоями соломы, потому что от холода комнаты третьего этажа защищал лишь тонкий пол без всякой изоляции, в них жили только летом. В углу у печки стоял умывальник с полным кувшином воды. Накануне полотенца еще раз прокипятили в мыльном растворе и высушили у кухонной печи; они, сияя белизной и благоухая хозяйственным мылом, висели на латунном держателе под зеркалом в позолоченной деревянной раме. В большой вазе у балконной двери торчал букет колючника.
– Пустим его королевское высочество с кузиной в этом году на рождественское жаркое, – сказал Панкрац после обеда. В глазах его светилось лукавство – а может, что-то еще?
– Прекрати говорить глупости! – рявкнула Филомена, но Панкрац совершенно не испугался строгости сестры и продолжал невозмутимо и странно ухмыляться. Тереза смущенно опустила голову, хотя напряжение между Панкрацем и его сестрами радовало ее. Ей нравилось, когда муж злил сестер и они, воспитанные добропорядочными и высоконравственными, вынуждены были выкручиваться из неловкой ситуации. Это они-то, которые обычно так любили бахвалиться, намекая на ее происхождение. Она порой мечтала сбежать из этого ханжеского мира, где ее брак находился под строгим надзором, сбежать от этих драконих, которые с показным рвением пытались затмить свойственную ей простую крестьянскую манеру поведения кажущимся врожденным превосходством. Все это было лишь притворством. Ее муж, как червяк, изворачивался между недавно появившейся супругой и прочно укоренившимися в высокомерии обитателями родительского дома. По этой причине ей грела сердце неожиданная дерзость, с которой он нарушил мирное настроение сочельника.
– Ничего смешного, – тут же приглушенно зашипела вторая сестра. – В любую минуту кто-то из королевских особ может войти и услышать.
Виктор встал, пожелал приятного аппетита и вышел.
– Даже с людьми нашего круга подобные шутки неуместны. Тем более так не говорят об их королевских высочествах, – продолжила Филомена. – Если бы у нас по-прежнему была – как это называется – ну скажи же…
– Девственность, – весело хохотнул Панкрац.
– Неслыханно! – взвилась Филомена. – Нет, я о королевстве, ну как ее, боже мой, вертится же на языке – а, монархия! Сохранись монархия, принц Константин был бы нашим королем. Тогда бы ты себе такого не позволял. Я была бы обязана заявить на тебя! – выкрикнула она взволнованно и властно, и Тереза еще ниже опустила голову.
– А перед посторонними это тем более дурной тон! – гневно, как рассерженная наседка, заклокотала Герта. Панкрац шутовски скрестил запястья, изображая арест. Под «посторонними» она имела в виду ушедшего Виктора.
Тереза едва осмеливалась дышать, сердце стучало где-то у горла. Да что же это! Такая ссора в сочельник! А затеявший ее муж безо всякого стеснения улыбается и отвечает:
– Но сейчас-то у нас демократия.
– Нечего так ухмыляться! – набросилась на него Голубка. – Куда мы катимся? Хорошенькое у нас нынче Рождество.
Она встала, как всегда даже не подумав убрать со стола, прошла по коридору в темную смежную комнату и уселась за фортепиано.
– Как можно так распускаться, – злобно прошипела сквозь зубы Герта. – Всё из-за этой голодранки, – она кивнула на Терезу, правой ладонью смела со стола крошки в подставленную ковшиком левую. Так она намекала жене брата, что, мол, хватит бездельничать, пора убирать со стола тарелки и миски.
Крошек бывало и больше, сегодня почти постный ужин, поскольку завтра нужно как следует насладиться жарким из свинины, а послезавтра – рыбой.
Тереза, погрузившись в мысли, мыла посуду в раковине. Слово «голодранка» вертелось у нее в голове. Муж промолчал! Душа покрывалась панцирем.
Мара уже давно отнесла миску с кормом для Лукса из кухни в свое королевство. Она сидела в большом зеленовато-сером кресле, смотрела, как ест пес, и улыбалась, ощущая внутренний покой. Она любила Панкраца, своего господина, хозяина усадьбы на озере. Она, прислуга, видела его мягкость и неспособность быть властным, что усложняло ему жизнь – жизнь того, кто каждый день вынужден быстро принимать решения за себя и за других. Мара по-матерински любила его. Она поступила на работу в усадьбу, когда Панкрац только родился. Ей было двадцать, ему два года. Мара пребывала во власти желаний, которые в ее времена воспринимались как инстинкт продолжения рода, а в Панкраце только зрела индивидуальность. Обуреваемая сильными желаниями, Мара не имела мужа, зато у нее был ребенок. Пока ребенок рос, тоска по мужчине прошла. Когда ребенок стал мужчиной, тоска молодой женщины по мужчине превратилась в тоску постаревшей женщины по ребенку, ставшему мужчиной. Неудивительно, что разговор за столом о жарком из королевского мяса вместо молитвы не рассердил, а развеселил Мару. Панкрац – ее тайный ребенок, она словно родила его, всю жизнь оставаясь девственницей. Мара дарила ему тепло, которого не могли дать строгий отец, рвавшийся ввысь вместе с империей, и душевнобольная мать. Вместо того чтобы молча тосковать или возненавидеть мир от неутоленной жажды родительской любви, этот мужчина благодаря ее заботам вырос мягким. Такие, как он, не поднимут Германию на дыбы, и в нем никогда не созреют плоды возмущения и недовольства. Он по-прежнему ее мальчик. Старую Мару это вполне устраивало. В целом она прожила хорошую жизнь. Выбора у нее, можно сказать, не было. Многочисленные дети бедных крестьян рождались, чтобы всю жизнь служить богатым. Мало кому удавалось жениться или выйти замуж. А для монастыря в сердце Мары было слишком много чувств.
– Господь да благословит хозяина, – сказала она и наклонилась, чтобы взять чисто вылизанную фарфоровую миску, стоявшую между собачьими лапами. Усталые глаза с благодарностью взглянули на нее. Вся комната провоняла псиной.
Хозяйка поднялась в детскую – единственную комнату, где она могла остаться, когда ей того хотелось, наедине с мужем и детьми, без работников, служанок и сестер Панкраца. За четыре года, что она прожила в этом доме, хотелось ей этого часто. Новорожденная девочка заплакала. Она проспала все утро и проснулась, грозя криком разбудить двух других детей. Тереза еще перед обедом уложила старших спать, чтобы вечером они могли подольше поиграть и рассмотреть подарки. Она приложила малышку к груди и задумалась.
«Почему у меня опять так тяжело на душе? Только что я радовалась тому, как муж ехидно подшучивал над золовками. Они так возмущались, что даже не поучали и не шпыняли меня. Может, я неблагодарная? Мне же повезло. У меня красивый муж, которого я люблю – да, люблю, точно люблю, – и он меня любит, я чувствую. Когда он смотрит на меня, я будто слышу прекрасную песню или ощущаю ласковое прикосновение. Мужу принадлежит самая большая усадьба в деревне. За короткое время я, несмотря на возраст, родила троих здоровых детей. Мои сестры радуются за меня, может быть, даже слегка завидуют. Старый отец приходит в восторг, когда приезжает в гости и видит, как я хозяйничаю в доме и хлеву. Я чувствую, что он больше ни о чем не беспокоится, и тоже не беспокоюсь. Разве беззаботность – не основа для счастья? Что же меня тогда так угнетает? Неужели я действительно неблагодарная?»
Разумеется, не подлежало сомнению, что она все еще любила мужа, прожив с ним четыре года. Будь это не так, она бы все равно не призналась. Возможно, и не поняла бы. Она не была искусна в игре на инструменте под названием «плотская любовь» с ее влиянием на духовную жизнь. Ее душу наполняли глухие звуки, словно идущие из-под земли и возвращающиеся туда же.
«Как легко молоко перетекает из меня в малышку и наполняет ее жизнью, – подумала Тереза. – Как меня радует и восхищает прикосновение ее губ. Как легко было бы жить, если бы все люди могли так беспечно отдавать и принимать. Почему у меня не получается? Почему я не могу принять сестер мужа такими, какие они есть? А они – принять меня такой, какая я есть? Почему муж почти не помогает? Он так редко наклоняется ко мне, что я уже забыла его запах. Словно он вынужден маскироваться. Перед кем? В конце концов, я его жена! Я! Разве союз мужчины и женщины значит так мало, что его сестры имеют право поливать наш брак грязью? Разве старая семья не должна уступить место новой, которую я создала с ним?»
Испугавшись таких мыслей, Тереза резко отняла от груди дочку и принялась перепеленывать ее. Муж вошел в комнату и бродил, внимательно осматриваясь по сторонам. Вид у него был загадочный. Тереза ни о чем не спрашивала. Она смотрела на него и ощущала счастье.
– Здесь, – сказал муж, – здесь, у окна, будет лучше всего. Сюда и поставим.
– Хорошо, раз ты так считаешь, пусть там и стоит.
– Да, точно. Здесь лучше всего будет смотреться. И звучать тоже. Поставим здесь. Но сегодня вечером пока отнесем в общую комнату.
– А пластинки ты купил?
– Да, две. «Тристана» и «Торжественную мессу».
– Прекрасно. Я рада.
Не пустые слова. Оба пели в церковном хоре и разбирались в музыке.
– Почему ты за обедом была такая молчаливая? Что-то случилось?
Тереза немного покраснела:
– Ты такие вещи говорил. Я не знала, куда деваться. И сестры на тебя разозлились.
– Пусть. С чего бы это принцу понадобилось заселиться прямо в сочельник? Это семейный праздник. Я не хочу, чтобы на нем были чужие люди. Я вообще больше не хочу видеть чужих людей в доме. Мы уже сами тут как чужие!
– Все так, но у нас же гостиница, и он был бы королем, не изменись времена.
– Новые времена наступили, – резко возразил Панкрац, – и нечего цепляться за старое.
– Да, ты прав.
– Филомене и Герте хочется, чтобы у нас по-прежнему был король. Тогда войны и годы власти Гитлера не были бы напрасными.
И он ласково, совсем не хмуро, посмотрел ей в лицо. В Терезе снова поднялась теплая волна дрожи.
Прочна в ней была любовь, слегка поцарапанная.
Чуть позже в кухне установилась почти сакральная атмосфера: работники после рождественской ванны, которую принимали по очереди (воду не меняли, только подогревали), расселись вокруг стола – в чистых рубашках, некоторые даже в чистом белье и свежих носках, которые хозяйка настойчиво вручила им по пути наверх. Они сидели тихо, не шевелясь, словно окаменели, молчали, листали, как в замедленной съемке, газеты, явно стараясь не вспотеть из-за невольного проявления чувств и не осквернить непривычную и упоительную свежесть тела и одежды. Они ждали сочельника. В кухне словно ангел пролетел – пахло хозяйственным мылом.
Не хватало только хозяйки. Она опять чистила ванну. Запах чужого тела в ее личном, семейном пространстве, был ей противен: она боялась микробов. Благодаря этому новому страху в жизни крестьян появилось мыло.
Праздник прошел как обычно. Вокруг стола у печи собралась вся семья. За соседним столом под картинкой, изображавшей похищение юношами из Зеедорфа майского дерева в Кирхгрубе, застыли работники и служанки в праздничной одежде: Валентин, Виктор и Фехнер, чьи сыновья весной взяли в жены крестьянских дочерей из Кирх-груба, Старый Зепп, Лени, Марилла, Лизбет и Старая Мара. В красном углу – властитель Баварии с кузиной. А на четвертом столе, к которому тепло уже не доходит, потому что он находится дальше от печи и у окна с наветренной стороны, разложены подарки: перчатки, кальсоны, рубашки, лента для кулона, брошь, бритвенные приборы, резиновые сапоги, фруктовый шнапс, швейцарские сигары, церковные свечи, разукрашенный глиняный горшок для цветов и новехонький блокнот для официантки Лони – все, что нужно работникам и служанкам для работы и после работы. А на полу – детские игрушки и пахнущая свежей древесиной новенькая лошадка-качалка.
Все ели телячьи колбаски и венские сосиски с картошкой и салатом. Виктор пил темное пиво, остальные предпочли светлое или пиво с лимонадом. Женщины потягивали сладкое пфальцское вино, которое хозяин с помпой открыл после молитвы. Принц и кузина ели свежего карпа с растопленным маслом и гарниром из отварного картофеля и салата, словно это последняя трапеза приговоренных к смерти.
Вскоре каждый погрузился в мысли: Виктор и Фехнер вспоминали Силезию, Лони – Куфштайн в Тироле, Старая Мара думала о младенце Иисусе, лежащем в яслях, Тереза – об умершей матери и старом Лоте в Айхенкаме, хозяин вспоминал последнее Рождество на войне, принц думал о предстоящей ночи с кузиной. Сестры хозяина, громко и настойчиво читая «Отче наш» и подчеркивая право на свои воспоминания в своем доме, молились об умершем шесть лет назад в Рождество отце, старом хозяине. В центре стола они поставили большой портрет родителей и украсили рамку сосновыми веточками. Остальные, даже те, кто не знал старого хозяина, чувствовали, что обязаны присоединиться к чтению «Отче наш», – очень уж настойчиво молились сестры. Все понимали, что, хотя личное поминовение дело добровольное и тихая молитва – признак благочестия, смерть хозяина сейчас на первом месте и оплакивать ее нужно громко.
Потом пели
Ночь тиха, ночь свята.
Спаситель родился!
Последний слог Панкрац тянул, пока не иссяк воздух в легких, а потом встал, снял клетчатую лошадиную попону с коробки, стоящей поодаль от остальных подарков, и осторожно, придавая действию таинственность, начал разрезать упаковку. Он медленно водил ножом для чистки картофеля по клейкой ленте, пока стенки коробки не раскрылись.
Панкрац вытащил несколько охапок стружки и, покончив с этим, обратился за помощью к Виктору:
– Господин Хануш, пожалуйста, подержите коробку.
Виктор обхватил коробку, и Панкрац рывками, сантиметр за сантиметром, вытащил оттуда полированный и покрытый лаком ящик из дерева, блестевший, как озеро в лучах закатного солнца. То была непонятная громадина, такая красивая и поразительная, что Старая Мара решила, будто это дарохранительница, и в священном трепете перекрестила лоб большим пальцем. Все смотрели, раскрыв рты, и строили догадки.
– Это музыкальный ящик, – объяснил Панкрац, – фирмы «Грюндиг», я его купил в магазине Линдберга в Мюнхене. Самая новая модель, с радио – раньше его называли приемником, – и проигрывателем с двумя скоростями: семьдесят восемь для пластинок из шеллака и тридцать три – для современных. А здесь, внизу, – подставка для пластинок.
Он выдвинул ящик, достал из буфета конверт с пластинкой, вынул – благоговейно, словно принимая из рук священника причастие, – «Мессу» Бетховена и положил ее на диск с такой осторожностью, что давно погрузившийся в глубокий сон Фехнер не отваживался храпеть. Игла громко, трескуче заскрипела, все вздрогнули от страха, даже Фехнер проснулся, но нежно и чисто зазвучало «Господи, помилуй». Новое время расширяет границы и вместе с ясным сопрано певицы Ротенбергер проникает в комнату, дом и хлев. «От всего сердца – пусть это трогает сердца!», так написано на конверте.
Вскоре часы пробили одиннадцать. Мать уложила детей, а хозяин, сестры и две младшие служанки принарядились для всенощной службы в церкви Кирхгруба. Фехнер пожелал всем спокойной ночи и скрылся в пристройке. Филомена рассказала Виктору о правилах крестьян-католиков, что только у того будет хороший год, кто в рождественскую ночь пойдет на всенощную. В ответ Виктор что-то невнятно пробормотал, проследовал в дом для работников и через пять минут вышел в шинели. «Один за всех, все за одного», – подумал он строптиво, и все отправились в путь по сухому, скрипящему под башмаками снегу. Через полчаса они вошли в церковь Кирхгруба. Панкрац с сестрами заняли места на хорах над другими певчими, служанки уселись в последнем ряду на женской половине, передние ряды уже заняли крестьянки Кирхгруба, которые ни миллиметра не оставят чужакам, тем более чужой прислуге. Даже в сочельник! Ни за что! В этом церковь ничем не отличается от других мест. Виктор втиснулся в стоящую у выхода толпу бедных крестьян и любителей пива, чтобы сразу после благословения покинуть церковь и выкурить сигарету. Священник громко и проникновенно вещал о яслях в хлеву и о черствых сердцах богачей, которым никогда не попасть в Царство Небесное, скорее верблюд пройдет сквозь игольное ушко. И пока бедные крестьяне, как и каждый год в Рождество, пытались поймать взгляды богатых, а любители пива – взгляд хозяина деревенского трактира, Панкрац на хорах глубоким басом пел «Агнца» из «Торжественной мессы». Затем в нефе медленно гасли гирлянды огней и прожекторы, которые причетник и священник развесили накануне ночной службы, стремясь наполнить храм и сердца людей ощущением волшебства и светлым ликованием, – чувствами, которые медленно затухают и замирают в мерцающем свете одиноко горящих свечей и маленького фонарика над хлевом, где младенец Иисус лежит в вертепе, устроенном у бокового алтаря, в окружении игрушечных пастухов, которые стоят на зеленом вифлеемском лугу из лесного мха. Подобно теплому ливню, на верующих опустилась песня о тихой и святой ночи, оросив их души благодатью, а глаза – слезами грусти об ушедших временах. Наконец, песня вырвалась наружу: ее пели почти все.
Бредя домой сквозь холодную ночь, все уносили в сердце, как и каждый год, на редкость радостное, потайное счастье, которое уже наутро исчезало, снова не принеся никакой пользы. В этот день родился Спаситель.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































