Текст книги "Черкасов"
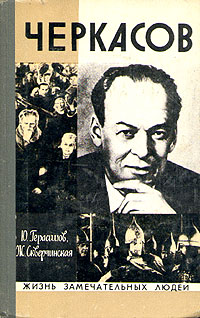
Автор книги: Ю. Герасимов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 25 страниц)
Эту чрезвычайно трудную для исполнения сцену в иных театрах даже исключали. Она представляет собой большой десятиминутный монолог, в котором сквозь сумеречное сознание страдающего сыноубийцы просвечивает ясный ум.
В покаянной монашеской одежде царь сам вместо дьякона читает псалтырь над мертвым. От тяжкого горя поникает молча над аналоем, потом в страстном порыве метнулся к гробу. Его снедает потребность если не оправдаться, то хоть объяснить – кому: сыну? небесам? – всепоглощающую идею своей жизни. Ивана плохо держат ноги, он падает, цепляется за высокий подсвечник и торопливо говорит о самом святом и дорогом – о державе, ради сохранения и умножения которой шел на все, действовал и силой и хитростью. Казалось, Грозный передает на вытянутых руках любовно сбереженную державу преемнику. Но руки встречали пустоту и бессильно падали. Новая волна душевной боли, отчаяния повергала Грозного на пол. Распростершись, лежит он, недвижный, безмерно одинокий. Тускло светят оплывающие свечи. Мертвая тишина.
Но вот издалека донеслось пение хора и колокольный звон. Грозный приподымался, вслушивался в напев. Стоя на коленях, держась рукой за угол гроба, он замирал в искривленной, угловатой позе, которая красноречиво говорила о глубоком душевном разладе. Так чисто пластическими средствами актер подготовил переход к последующему страшному, полубезумному разговору царя с мертвым царевичем. Наклонившись к убиенному сыну, Грозный объяснял ему смысл своих унизительных уступок послу Батория, всячески провоцировавшего срыв перемирия между Россией и Польшей, – всего того, чем пылкий юноша укорил венценосного родителя, невольно став пособником бояр и вызвав на себя державный гнев. Так, растолковывая сыну свое поведение, Грозный доходил до роковой развязки и пронзающе-скорбным голосом жаловался ему: «Сколь тяжко мне, когда, себя не помня, тебя, Иван, я посохом-то…» Тут воспоминание кончалось – на Грозного обрушивалось настоящее. «А! – вскрикивал он, словно переходя от забытья к жуткой яви. – …Убил?»
Никогда еще игра Черкасова не производила на зрителей столь огромного, можно сказать, потрясающего воздействия, не обладала такой гипнотической силой. Его Иван существовал во всей конкретности неповторимой и яркой личности.
Когда-то Черкасов впервые испытал потрясающее ощущение от игры Шаляпина. Его Иван Грозный и Борис Годунов были запечатлены в душе Черкасова на всю жизнь. И вот теперь его художнические закрома стали щедро питать создаваемый образ. «…Не скрою, – признавался Черкасов, – что мне в ролях Ивана Грозного и Дон-Кихота во многом помог Шаляпин». Черкасов буквально слышал, как его Иван, завершая «диспут» с чернецом, голосом Шаляпина произносил:
…Нет! – Ты умрешь не как судья, не с честью!
Нет, ты умрешь как трус! Нет! Ты умрешь как раб!
Черкасов, разумеется, не подражал Шаляпину и ничем его не напоминал. При всех закономерностях творческого пути любого художника вспышки гениальности поражают неожиданностью и до конца необъяснимы. Очевидно только, что, став мастером, Черкасов ощутил близость к шаляпинской традиции высокого реализма с его заветами правды и простоты. На своих вершинах русское трагическое искусство рождает сопоставимые явления.
После премьеры работа Черкасова над образом не прекращалась ни на один день. В каждом выходе на сцену он вносил в свою игру нечто новое, обогащавшее и углублявшее характер Ивана. Так, сценой у гроба, первоначально разделенной им на шесть эпизодов, актер остался удовлетворен только к 53-му исполнению. Число эпизодов в ней удвоилось, и вся она значительно обогатилась интонационно и пластически.
Спектакль был совершенно непохож на эйзенштейновский фильм. Однако сокровенными путями в душе актера началось сложное взаимодействие между сценическим «великим государем» и рефлексирующим тираном из второй серии фильма. Оно обогащало эти два образа, не сближая их.
Летом 1945 года Черкасов уже должен был закончить сниматься во второй серии «Грозного». В павильоне на «Мосфильме» стояли готовые декорации, актеры ждали вызовов со дня на день, а съемки все откладывались и откладывались, так как композитор С. Прокофьев, занятый работой над оперой «Война и мир», задерживался с партитурой, а снимать сложные по ритму сцены пира опричников в Александровой слободе, их зловещие пляски Эйзенштейн без музыки не мог и не хотел. Так и появился у Черкасова первый за многие годы отпуск.
Николай Константинович провел его на Карельском перешейке – в 120 километрах от Ленинграда. Он арендовал пустовавший дом на берегу большого красивого озера Пюхя-ярви (ныне Кремневское), обзавелся видавшей виды лодкой.
Вечерние и утренние зори он проводил на воде с удочками и спиннингом. Не раз он коротал недолгую летнюю ночь у костра на берегу Барсуковского острова. В густой тресте покрякивал утиный выводок, на отмелях перекликались водяные курочки. Похлебав горячей рыбацкой ухи, оставалось только не спеша выкурить папиросу неизменного «Беломора», подкинуть в огонь валежнику потолще и поудобнее устроиться у костра. Часика два можно было поспать.
Восход солнца он встречал уже на воде. В это время на дорожку брали крупные щуки – килограммов на пять, а то и побольше. Когда в доме поспевал завтрак, удачливый рыболов с песенкой Паганеля «Капитан, капитан, улыбнитесь!» подгребал к причалу. Он привозил то длинных зубастых щук и судаков, то золотистых лещей и красавцев язей. А окуни и плотва вообще не шли в счет.
В августе началась охота на уток. В длинных сапогах Черкасов неутомимо вышагивал по береговым зарослям. Его садочное ружье «зауэр» с художественной инкрустацией, подарок маршала Чойбалсана, на удивление и зависть другим охотникам, обладало исключительным боем.
Черкасов полюбил почти безлюдные в то время просторы Пюхя-ярви (в переводе это значило Святое озеро), некошеные луга с земляничными пригорками, окрестные леса, богатые грибами, ягодами и боровой дичью. После дальнего гудка приозерского поезда – до станции было около семи километров – тишина казалась такой глубокой. Еще нося в душе многоликий мятущийся образ войны, Черкасов всем своим существом чувствовал святость и великую ценность мирного покоя, гармонии человека и природы.
Однако жизнь отшельника мало подходила Черкасову. На безлюдье он скоро начинал скучать. Постоянная потребность в радостном общении с людьми была такой сильной, что неразделенное, без соучастников, наслаждение красотами и дарами Пюхя-ярви оставляло у Черкасова какое-то неудовлетворение. На даче у него стали гостить родные, друзья, знакомые. Как депутат он добился для актеров своего театра разрешения на аренду нескольких пустовавших неподалеку домов. Первыми его соседями стали верный его «отец Мисаил» – Ф. Горохов, В. Янцат. Наездами бывал Е. Мравинский, страстный рыболов и охотник. С годами в Пюхя-ярви возник целый актерский поселок.
В конце августа пришло сообщение с «Мосфильма» о том, что в ближайшее время возобновятся съемки второй серии «Ивана Грозного». Надо было собираться в Москву. Летняя идиллия кончилась, Черкасову снова предстояло с головой окунуться в дела и заботы.
Для Эйзенштейна летний простой стал косвенной причиной весьма важного события. Проходившая в Московском Доме кино конференция по цвету натолкнула режиссера на мысль сделать сцену пира опричников – центральный эпизод второй серии – цветным, использовать возможности цвета для более сильного эмоционального воздействия. «Краски вступят взрывом пляски цветов. И заглохнут в конце пира, втекая незаметно в черно-белую фотографию, в тон трагической, случайной смерти князя Владимира Андреевича» – так задумывал решить эту сцену Эйзенштейн. Эксперимент был смелым и, как показало время, весьма важным не только для самого фильма, но и для всей последующей истории кино.
Если первая серия фильма в узловых своих моментах опиралась на реальные события, пусть несколько измененные и смещенные во времени, то вторая серия, названная «Боярский заговор», строилась не на правде факта, а па правде художественного образа.
Вторая половина царствования Ивана Грозного отмечена жестокостью. О разделении всего русского государства на опричнину и земщину, которое совершил царь, дьяк Иван Тимофеев писал в своем «Временнике» так: «…возненавиде (он) грады земли своея вся и во гневе своем разделением раздвоения едины люди раздели… и всю землю державы своея, яко секирою, наполы некаго разсече». О последствиях этого события писал другой летописец XVI века: «…государь царь учиниша опричнину; и бысть мятеж по всей земле и разделение. И збыстся христово слово: воста сын на отца, и отец на сына, и дщи на мать, и мать на дщерь, и врази человеку домашний его. И оттого бысть запустение велие Руской земли». С такой оценкой в общем согласны и современные историки. «Тяжелое наследство оставлял Иван IV своим преемникам: разоренную, закрепощаемую деревню и обезлюдевший город, пустую казну и вконец оскудевшее воинство, беззаконие и произвол в судах, многочисленных врагов за рубежом и недовольство внутри страны» – так подводятся итоги царствования Грозного в многотомной «Истории СССР».
«Рассечение» и разорение многих русских земель опричниной тяжело сказалось на ходе Ливонской войны, длившейся 25 лет и окончившейся отказом России от возвращенных во время войны старых русских земель и городов. Главная цель войны – выход к Балтийскому морю – не была достигнута. Эксцессы правления Грозного явились одной из важнейших причин Смутного времени.
Эйзенштейн решительно отказывается от разработки таких традиционных для искусства сюжетов, как убийство Грозным собственного сына, драматические истории многочисленных царских женитьб. Из сценария исчезают и почти обязательные для всех произведений об Иване Грозном фигуры Алексея Адашева и попа Сильвестра. Эти люди действительно в течение многих лет играли важную роль и в жизни царя, и в делах государства. Они являлись друзьями и советниками Ивана, но без предъявления каких-либо серьезных обвинений были им осуждены и сосланы. Даже мертвых царь продолжал поносить их.
В каждом из перечисленных событий вполне хватило бы душераздирающего материала для создания законченного произведения, но Эйзенштейн ищет художественный эквивалент сразу всем трагедиям царствования Ивана, пытается выразить сокровенную суть происходившего почти четыреста лет назад.
Смерть Басманова и разоблачение Евстафия должны были войти в третью серию фильма, «решающим эпизодом» второй серии становится убийство Владимира Старицкого. «Они образно вобрали в себя воплощение темы», – 16 ноября записывает режиссер в своем дневнике.
Эйзенштейновский персонаж не имеет почти ничего общего с историческим князем Владимиром Андреевичем Старицким. Старицкий был двоюродным братом царя, и жизнь этого последнего из удельных русских князей была полна бесконечных унижений, притеснений и издевательств со стороны Ивана. Владимир Старицкий был человеком средним, заурядным, но права на престол в случае бездетной смерти Ивана у него были неоспоримые. Он участвовал в Казанском походе и, видимо, сам о власти не помышлял. Но вокруг него все время плелись интриги, заговоры, поддерживаемые его матерью – честолюбивой и неумной княгиней Ефросиньей Старицкой. Когда Владимир Старицкий почувствовал, что над ним сгущаются тучи, он решил отвести от себя подозрение и начал выдавать царю людей, которые заговаривали с ним о престоле. Но расчеты князя на спасение не оправдались: царь казнил и выданных им заговорщиков, и самого князя, его жену и всю их челядь. Ефросинья Старицкая ссылается в монастырь.
Княгиня Старицкая превращается в фильме в величественную боярыню, «главу рода», «крупного организатора», «демона», «Грозного в юбке». Еще большие изменения претерпевает фигура ее сына.
Владимир Старицкий – единственный человек в этом фильме, который не желает любыми способами получить власть, не борется за нее. «Хуже дитяти он. Умом прискорбный», – говорит о своем сыне Ефросинья. Но в исполнении Кадочникова Владимир вовсе не безумный, не слабоумный, скорее блаженный, человек не от мира сего. В нем много детского – непосредственности, искренности, беззащитности. Но это ребенок, ввергнутый в страшный мир насилия, зла. Владимир по-своему понимает то, что происходит вокруг. «А ныне перевелись ангелы», – вздыхает он.
Владимиру «кровь страшна», угрызения совести для него хуже казни. Перед тем как отправиться на пир, где должны убить Ивана, в ужасе шепчет он матери провидческие слова:
– И пошто меня на власть толкаешь? Пошто на закланье отдаешь?
Так начинает звучать трагическая и обвиняющая тема второй серии «Ивана Грозного» – убийство невиновного, «заклание».
Съемки второй серии фильма возобновились в сентябре 1945 года. Вновь собравшиеся участники съемочной группы еще были полны воспоминаний об Алма-Ате и ЦОКСе, сблизивших всех в трудные военные годы.
Среди кинематографистов давно ходили легенды об умении Черкасова буквально за минуту перед съемкой самой сложной и трагической сцены вдруг отпустить шутку, сделать стойку на руках или даже проплясать что-нибудь экстравагантное из своего юношеского репертуара. Это была своего рода бравада мастера, виртуозно владеющего профессиональной техникой. Но мало кто знал, пожалуй, только жена, что на съемку или спектакль Черкасов всегда ехал неразговорчивый, хмурый и преображался, только уже входя в гримерную. По свидетельству Н.Н. Черкасовой, это удивительное состояние – очень радостное, приподнятое, сменявшее минуты задумчивости и молчаливости, – было совершенно необходимо артисту для того, чтобы на сцене или съемочной площадке все прошло успешно. Эта особенность Черкасова сближала его с Эйзенштейном, который, как правило, оставлял серьезность в тиши своего рабочего кабинета, а на съемочной площадке тоже весьма был склонен к иронии, шутке, розыгрышам и мистификациям. Они оба очень любили придуманную Черкасовым игру в «цирковых клоунов – Коко и Сержа». Как рассказывает Н.Н. Черкасова, «вариантов было сколько угодно, в эту цирковую игру включались клоун Мишель (М. Жаров), Пауль (П. Кадочников)… Потом в игру вовлекались осветители, и все это при самом активном участии Эйзенштейна…».
Сейчас, осенью 1945 года, Черкасов шутил все меньше и меньше. Им овладевало беспокойство. Вопреки своему обыкновению он начал вместе с Эйзенштейном просматривать на экране отснятый материал. Судьба второй серии не на шутку его тревожила. Он говорил о своем настроении Эйзенштейну, но тот, приписывая его нервному и физическому истощению, попробовал привычно отшутиться. Заметив, что это не помогает, Эйзенштейн вообще перестал показывать Черкасову готовый материал.
По прошествии нескольких лет в «Записках советского актера» Черкасов объяснял свое тогдашнее беспокойство утратой «намеченной и выношенной внутренней линии развития образа в силу выявившихся в процессе съемки изменений сценария» и тем, что во второй серии Иван Грозный начал превращаться в человека «нерешительного, слабохарактерного, безвольного».
Это объяснение Черкасова нуждается в комментарии, поскольку оно во многом повторяет критические замечания в адрес второй серии «Грозного», высказанные осенью 1946 года в постановлении ЦК ВКП(б) о кинофильме «Большая жизнь».
В процессе съемок в основном менялось распределение материала по сериям и меньше всего характеры персонажей, намеченные и разработанные Эйзенштейном задолго до начала съемок. 31 марта 1942 года режиссер, размышляя о развитии характера Ивана, записывал в своей рабочей тетради: «И гораздо лучше дать эту нерешительность в последнее мгновение осуществления того, что готовил и замышлял ценою времени, гигантских усилий, великого подвига мысли… Эта черта и паника post factum… «конституируют» очень отчетливый «нервный характер» Ивана. Они в ряде черт «борьбы сомнений», которой тоже страдает Иван…»
То, что писал Эйзенштейн, должно было стать известно Черкасову никак не позднее 1943 года, когда они с режиссером подробно обсуждали весь ход будущей работы, так что в 1945 году появление в характере Ивана Грозного черт нерешительности, сомнения, безволия никак не могло быть для Черкасова новостью.
Причины беспокойства Черкасова были гораздо сложнее, чем он говорит о них в своей книге. И заключались они в двойственности отношения самого актера к создаваемому им образу. Как художника Черкасова бесконечно привлекала, даже притягивала возможность коснуться одной из самых глубоких и вечных проблем искусства и, в свою очередь, попробовать решить ее – выявить сущность трагедии великого человека, раздавленного выпавшей на его долю властью, показать муки больной совести. И у артиста было достаточно сил и таланта, чтобы воплотить эту трагедию поистине шекспировского масштаба.
Но эта же проблема смущала и даже отталкивала Черкасова: замутить самим же созданный в первой серии такой ясный, почти идеальный образ государственного деятеля, пошатнуть его пьедестал, посягнуть на его авторитет в глазах миллионов зрителей – вот что означало для артиста изменение характера его героя во второй серии фильма. Идейная ясность и недвусмысленность первой серии были для него более органичны, ближе его душевному складу и мировоззрению. Но, несмотря на это, именно во второй серии талант артиста выявился во всей своей поразительной мощи. Это произошло не только потому, что изменился драматургический материал и усложнился характер героя. Иным стало и содержание черка-совской игры, ее наполнение.
Летом 1945 года из США в адрес съемочной группы фильма пришло письмо, озаглавленное «Советским киноработникам по поводу „Иоанна Грозного“ С.М. Эйзенштейна». Написано оно было выдающимся русским драматическим артистом Михаилом Чеховым, находящимся в эмиграции. Чехов писал о том, какое большое впечатление произвела на него первая серия фильма, как взволновали его «постановка и игра», и обращался к своим далеким соотечественникам с дружественными словами: «Вы, русские актеры и режиссеры, первыми повели фильм по пути к большому, достойному нашего времени искусству. Нет сомнения, что ваша работа своей новизной и смелостью испугает страны, лежащие на западе от вас. Много упреков, справедливых и несправедливых, услышите вы. Но это не страшно: вы умеете быть бойцами во всем. Страшно только одно: ошибки в самом процессе вашего творчества».
Главными ошибками первой серии Чехов считал замедленный темп действия, тяжелую метрическую речь, холодность и рассудочность актерской игры, отсутствие в ней «максимума эмоций». Когда Чехов осуждал то, что «актер, двигаясь и жестикулируя среди всей этой пышности, сам становится как бы частью своего хотя и прекрасного, но неживого окружения», он осуждал один из сокровеннейших кинематографических принципов Эйзенштейна, ставившего знак равенства между всеми предметами в кадре, будь то люди (актеры, типажи) или вещи, постройки, пейзаж. В общем, если бы Чехов был лучше знаком с воззрениями Эйзенштейна и его методом работы с актерами, то, наверное, адресовал бы свои упреки именно ему. или хотя бы в гораздо большей степени ему, чем актерам.
У Черкасова письмо Чехова вызвало противоречивые чувства. Он видел этого выдающегося артиста во время гастролей МХТ-2 в Ленинграде в 1927 году, помнил его «невероятные перевоплощения». Черкасов знал и то, что в тридцатые годы в Риге, уже будучи в эмиграции, Чехов сыграл Иоанна Грозного в трагедии А.К. Толстого. Узнать мнение такого человека о своей работе было, конечно, очень интересно. Многие замечания Чехова об актерской игре Черкасов принял на свой счет. И обиделся. Как человек, вложивший в работу душу, он выискивал всякие доводы в защиту своего творения. Даже спустя много лет он «спорил» с Чеховым. В августе 1966 года он говорил своему старому знакомому – директору Центрального Дома литераторов Б.М. Филиппову:
– Сам факт работы Чехова над ролью Ивана Грозного ставит под сомнение объективность его суждений по поводу попыток других актеров создать тот же образ, но с иных принципиальных позиций. Он упрекает нас в «мхатовских паузах» в кино. А сам-то еще как злоупотреблял паузами. Своих актерских огрехов он, конечно, не замечает… Правда, общий тон письма предельно благожелательный, да и мысли в нем есть интересные и полезные…
Действительно, в отношении конечных результатов фильма упреки Чехова были совершенно справедливы.
Когда пришло письмо из Америки, больше половины второй серии было уже снято. И все же нельзя преуменьшить значение этого документа для дальнейшей работы Черкасова над образом Ивана. «Стиль начинает переходить в стилизацию, то есть становится внешне условным, – подводил Чехов итог первой серии и тут же советовал на будущее: – Эта опасность может быть устранена двумя путями: или внешняя сторона должна быть показана скромнее, чтобы дать место актеру с его переживаниями, или актеры должны найти в себе достаточно силы, чтобы подняться на уровень внешней, подавляющей их стороны постановки. Идеальным решением было бы, конечно, второе».
Такие слова, да еще исходящие от товарища по профессии, не могли не задеть актерское самолюбие Черкасова. А это и было как раз то, чего до сих пор не хватало ему в работе с Эйзенштейном. Как говорит Н.Н. Черкасова, «очень уж был силен Эйзенштейн», «очень уж он „заполнял“ Черкасова». Это не значило, что артист был подавлен режиссером, полностью подчинен ему, как склонны считать некоторые кинематографисты. Подобное толкование слишком элементарно.
Создавая образ Ивана Грозного в первой серии фильма и частично во второй, актер вдохновенно разрабатывал предложенный Эйзенштейном рисунок роли и делал это подчас глубже, тоньше, искуснее, чем было задумано режиссером. Но действительно, все актерские поиски Черкасова шли только в направлении, указанном Эйзенштейном, открытия свершались только в пределах сферы его могучего влияния. (Очень точно сказал о сути отношений режиссера и актеров исполнитель роли Федора Басманова М.А. Кузнецов: «Эйзенштейн как бы помещал в золотую клетку. Это очень красиво, но все-таки ты находишься в клетке его воображения».) Черкасов поначалу творил только в эйзенштейновском ключе, и следствием было то, что в первой серии он, как никто другой из актеров, усилив достоинства режиссерской системы – ясность идейной позиции, редкостную графическую и живописную выразительность, – в то же время, как никто другой, укрупнил и сделал более очевидными все ее слабые стороны и недостатки – умозрительность, концептуальную замкнутость, эмоциональную ограниченность, подчас даже бедность, усилил эйзенштейновскую обобщенность, «бесчеловечность».
Идиллическая гармония полного слияния актера с режиссером дала трещину весной 1945 года, когда Черкасов неожиданно вкусил сладость полной творческой свободы в работе над образом Грозного в спектакле.
По грандиозности замысла и его драматургическому воплощению работа Эйзенштейна стояла неизмеримо выше конъюнктурной пьесы Вл. Соловьева. Но талант Черкасова поставил знак равенства между спектаклем и первой серией фильма. Не впадая в бытовизм, Черкасов показал, как много значит по сравнению с обобщенностью, «бесчеловечностью» героя его «очеловечивание», даже если сам герой сконструирован драматургом по заданной схеме. Ощутив полную творческую свободу и свои возможности именно в роли Ивана Грозного, Черкасов подсознательно уже подготовился к каким-то переменам в отношениях с Эйзенштейном. Если добавить к этому чувствительное актерское самолюбие, задетое критическими замечаниями Чехова, то становится ясно, что не так-то просто было снова удержать Черкасова в режиссерской «золотой клетке».
Но не такой человек был и Эйзенштейн, чтобы в чем-то поступиться своими режиссерскими принципами. Ни о каком открытом бунте или протесте со стороны Черкасова не могло быть и речи. Да он и сам не намеревался посягать на общий замысел режиссера. Просто он наконец нашел то самое место, где в эйзенштейновской «клетке» не хватало прутьев. Строго контролируя все внешние детали актерской игры, каждое движение и жест, режиссер не обращал почти никакого внимания на то, как говорят актеры, на их интонации, а зачастую даже и пресекал их попытки более глубокого психологического вживания в текст роли. «На точном выполнении мизансцены он настаивал, – рассказывает М. Кузнецов, – это было для него абсолютно необходимо. А вот на интонациях настаивал не очень. Конечно, надо было держаться поближе к тексту, потому что текст был несколько стилизован, и найти примерно правильный эмоциональный посыл. В особые тонкости он не вдавался…»
Такое невнимание к речи в большой степени лишало героев первой серии «Грозного» одного из самых важных признаков человеческой характерности, индивидуальности. Кроме того, несоответствие между выверенностью, точностью пластики и «примерностью» речи вносило в актерское исполнение заметный диссонанс.
И все-таки в лучших сценах Черкасова в первой серии (болезнь, эпизод у гроба Анастасии) звучало предвестие могучих трагедийных открытий. И они свершились. Во второй серии в исполнении Черкасова не оставалось и тени какой-то неточности, приблизительности. Не было места ложному пафосу и актерской холодной риторике. Теперь игра Черкасова никого не могла оставить равнодушным – она потрясала.
По-прежнему все движения черкасовского Ивана Грозного, даже в минуты самого сильного волнения, а может быть, особенно в это время, оставались графически изысканными, сложными и многозначными, как иероглифы. Так же как и в первой серии, в них не было никакой бытовой незавершенности, расплывчатости, зыбкости. Как и прежде, черкасовская пластика обладала острой выразительностью пантомимы. Вот когда в полной мере пригодилась ему юношеская школа эксцентрики! Артист вспомнил (а вернее, никогда и не забывал) некоторые свои трюки и использовал их в фильме. Но то, что смешило когда-то своей странностью, алогичностью гротеска, то есть смешило само по себе, теперь было психологически насыщено, отражало смятенное, напряженное, то есть «ненормальное» душевное состояние Ивана Грозного.
…Тянется рука Ивана к кубку, из которого дал он в последний раз напиться своей жене Анастасии. Тянется, тянется, вылезает худая рука из пышного царского рукава, и кажется она бесконечной. Как будто хочет и не хочет дотронуться царь до кубка. Шевелится в душе Ивана подозрение: в кубке был яд. «Отравили?» – шепчет. «Отравили, – кричит, – юницу мою?!» А кто же дал ему тогда этот кубок? Ефросинья Старицкая… Неужели она, тетка царская, решилась на страшное дело? Тянется рука Ивана к кубку – растет его подозрение. И если возьмет он кубок, дотронется до него – станет подозрение уверенностью, и нужно будет действовать, мстить за жену, а это снова – злоба, кровь, смерть. Царь и хочет мести, и боится ее – вот почему так долго тянется к кубку его рука и как будто не может дотянуться. Бесконечен ее путь, и сколько за ним трагического смысла, горьких и злобных дум, чувств… Сколько сомнений, гордости, подозрительности и боли…
Во второй серии содержание всех высказываний Ивана Грозного, по сути дела, мало чем отличалось от его прежних речей. Он так же говорил о своей великой ответственности перед страной, о боярском предательстве, считал себя выразителем народной воли – «божий глас в той воле слышу». Царь по-прежнему думал о том, что все его деяния свершаются «ради Русского царства великого».
Но происходила удивительная вещь: теперь все эти слова не воспринимались уже так однозначно, как в первой серии. Раньше для того «примерно правильного эмоционального посыла», о котором говорит Кузнецов, вполне было достаточно небольшого количества интонаций, можно было обойтись без полутонов. Интонационная скудость и, если так можно выразиться, жесткость, в свою очередь, деспотически воздействовали на зрительское восприятие и почти не оставляли места зрительской интуиции. Зрителя уверенно подводили к однозначному выводу: Иван Грозный – великий человек и во всем прав.
Вторая серия не давала таких простых ответов. Каждое слово черкасовского героя теперь несло в себе великое множество оттенков. Иван был поистине мудр и одновременно жесток и нерешителен. Коварен, дальновиден, лукав, дьявольски хитер, а иногда неожиданно добродушен. Вдруг ощущалась в нем какая-то возвышенная наивность, и тогда кощунственным парафразом звучала в его отношениях с Малютой Скуратовым тема Дон Кихота и Санчо Пансы. В Грозном причудливо уживались вера в святость своего дела, в избранничество с холодным цинизмом политического интригана и демагога. Такому Ивану можно было в чем-то сочувствовать и было за что его осуждать и ненавидеть. Но в любом случае черкасовский герой заставлял размышлять.
…На царском пиру сидит охмелевший князь Владимир Старицкий, беснуются вокруг него в диком веселье опричники, а рядом царь – такой одинокий, несчастный – тоскует и плачется Владимиру на свою судьбу:
– Сирота я покинутый, любить-жалеть меня некому…
Не видит Владимир хитрого прищура царских глаз, не понимает злой игры Ивана. Но игра игрой, а все же слышится в этих словах отзвук истинного страдания, И сочувствует Владимир:
– Ай, не прав ты, царь всея Руси… Есть друзья тебе…
– Нет друзей! – гнет свое Иван, но как будто немного светлеет его лицо.
– Нет, есть!
– А и кто? – почти добродушно спрашивает Иван.
– А хошь я! – делает шаг к гибели князь Владимир.
Внимательно слушает Иван его пьяное бормотание:
– Вот пируешь ты, а не знаешь, что убрать тебя хотят…
Знает, знает царь, сам Малюту Скуратова вслед за
убийцей послал, но хочется узнать ему не только имена заговорщиков, но и меру дружбы, преданности Владимира. А князь совсем размяк:
– Вот я ей и говорю: какая радость царем быть? Заговоры, казни. А я человек простой…
Эти слова бьют Ивана по самому больному месту. Задумчиво и совсем негрозно он произносит:
– Тяжело дело царское… Истинно, истинно: какова радость царем быть?
– Вот я ей и говорю: на что мне сие… А она свое тянет: бери, бери шапку, бери, бери бармы…
Неожиданно кричит Иван:
– Бери! Братик! И верно, почему бы не взять? Братик, возьми!
Начинается зловещий маскарад. Перемигиваясь, надевают опричники на Старицкого царские уборы, сажают на трон. На какое-то мгновение смутился и растерялся князь. Но сам Иван падает ему в ноги – как-то немного боком, изломанно. Его жалкая и зловещая поза становится сигналом для опричников. Они тоже становятся на колени перед царским троном. Иван внимательно, цепко вглядывается во Владимира – нравится ему быть царем или нет? А Старицкий, не замечая издевательства, начинает потихоньку удобнее устраиваться на троне, блаженная улыбка все отчетливее проступает на его лице, крепче вцепляется его рука в царский скипетр. Сужаются глаза Ивана. Растет его уверенность: Владимир не друг, а враг, то, что он не хочет власти, – ложь. А Владимир, упивающийся красивыми блестящими «игрушками» и действительно не помышляющий о власти, добрым, сказочным царем Берендеем сидит на троне Ивана, глядит на всех ласково, не чуя уж совсем близкой беды. Шапка Мономахова сползла у него на ухо – дурацкий вид у Владимира. Только почему-то вокруг его головы разливается сияние… («Эйзенштейн строил композицию кадра так, чтобы моя голова вписывалась в нимб святого, изображенного на фреске. Этот нимб как бы переходил к Владимиру» – П. Кадочников.)
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































