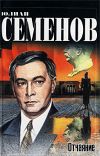Текст книги "Неизвестный Юлиан Семёнов. Возвращение к Штирлицу"
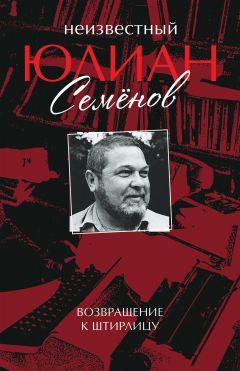
Автор книги: Юлиан Семёнов
Жанр: Советская литература, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
– Ну вылазьте, – сказал человек в папахе, – на земле договорим.
Янош с Иваном вылезли, и человек, который был в папахе, сказал двум своим подчиненным:
– Обыскать для порядка.
– На каком основании? – спросил Янош.
– На правильном основании, – хмуро сказал человек в папахе.
Начали обыскивать наших, и из карманчика Яношева френча вытащили документ, развернули его, прочли, и тот, в папахе, сказал:
– Комиссар… Сука! Мы те покажем, гад, комиссара! В подвал их!
И несмотря на яростное сопротивление, которое оказывали и Янош, и Иван, причем каждый из них кричал по-своему: один кричал «товарищи», а другой «господа», бросили их в подвал, а подвал не простой, а с зарешеченными окнами, и путь отсюда – по всему – не иначе как под пулю.
А на площади возле церкви – шум и гомон. Читают документ Яноша всем скопом, а написано в том документе, что предъявитель оного – личный пилот его императорского величества, полковник Генерального штаба Савостьянов Иван Ильич имеет право управления всеми видами летательных аппаратов.
– Товарищи, – говорит старший, тот, что в лохматой папахе был, – все равно самосуда мы допускать не можем! Пусть революционный суд решит участь этого белого полковника!
– А они наших товарищей судом судят?! – пронзительно закричал молодой красноармеец и, запалив факел, отбежал к церковной стене и осветил изуродованные трупы красноармейцев. – Вот что они с нашими бойцами сделали!
– Не моги кричать, – сказал командир в папахе. – Не рви людям сердца! Если суд решит: к стенке, – тогда шлепнем. А без закону жить нельзя. Без закону чужая кровь со своей помешается!
А из того домика, где в подвале маялись Янош и Иван, выбежал конвоир с винтовкой и закричал:
– Товарищ командир, они там дерутся вроде и орут!
Что верно, то верно: дрались наши узники. Иван оттаскивал от себя яростного и гневного Яноша, барабанил кулаками в дверь и кричал:
– Господа, я полковник Савостьянов, господа! Отстаньте, идиот, – кричал он Яношу, пытаясь оттащить его от себя. – Я требую сюда старшего офицера! Я личный пилот убиенного государя императора!
Он продолжал выкрикивать это и тогда, как его вместе с Яношем вели конвоиры через площадь к командиру в папахе.
– Значит, говоришь, ты и есть полковник Савостьянов, летчик убиенного государя императора? – спросил командир, не глядя на Ивана Ильича, а глядя себе под ноги.
– Да! Да! – прокричал Савостьянов. – Ваш маскарад сбил меня с толку! Пригласите старшего!
– А этот кто? – кивнул командир на Яноша.
– Это иностранец, и я за него никакой ответственности не несу! Я бегу от большевистских зверств!
– Иди сюда, – сказал командир. – Посмотри на зверства.
И повел Ивана вместе с Яношем к трупам, что лежали рядком возле церковной стены.
– Смотри на белые зверства, гад, золотопогонник, – сказал командир.
– Товарищи, он действительно белый полковник, но он везет меня, венгерского большевика!
– Вихляешь, сволочь, – тонко закричал паренек с винтовкой, – к стенке их! К стенке! Смерть за смерть!
Сдвинулись бойцы вокруг Яноша и Ивана, затворами лязгнули, вскинули винтовки.
– Этого полковника сейчас порешим, а иностранец пусть утра дождется! – крикнул паренек, подтолкнул Ивана Ильича дулом к стенке и взбросил винтовку: пришел смертный час бывшему государеву пилоту…
– Прекратить! Кончай произвол! – вдруг грозно заорал Янош. – Коммунисты, шаг вперед!
И столько силы появилось в его голосе, что все несколько опешили и командир шагнул к Яношу и сказал:
– Ну… В чем дело?
– Немедленно свяжитесь с ЧК Тулы и Мценска! Об исполнении доложить мне! – командовал Янош, стоявший под дулами со связанными руками. – Аэроплан укрыть – дождь! Выставить усиленные караулы! Выполняйте!
– А документ у тебя где? – спросил командир. – Твой где документ?
– Какой у меня может быть документ?! Мне через белых лететь!
Поздно ночью полковник Анатолий Иванович Дайниченко, продрогнув до костей – погода к ночи переменилась, с севера подул студеный ветер, небо насупилось, прижалось, взлохмаченное, к земле, – покинул свою полевую штаб-квартиру, куда были подведены все телефоны с основных, по его предположению, пунктов, где люди ждали савостьяновский самолет. Сказавши адъютанту, где – в случае чего – можно будет его, Дайниченко, отыскать, Анатолий Иванович отправился в махонький подвальный кабачок, где играла петербургская оперетта, перекрашенная под цыган: с цыган – слезы, их и желали, а с оперетты – смех, а до смеха ли сейчас – война…
В отдельном кабинете дым стоит коромыслом, спор идет генерала от жандармерии Дрыжанского и поэта – известного, считавшегося в былые времена крамольным, но репутацию эту создавала продажная газетная критика, и ее исподволь санкционировал политический сыск.
Генерал кивнул Анатолию Ивановичу на стул подле себя и спросил:
– Ну?
Анатолий Иванович отрицательно покачал головой, налил себе водочки, выпил и прислушался к яростной поэтовой тираде.
– Вы, вы, именно вы, охранители устоев, – Россию погубили! Особенно политический сыск – опять-таки впрямую к вам адресуюсь! Вы сами плодили подполье, сами! Два студента Марксом увлекаются, третий вам про это шепнет, так вы к ним сразу – кого? Провокатора! Нет чтоб молокососов вызвать да за вихры оттаскать – нет, вам давай-ка организацию создавай, да пошли кого к Ленину в Швейцарию, да побольше в организацию народа вовлеки, – поэт всплеснул руками, – сами ведь вовлекли, сами! А уж потом, когда она комом разрастается, тогда айда аресты! Зато на докладе есть что государю сказать – работаем, ваше величество, работаем. Глядишь – Анну вне очереди, на погон двойной аксельбант! А ведь у арестованных папаша оставался, мамаша, невеста, содержанка, друг, трактирщик, молочница… «Господи, да за что ж такого милого человека упекли на поселение – ай-ай-ай!»
– Где-то вы правы, – сказал генерал, закуривая, – где-то мы действительно оказались жертвой трагического парадокса: политический сыск, призванный бороться с революцией, оказался теми дрожжами, на которых революция взошла.
А наш Дайниченко, будучи по природе человеком бездарным, но с хорошей памятью и обостренным чувствованием ситуаций, промолчал, хотя чуть было не вступил в спор с пиитом, но тенденцию мышления и направленности рассуждений двух умных людей запомнил.
– Вы когда к этому пришли? – спросил генерал поэта, наливая ему хлебное вино в рюмочку. – Когда с нами дружили в Петербурге или сейчас, оказавшись в бегах?
– Тогда думал, сейчас – сформулировал.
– А зря. Надобно было тогда мысли свои в донесение – и мне на стол.
– Да, да, а в дуду вам не попадешь – тогда что? Был поэт с именем, и вдруг – ни звука, ни слова, о друг мой! Генерал, милый, все плохо, очень плохо – мы тогда каждый о себе думали, а большевики-то – стрекулисты, оседлали нацию – все в одну дуду, ой, не перешибешь это, не перешибешь. Меня тогда ей-ей подмывало – плюнуть на все ваши глупости…
– Ну и?.. – позволил себе спросить Анатолий Иванович, загадочно прищурившись.
– Таланту нет, – тоскливо ответил поэт, не обернувшись к Дайниченко, – так, рифму слышу, а таланту – ни-ни, – сказал он и вышел в зал, к цыганам, обнял Лизу, единственную цыганку среди всех здешних блондинок, и попросил: – Ну, лапа, давай, а? Давай, Лизанька…
– Я ехала домой, – запела Лиза, и свечи на столах позадували, только две возле нее остались, – печаль была тиха, и вся светилась я каким-то странным светом…
Генерал обернулся к Дайниченко и сказал, глядя мимо него на стену:
– Между прочим, этой песне Лизаньку в Петербурге выучил тот, кого вам все-таки следует ждать на пунктах возможного приземления. Я имею в виду полковника Савостьянова.
Дайниченко немедля поднялся, картинно поклонился генералу и пошел к выходу.
– Анатолий Иванович, – окликнул его Дрыжанский тихонько и показал глазами на Лизаньку, – и ее предупредите, что, мол, понадобится вскорости, надо Ивана Ильича порадовать…
Анатолий Иванович еще раз картинно кивнул и, дождавшись конца песни, когда начались аплодисменты, склонился к Лизанькиному уху и (учен, учен, как с агентами говорить, – со стороны ничего не поймешь) прошептал быстро что-то, а Лизанька даже вся побледнела от волнения и шаль прикусила. Ноги ослабли. Села на краешек эстрады, лицо в ладони спрятала.
Дождь все льет и льет, а молодой паренек поглядывает на часы, а возле церкви, прижавшись к ее прогретой дневным солнцем стене, стояли окруженные конвоем Янош и Иван. Янош покашливает, Иван хмурится, просит паренька:
– Отведите его в дом, у него легкие больные, я один постою.
– Я те отведу в дом, – отвечает парень, – кончилось ваше время, паразиты… Товарищ командир! – крикнул он. – Время кончилось!
– Да ладно те… С Тулой связь оборвалась… сижу на аппарате – без толку. Молчат, как в бочку…
– Товарищ командир, они ж подосланные: мы с ими антимонии разводим, а беляк наверняка кольцом нас обкладает! Кончать их, и точка!
Парень вскинул винтовку. Командир в самый последний миг выбил у него из рук оружие, потому что сзади засветились два огонька в ночи – все ближе, ближе, ближе – автомобиль едет. Остановилась машина, выскочил из нее человек – весь в коже, командир скомандовал:
– Смирно! Равнение направо! Товарищ председатель Губчека…
Только не слушает его председатель Губчека, идет прямо к связанным, к Яношу и к Ивану, да не к Яношу идет к первому, а к Ивану, руки ему освобождает и целует трижды.
– Боже ты мой, – шепчет Савостьянов, – Петька Ястребов, быть того не может! – И к Яношу: – Я ж говорил вам: маскарад! Это Ястребов, корнет, мой ученик, я его в небо вывозил! Ай да Петька, ай да конспиратор!
– Товарищ предчека, – сказал командир, – то ж белый полковник Савостьянов…
– То лучший летчик России, – сказал Ястребов. – Простите, товарищ Перцель.
– Спасибо за революционную бдительность! – выкрикнул Янош и снял с головы кепочку, и шагнул к жертвам белого произвола – вечная слава героям, павшим за революцию…
Поползли шапки с голов, отзвучал ружейный салют…
Лежит на драном кожаном диванчике в кабинете у предчека Тулы Янош – раздетый лежит, худой до невероятия, а Ястребов аккуратненько так его массирует, а после на отработанное место груди ставит горчичник, а в кресле, попивая чай, сидит Иван и, недоумевая, спрашивает:
– А ты давно к ним переметнулся?
– Давно. В 1912-м.
– Ахинею-то не неси, мон пти. В 1912-м ты корнета получил и сделал на глазах убиенного государя императора бочку.
– Верно. Только в 1911-м я с каторги сбежал и у тебя под чужими документами учился.
– Кто делал документы? – морщась от горчичной боли, спросил Янош. – Мне делали товарищи в Тюмени.
– Нет, я уходил через Вятку.
– Андрей Бубнов?
– Да. Киров, Крестинский, Бубнов… Не очень больно, не жжет?
Янош дотронулся до горчичника, лежавшего на груди, и простонал:
– Рвет сердце. Стыдно признаться: боль не переношу.
Иван, свернув самокрутку, по-прежнему недоумевая, спросил:
– Петя, а почему ж ты тогда государя не пиф-паф? Рядом же стоял.
– Видишь ли, мы против террора.
– То есть как? А Столыпина Ивана Кузьмича угрохали? А Плеве – культурнейшего человека?!
Янош засмеялся сквозь слезы:
– Это, Иван, эсеры!
– Мы их в тюрьму сейчас сажаем, – добавил Ястребов, – им бы кого ни стрелять – лишь бы стрелять.
– Погодите, погодите, но эсеры тоже социалисты?
– К социализму, – сказал Янош, – как к самому передовому учению века, будут примазываться самые злые авантюристы. Наша задача – не дать им скомпрометировать социализм. Ой, не могу, снимите эту пытку! – взмолился Янош. – Кожа отделяется от мяса.
– А как вы, большевики, нас, интеллигентов, мучаете? – злорадно спросил Савостьянов и засмеялся, но под взглядом Ястребова осекся, замолк.
– Иван Ильич, – сказал Ястребов, – у нас на тебя главная надежда.
– Это как понять?
– А вот так… Те люди, которые должны были встретить вас в белом тылу, вчера арестованы. Если ты Перцеля Яноша не провезешь – никто не провезет.
– Ты что, меня в ЧК записываешь?!
– Да нет… Не достоин ты еще в ЧК, хотя пилота лучше тебя нет…
Отхохотавшись, Иван Ильич сказал:
– Нет, Петя, хочешь казни, хочешь вешай – только, если вы против террора, меня против самого же себя террор применять не проси. Я ж не прошу тебя помогать моим друзьям? Везти – везу, а все остальное – от Бога. На меня надежды нет.
Янош сорвал с себя горчичники, облегченно застонал и сказал:
– Все. Больше ни минуты. Не мучайте его, товарищ Ястребов, в Москве с ним об этом не уговаривались – я тому свидетель. Впрочем, простите, может быть, я залезаю не в свою компетенцию…
– Иван Ильич, – сказал Ястребов, – я взываю к твоему сердцу.
– А я к твоему, – сказал Савостьянов.
Янош тихо поднялся и пошел к двери, кутаясь в одеяло. Они б так и не услыхали, что он уходит, – только одеяло было длинное, а Янош маленький. Запутался он ногами в одеяле. Упал. И так он посмотрел на Ястребова и Савостьянова, и так он на полу шарил, чтобы отыскать свои очки, что не выдержал Ястребов и, отвернувшись к окну, засопел, а Савостьянов грохнул кулаком по столу и сказал:
– Вот, твою мать!
Генерал Дрыжанский даже не предложил полковнику сесть.
– Анатолий Иванович, вы меня, право слово, удивляете.
– Господин генерал, но, по агентурным данным, они ж из Троицкого уехали в Тулу и оттуда не вылетали.
– Ну так что – архангел с неба спустился, да?! Вот, – генерал ткнул пальцем в донесение, – черным по белому: самолет с комиссаром ушел. Вчера ночью сел, заправился, а сейчас ищи ветра в поле!
– Но, Иван Ильич…
– Что Иван Ильич?! Он под комиссаровым дулом летит. Иван Ильич! А вы, понимаете, по ночным кабакам расхаживаете вместо того, чтобы ждать их на месте… Ну что я теперь доложу главнокомандующему? Уже и союзнички звонят…
– Мой генерал…
– Да прекратите вы меня называть «мой» генерал! Я не «ваш» генерал, а просто генерал! Французские штучки, понимаете… Совсем забыли про дисциплину, про элементарные начала воинского такта… Свяжитесь со Шкуро, узнайте через нашу агентуру у зеленых – старайтесь их перехватить там, что ли…
В кабинет втолкнули маленькую девочку – еще ребенка – ту, что вместе с «Сашкой-купчишкой» на подводе бензин везла в лес для самолета, в котором летел Самуэли. Избита, платьишко разорвано, стоит – плачет, трясется, ручонки на груди сжимает.
– Сядь, – сказал генерал, – сядь. Ну, ты что, как заяц в половодье? Побили тебя? Ну и правильно побили.
– Ты пойми, – доверительно улыбаясь и склоняя голову к девичьему уху, заговорил полковник, – мы ж у тебя не спрашиваем про то, что будет, – про то, что было, расскажи. Это ж вреда никому не принесет. Вот ты русская, а про чернявого молчишь. Сидел во второй кабине чернявый? Да? Смотри, Галя, господин генерал сейчас рассердятся и велят твою мамашу обидеть нашим казакам. А знаешь, как казаки обижают? Взводом обижают – до смерти…
– Мамочка, мамочка, мамочка, – затряслась девочка, – мамочка моя…
Полковник быстро взглянул на генерала, тот сидел, отвернувшись к окну, курил.
– Ну, видишь, господин генерал говорят, что не тронут твою маму, давай по-хорошему говори, по-нашему, по-русски. Чернявого покрываешь, а маму хотела на поругание отдать… Ну? Их сколько было-то? Трое или двое? Пилот высокий такой, видный, да? Да? Ну? Не бойся, говори, Галочка, ну.
Молчит девочка, затаилась, трясется, ни слова не отвечает.
– Ну, воля твоя, – сказал полковник. – Сама виновата. Век себе потом не простишь. Чернявых много, а мама – одна. Я вот свою покойницу каждую ночь вижу и думаю – ах, подлец, подлец, прости господи, как же мамочку не уберег…
– Хватит вам, право слово, – детей-то бы не вмешивали. Взрослых надо умных держать! – крикнул генерал последнюю фразу фальцетом. – Ее мать утром в камере на ее руках умерла!
В кабинете у Ястребова ранним солнечным утром Янош сидел рядом с ним за столом и читал шифровку из Москвы.
Самолет наркома Тибора Самуэли прошел районы, занятые деникинцами, и, удачно заправившись через наших товарищей в местах, находящихся под влиянием анархистов, взял курс на границу, к Львову.
Ястребов широко улыбнулся и сказал:
– Ну все. Теперь, считай, проскочили. Вам можно обратно, товарищ Янош, операция прикрытия себя в основном исчерпала. Они ждут вас, а Тибор Самуэли уже далеко-далеко.
– Вне сферы их досягаемости?
– Нет, конечно, в сфере досягаемости. Но теперь уже десять шансов из ста.
– Даже если бы был один, половина, тысячная доля шанса – я бы полетел дальше.
– Проще подписать себе смертный приговор. Все наши, принявшие товарища Самуэли в белом тылу, – арестованы. Савостьянов – вы же слышали. По-моему, лететь вам дальше нецелесообразно.
– Это приказ партии?
– Это мое мнение. Вы же идете на верную гибель…
Летит в небе маленький самолетик, снижается к земле, ведут его бинокли наблюдения из чащи, офицер опускает бинокль и шепчет:
– Господи, Иван Ильич!
Хватает трубку телефона, бьет по рычагу, кричит:
– Щука?! Я Лебедь! Летит одуванчик со скрипочкой!
Полковник Дайниченко вбегает к генералу без стука:
– Мой… господин генерал…
Тот, не опуская трубку от уха, махнул рукой, улыбнулся:
– Да, да, спасибо.
Парит самолет с выключенным мотором над колонной красноармейцев. Те самозабвенно поют Интернационал.
– Вы чьи? – кричит из кабины Янош. – Вы чьи, товарищи?
– Красные. А вы?
– Тоже, – машет им руками Янош, – сейчас сядем.
– По-моему, это не красные, – сказал Савостьянов хмуро.
– Почему?
– Зубов больно золотых много.
– Ну и что?
– Ничего… Большевики из золота собираются строить сортиры, и в рот себе буржуйский металл не вставляют.
– Садитесь, садитесь вы, право слово, – сказал Янош, – бензина ж нет…
Савостьянов включил мотор и повел самолет на посадку.
Подъехал к самолету «линкольн», на желтом сиденье – трое, бросились навстречу Яношу, обняли его – а ручки-то в кандалы – жик-жик – и с приветом.
А из лесочка бежит к самолету полковник Дайниченко Анатолий Иванович, заключает Савостьянова Ивана Ильича в объятия и в обе щеки засосом.
– От лица, – говорит, – всех нас спасибо за доблесть, полковник!
В кабинет к генералу, где сейчас сидели Анатолий Иванович и Иван Ильич, ввели Яноша. Ввели его, словно корову на рынок: впереди шел офицер и тащил за веревку, которая была наброшена на шею окровавленного Яноша.
– Боже мой! – генерал Дрыжанский даже всплеснул руками. – Что за вид! Кто посмел бить этого иностранца?
– Еле у жуликов его отвоевали, господин генерал, – ответил офицер, – камера вздернуть его хотела.
– Жулик – хоть и жулик, – сказал Анатолий Иванович, – человек, казалось бы, темный, а ведь, глядите-ка, тоже понимает, кого надо бить.
А Янош ни на кого не смотрит, только на Ивана смотрит пристально, а Иван хотел бы глаза отвести – не может, словно магнитом его притягивает к себе комиссар.
– Нуте-с, Иван Ильич, – сказал Анатолий Иванович.
– Может быть, сначала его к врачу? – сказал генерал. – Смотрите, как недоглядели ваши люди.
Янош усмехнулся, пожевал окровавленными губами, головой покачал: мол, поизящней надо бы вам роли распределять, поизящней.
– Или уж закончим формальность, да и к доктору? – предложил Анатолий Иванович и засмеялся. – А он соляную ванночку приготовит – прекрасное средство против побоев с открытой кровью!
– Перестаньте вы, право слово, – сказал генерал, – шутить надо тоже уметь.
– Старые принципы благородства, – сказал Янош, глядя в лицо государева пилота, – доброты и открытого мужества растоптаны… Давайте же, помогите жандармам, Иван Ильич…
Сидит Иван Ильич в полной полковничьей форме – с погонами и орденами – в подвальчике, поет ему Лизанька цыганскую песню, и пьет Иван горькую, по-русски пьет, европеец любой от такого брудершафта ноги протянет и богу душу отдаст.
А офицерики помоложе суетятся вокруг Савостьянова, семужки ему подкладывают, осетринки, хрустких грибочков, икорки паюсной.
– Ребятки, – говорит Иван, – я ж нищий. У меня, кроме эполет и орденов, за душой шиш. Правда, могу Владимиром расплатиться, в нем золота на грамм.
– Иван Ильич, да господи, это ж все реквизированное! Мы тут, как в коммунии: что хочешь – твое, только б способности были!
Иван намазал икры на ломоть хлеба, жирно намазал, и тому, что про коммунизм, в рот начал пихать:
– Давай, милый, за Москву первопрестольную, чтоб они там повымирали все, тогда без крови войдем. Давай, давай, закусывай! Молодец, ишь, как негр, стал черный! А мужицкое – мужицким и запивай!
Притихли вокруг, а Иван в бокал на пол-литра водку влил и говоруну в рот – силой – не силой – не поймешь, только всем как-то прохладно стало.
Подсел к Ивану Ильичу тот офицер, что Яноша волок на веревке к генералу, и сказал:
– Иван Ильич, полковник Дайниченко просит вас пожаловать на допросик… Там – умора! – с комиссаром упражняются…
– Я, между прочим, к жандармскому ведомству приписан никогда не был, – ответил Иван Ильич. – Я всегда был приписан к небу, подальше от подвалов…
– Да нет, там еще хотели бы вам очную ставочку дать с этим самым Тибором Самуэли.
– С кем-кем?!
– Да с венгром этим…
Задумался Савостьянов, спросил еще раз:
– Как, вы сказали, его величают?
– То ли Самуэли Тибор, то ли наоборот. Вы когда пожалуете на очную ставочку-с?
– Не пожалую вовсе, – ответил Иван Ильич.
– Так это не просьба, Иван Ильич, – сказал контрразведчик, – это приказание генерала будет, с вашего позволения…
Поднялся, откланялся и ушел.
Давешний поэт сказал:
– В последний свой час никого так не любишь, как палача, тебя истязавшего: он живой хоть, палач-то, а после все мертвое будет.
– Я тебя помню, – сказал Иван.
– Я тебя тоже, – ответил поэт.
– Ты продажная скотина, – сказал Иван.
– Ты тоже, – ответил поэт.
– Ты в дерьме подохнешь, – сказал Иван.
– Ты тоже, – ответил поэт.
– Ты молчи, – сказал Иван.
– Ты тоже, – ответил поэт.
– Иван Ильич, не надо, – попросила Лиза в тишине, – не надо, любимый.
– Ты отчего со мной так говоришь? – спросил Иван поэта.
– Ты знаешь, – ответил тот.
– Дурак – дурак, а дурак, – сказал Иван.
– Ты тоже, только ты – талантлив, – ответил поэт и плюнул Ивану под ноги.
В кабинете у генерала допрашивали Яноша. Анатолий Иванович Дайниченко, поправляя манжеты, чтобы не марать их во время составления опросного листка, настойчиво, но в то же время игриво спрашивал:
– Нет, вы уж все-таки ответьте, три часа воду в ступочке-с толчем: вы Самуэли Тибор или Тибор Самуэли? Я, знаете ли, по-вашему путаю: то ли у вас начало в конце, то ли конец в начале – ха-ха-ха…
– Как подданный иностранного государства, повторяю вам в сотый раз, – сказал Янош, – я буду говорить лишь в присутствии адвоката и только в том случае, если швейцарский консул будет присутствовать на этом допросе.
– Да какой тут консул, – радостно изумился полковник, – одних консулов большевики расшлепали, других, пардон, мы в суматохе… Они все, консулы-то, черные, поди народный гнев против них удержи. И в пенцнец – ни дать ни взять – сицилист.
– Не сицилист, но социалист, – поправил полковника Янош, – следите за фонетикой.
– Шутка-с, – ответил, полковник жестко, – нам не фонетика важна, а доходчивость до широких, так сказать, народных масс, среди коих вы свои сети разбрасывали.
Генерал, ходивший взад-вперед у окна, сказал, обернувшись:
– Ей-богу, Анатолий Иванович, эти словесные перепалки сейчас ни к чему. Послушайте, как вас там. Все имеет свои пределы: терпение тоже. У нас разворачивается победоносное наступление на Москву и Питер, в Будапеште тоже жарко, так что у нас нет нужды заниматься с вами слишком долго.
Дайниченко вышел в соседнюю комнату.
– Я хочу, – продолжал генерал, понизив голос, – чтобы вы не считали меня врагом, но, наоборот, видели во мне доброжелателя.
– Это как называется? – спросил Янош. – Это называется приглашением к танцу?
– Простите? – подался к нему генерал Дрыжанский. – Не понял?
– Вербуете?
– Ну зачем же, – ответил генерал, понизив голос еще больше, – я предлагаю вам английский вариант: «Кто кого»! Если вы окажетесь сильнее и дальновидней, то не я вас завербую, а вы меня.
В это время дверь отворилась и вошел Анатолий Иванович Дайниченко вместе с избитым человеком, которого поддерживали трое, а один, в белом, но местами сильно окровавленном халате, стоял возле маленького столика чуть поодаль и раскладывал на столике иголки разной величины и формы.
И был этим окровавленным человеком большевик-подпольщик Николай Марцыпанов – «Сашка-купчишка», что бензин подвозил для Тибора Самуэли, когда тот пролетал через белых.
– Ну, – сказал Анатолий Иванович, – давай, товарищ Коля, рассказывай: этот через тебя пролетал или другой? Раз? Два? Три? Мы начинаем, мой… господин генерал?
Генерал досадливо махнул рукой, обошел вокруг Яноша, близко заглядывая ему в глаза, и вышел из кабинета.
Загоняют иглы под ногти комиссару Коле, воет комиссар, а полковник суетливо кричит Яношу:
– Вот-вот, из-за вас сколько мук делают людям! Смотрите, смотрите внимательней!
А Янош со стула упал – потерял сознание от чужой боли. Ополоснули его водой, снова посадили на стул, а он как глянул на Николая, так снова сполз на пол. Снова его ополоснули водой, и тогда он сказал:
– Зря это. Я все равно этого видеть не смогу и слышатьтоже. Для своего удовольствия – можете продолжать.
– Чужой боли боитесь? Так, так… От своей, значит, завоете…
– Может быть. А что – приятно слушать человеческий вой?
– Вопль поверженного – это вроде немецкого анекдота: труп врага хорошо пахнет.
– Это антика, – сказал Янош, – вам бы интеллигентности поднабраться, господин жандарм. Без этого вы нас можете просто убить, а победить – никогда.
– Ну, это мы еще посмотрим, – ответил Дайниченко и приказал своим помощникам: – Давайте, давайте, продолжайте же, господа!
И когда комиссар Коля, сделавшись мучнисто-белым от невыносимой боли, зашелся в длинном вопле, Янош, по-звериному легко подпрыгнув, бросился «ласточкой» на Дайниченко и ударил его с лету головой в лицо.
Дайниченко грохнулся на пол, и лицо его сделалось мокрым и скользко-красным от крови. Контрразведчики бросились было на Яноша, но Анатолий Иванович остановил их и сказал:
– В камеру его… А вас, капитан, попрошу остаться.
И когда Яноша увели, капитан, тот, что таскал Яноша, словно корову, на веревке, сказал:
– Убить мало негодяя!
– Убить мало, – согласился Анатолий Иванович, утирая лицо большим сине-розовым носовым платком, – вы его сквозь строй проведите. Покажите солдатам и офицерам трусливого обморочного зайчишку в обличьи большевистского наркома. Это будет хорошая воспитательная профилактика для людей. А потом подберите ему в камеру хорошего агента – наркомы перед смертью обычно передают самое важное товарищам по партии.
– Кого, господин полковник? – вздохнув, спросил капитан. – Всю агентуру подрастеряли… Кого к нему в камеру подсадишь?
– Так никого и нет?
– Шаром покати. Тут человек семь завербовали – но все больше дамы. Не сажать же ему в камеру шансонетку?
Дайниченко потер надбровье мизинцем и предложил:
– Ну хорошо, поищите кого-нибудь среди офицерства…
– Не пойдут, – решительно ответил капитан. – Закон чести, открытый бой и всяческая прочая романтическая чепуха.
– Что ж, мне к нему в камеру садиться? – спросил Дайниченко. – Или вам?
– Тут я думал – если, конечно, вы одобрите, – сказал капитан, – поискать кого на гауптвахте, из арестованных офицеров. Насилие, мародерство, гомосексуализм.
Полковник досадливо покачал головой и сказал:
– Ну попробуйте, что ли… Хотя большого успеха я тут не предполагаю…
А в комнате у Лизаньки тем временем лежал в постели Иван Ильич, а Лизанька лежала у него на груди, и он гладил ее лицо, а она ласкалась как кошка, обхватив тонкими своими – словно хлысты – руками могучую Иванову грудь и не менее мускулистую, словно лепную, шею.
– Я и не думала, что вас встречу, – шептала она, – всех поразметало как ураганом, любимый вы мой…
– Ты меня не называй так, – попросил Иван.
– Как?
– Ну вот так…
– Любимый?
– Да.
– Почему?
– Потому что я тебя не люблю.
– Ну и что? – удивилась Лизанька. – Я-то люблю вас, мне больше и не надо ничего.
И надела на шею Ивану золотую цепочку с диковинным камнем:
– Талисман, – сказала она, – цены нет ему…
– Смешная ты девка, ей-богу, – сказал Иван. – Ну-ка, налей мне выпить.
Лизанька подбежала к столику (хороша, хороша, слов нет), налила в синий штофчик водки, принесла Ивану, присела на краешек возле него – любуется им, глаза аж замерли, словно у кошки.
– Любовь только нам нужна, – тихо сказала она, – бабам, а вы если нам себя любить не мешаете – больше и не надо ничего.
– Данте Алигьери.
– Не было у меня такого.
Иван взял Лизаньку за плечо, она придвинулась к нему сразу – только и ждала, как влюбленная дрессированная собачонка хозяйского приказа.
А Яноша тем временем раздели, бедолагу, только кальсоны ему оставили и вывели в огромное каре солдат. А посредине каре – шеренга, у солдат в руках шомпола, и пускают через эту шеренгу Яноша, подталкивают сзади – мол, иди, иди – и смеются, глядя на его худобу и на бессильную ярость в лице.
– Только попробовав пудинг, узнаешь, каков он, – сказал Янош громко, – этими словами начинается «Капитал» Карла Маркса. Я буду читать его вам, чтобы вам было не так скучно делать вашу работу. Начинайте.
Первый удар шомпола вспух на спине Яноша кровавой полосой.
– Товарное производство, начавшееся еще в период образования общества насилия над человеком… – читал Янош, проходя сквозь строй…
Идут по улице Иван Ильич и Лиза: мимо офицеры перед Савостьяновым мысок тянут, ладошки к козырьку взбрасывают картинно, немеют на месте от восторга и поедают глазами полковника, пилота убиенного государя. «А может, и не убиенного: говорят, его Лейба Троцкий в своем вагоне заместо повара возит – чтоб не исхудал, а в случае чего – на обмен за жизнь сгодится».
Штабс-капитан, знакомый Ивану Ильичу, прокричал с другой стороны улицы:
– Полковник, сейчас вашего венгерского наркома будут воспитывать, пошли полюбопытствуем?!
– Где? – спросил Савостьянов.
– На плацу. Идемте же…
Савостьянов обернулся к Лизаньке и сказал:
– Пойдем на привоз. Там хоть ряженкой отопьюсь, а то голова Годуновым ходит.
Открыл Иван ворота привоза, а там на громадной площади длинные дощатые столы – и за прилавками, вместо гомонящих, торгующихся сотен – три бабы: у одной – две картофелины, у второй – семь старых подков по кучкам разложены, у третьей – ракушки наподобие пепельниц выставлены. Молча стоят бабы, без голоса.
Долго ходил Иван, ставший маленьким среди этого громадного привоза. Остановился возле бабы с подковами, спросил:
– Что ж ты за эту ржаву хочешь?
– За одну – кило хлеба, за три – кило сала, за все – фунт сахара… С железом-то ноне туго…
И к словам ее – словно по заказу – заиграл унылую песню безногий, слепой инвалид с гармошкой, валявшейся в пыли, возле второго входа. В кепчонке у ног – пусто, никто не подает, только две редиски лежат с ботвой. Медленно пошел к нему Иван, опустился перед игравшим убогим на колени, впился в его лицо глазами, а когда тот кончил, спросил:
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?