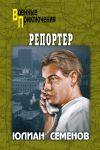Текст книги "Тайна Кутузовского проспекта"

Автор книги: Юлиан Семёнов
Жанр: Современные детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц)
Глава 17
…Приехав к себе в Поволжье летом тридцатого года, Михаил Андреевич Суслов, двадцативосьмилетний преподаватель марксизма-ленинизма, двинутый просвещать молодежь сразу после устранения из Политбюро Бухарина и Рыкова и исключения из партии Троцкого, Каменева, Смирнова, Зиновьева, Радека, Крестинского, Раковского и Преображенского, увидал в родной деревне такой голодный разор, что пришел в ужас: по ночам рубили яблоневые сады, растаскивали избы выселенных в сибирскую каторгу справных мужиков, нареченных отныне кулаками, и увозили в степные схроны то, что оставалось еще в сусеках.
Дядька, отдавший Мишаньку в церковно-приходское училище (мечтал направить по духовной линии смышленого мальца), говорил тихо, то и дело оглядываясь, хотя сидели на завалинке:
– Помрет русское село, племяш… Ты к власти близкий, донеси правду: мор грядет… У мужика свое отняли, он на чужой земле работать не сможет, ты ж Библию знаешь, нельзя противу естества идти, сгинет Русь…
Вернувшись в Москву, Суслов засел за изучение партийных документов, заново проконспектировал работы Сталина и лишь после этого написал ему письмо, в котором доказывал необходимость самой суровой борьбы против затаившихся оппозиционеров, которые мутят воду и сбивают с толку колхозника, только-только начавшего приобщаться к социализму.
Он ощущал возвышенное, странное чувство, сочиняя свое письмо, ибо понимал, что оно должно определить его судьбу на многие годы вперед; он совершенно точно понял, что Сталин – самый поразительный в истории человечества ренегат, ибо выписал на отдельные листочки отдельные цитаты из его выступлений только на протяжении двух лет, когда Сталин – руками Бухарина – уничтожил сторонников колхозного строя во главе с Каменевым и Зиновьевым, а потом уничтожил Бухарина, последовательного противника закабаления мужика.
…В двадцать шестом, валя Троцкого, Каменева и Зиновьева, генеральный секретарь утверждал:
«Индустриализация страны может быть проведена лишь в том случае, если она будет опираться на постепенное улучшение материального положения большинства крестьян…»
«Чем была сильна зиновьевская группа? Тем, что вела решительную борьбу против основ троцкизма. Чем была сильна троцкистская группа? Тем, что она вела решительную борьбу против ошибок Каменева и Зиновьева…»
«Мы все, марксисты, начиная с Маркса и Энгельса, придерживались того мнения, что победа социализма в одной, отдельно взятой стране невозможна… Вот что говорит Энгельс: «Может ли революция произойти в одной стране? Нет. Крупная промышленность уже тем, что она создала мировой рынок, так связала между собой все народы, что каждый из них зависит от того, что происходит у другого. Поэтому коммунистическая революция будет не только национальной, но произойдет одновременно во всех цивилизованных странах, то есть по крайней мере в Англии, Америке, Франции и Германии… Правильно ли это положение теперь? Нет, неправильно…»
(Суслов не удержался, черканул: «Потому что власть сделалась собственностью тех, кто пришел наверх»; испугался, порвал на мелкие кусочки, вышел в коридор, заперся в сыром сортире и спустил бумажки в унитаз; ночью проснулся в ужасе: а вдруг какой засор – всплывет?)
«Товарищ Троцкий, видимо, не признает того положения, что индустриализация может развиваться у нас только через постепенное улучшение материального положения трудовых масс деревни… Рост частного мелкого капитала в деревне покрывается и перекрывается таким решающим фактором, как развитие нашей индустрии».
«Разве партия когда-либо говорила, что полная, окончательная победа социализма в нашей стране возможна и посильна для пролетариата одной страны? Где это было и когда – пусть укажут нам…»
«Партия не терпела и не будет терпеть того, чтобы оппозиция пыталась конструировать отношения между крестьянством и пролетариатом не как отношения экономического сотрудничества, а как отношения эксплуатации крестьянства пролетарским государством».
«Что значит политика разлада с середняком? Это есть политика разлада с большинством крестьянства, ибо середняки сейчас составляют не менее шестидесяти процентов всего крестьянства…»
«Недавно на пленуме ЦК и ЦКК Троцкий заявил, что принятие конференцией тезисов об оппозиции должно неминуемо привести к исключению из партии лидеров оппозиции. Я должен сказать, что это заявление товарища Троцкого лишено всякого основания, что оно является фальшивым…»
И спустя полтора года, после того как Троцкий был исключен из партии, отправлен в ссылку, а затем выдворен из страны, – поворот на сто восемьдесят градусов:
«Группа Бухарина требует – вопреки политике партии – свертывания строительства колхозов и совхозов, утверждая, что совхозы и колхозы не играют и не могут играть серьезной роли в развитии нашего сельского хозяйства. Она требует – тоже вопреки партии – установления полной свободы частной торговли и отказа от регулирующей роли государства в области торговли, утверждая, что регулирующая роль государства делает невозможным развитие торговли… Одновременно группа Бухарина обвиняет партию в том, что она ведет политику «военно-феодальной эксплуатации крестьянства…»
Суслов помнил, как группа молодых «красных студентов» из Поволжья, запершись в маленькой комнате Власова, ликующе шепталась о том, что после изгнания из ЦК Троцкого, Зиновьева, Каменева, Радека засилье «малого народа» кончилось; именно они, представители «малого народа», шли с атакой на вековечный уклад русского крестьянства, которое было для них безликой массой, никогда ими не понимавшейся.
Однако Суслов боялся признаться себе в том, что, изучая речи Сталина на съездах партии, он не мог вычеркнуть из памяти слова Иосифа Виссарионовича, произнесенные в девятнадцатом году, когда тот поддерживал Предреввоенсовета Троцкого: «Я должен сказать, что те элементы, нерабочие элементы, которые составляют большинство нашей армии, – крестьяне, не будут добровольно драться за социализм… Отсюда наша задача – эти элементы перевоспитать в духе железной дисциплины, заставить воевать за наше общее социалистическое дело…»
Суслов был готов уже в двадцать восьмом открыто выступить против «малого народа» в партии, набросал ряд заготовок, понимая, что такого рода выступление будет угодно Генеральному секретарю, сказавшему довольно громко старому большевику Сосновскому: «Что ты вяжешься с партийными раввинами?! Ты ж русский! С нами б тебе и идти, отрекись – дадим хороший пост…»
Что-то, однако, сдержало тогда Суслова, и он потом только диву давался своей проницательности, прочитав интервью Генсека еврейскому телеграфному агентству США – после того как на Западе стали открыто говорить об «общепартийном еврейском погроме», учиненном Сталиным под напором черносотенного крыла партийных новобранцев:
«Антисемитизм, как крайняя форма расового шовинизма, является наиболее опасным пережитком каннибализма. Антисемитизм выгоден эксплуататорам, как громоотвод, выводящий капитализм из-под удара трудящихся. Антисемитизм опасен для трудящихся, как ложная тропинка, сбивающая их с правильного пути и приводящая их в джунгли…»
…Сочиняя свое письмо Сталину об «идеологических диверсантах» в колхозах, молодой преподаватель марксистско-ленинской теории прекрасно понимал, что он совершает акт особенный, клятвопреступный, но все происходившее в стране убеждало его, что именно такой поступок позволит ему подняться так, что помощь несчастному народу станет делом реальным, ощутимым, весомым, а не митингово-декларативным, пустым, начинавшим постылеть людям, уставшим от посулов, дрязг и постоянной напряженной нестабильности…
И в тридцать первом году, после получения сусловского письма генсеком, дотоле никому не известный преподаватель марксистской теории сделался ответственным сотрудником ЦКК ВКП(б); именно через его руки прошел разгром группы Рютина, решившего – первым в истории партии – уничтожить тирана, захватившего власть; именно он в тридцать четвертом году исключал из партии лучших ленинградцев, верных Кирову; именно он готовил материалы на всех «командиров производства», строителей Днепрогэса, Кузбасса, Сталинградского тракторного, за что и был в тридцать седьмом поднят к руководству, а вскоре введен в ЦК и Верховный Совет и направлен первым секретарем Ставропольского крайкома партии – в кабинет человека, за неделю перед тем брошенного в камеру пыток.
Именно он, Суслов, планировал варварское выселение чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев, получая сводки про то, сколько скрывшихся от депортации было выловлено и поставлено под пулемет. Оттуда Сталин перебросил его в Вильнюс, только-только освобожденный от оккупации. Там председатель Бюро ЦК Литвы Суслов осуществил депортацию двухсот тысяч литовцев, в первую очередь крестьян; тут у него случился первый припадок эпилепсии; отсюда он приехал в Москву, на Старую площадь, став секретарем ЦК.
Здесь он погрузился в кураторство идеологией, готовил разрыв с Тито и, затаившись, планировал решающий удар по космополитам, загодя изучая оперативную информацию по делу еврейских врачей; Сталин хотел, чтобы этот спектакль носил ярко выраженный эмоциональный оттенок, никаких двусмысленностей, пришло время открыто плевать на все и всякие еврейские информационные агентства США, с которыми нельзя было не считаться в условиях всесоюзного голода, людоедства, разрухи – тогда еще Сталин побаивался гнева народа, теперь он убедился в том, что снесут все, а уж голод – тем более, стоит только заранее обозначить тех чужих, которые во всем этом повинны…
Суслов правил статью, написанную для «Правды»: «Американская разведка направляла преступления большинства участников террористической группы (Вовси, Коган, Фельдман, Гринштейн, Этингер и другие). Эти врачи-убийцы были завербованы международной еврейской буржуазно-националистической организацией “Джойнт”, являющейся филиалом американской разведки… Во время следствия арестованный Вовси заявил, что он получил директиву об “истреблении руководящих кадров СССР” через врача в Москве Шимелиовича и известного еврейского буржуазного националиста Михоэлса…»
Он же, Суслов, редактировал заготовку, рожденную в аппарате заместителя министра Рюмина: «Подлая рука убийц и отравителей оборвала жизнь товарищей Жданова и Щербакова… Врачи-преступники умышленно игнорировали данные обследования больных, ставили им неправильные диагнозы, назначали неправильное, губительное для жизни лечение…»
Как и тогда, в тридцатом, сочиняя письмо Сталину, в котором винил троцкистов и бухаринцев в агитации среди крестьянства против колхозов, хотя знал, что против колхозов в эмиграции уже выступал Троцкий, а Бухарин был вынужден колхозы поддерживать – поди не поддержи, не на Принцевых островах живешь, а дома, под надзором ГПУ, – Суслов сейчас правил и редактировал бреднис какой-то отрешенной вдохновенностью, зная прекрасно, что Сталин спаивал Щербакова, а Жданова не пускал в отпуск, даже когда тот же доктор Коган писал о необходимости серьезного кардиологического обследования «дорогого товарища Жданова»…
Чем явственнее Суслов знал правду, тем вдохновеннее и атакующе писал ложь, находя в этом какую-то жмущую сердце злость к себе, к своей растоптанной жизни, брошенной на алтарь того дела, которое представлялось ему единственным и главенствующим…
Когда после смерти Сталина он был выведен из Президиума ЦК вместе с Брежневым, когда ощутил ватную стену отчуждения вокруг себя, ибо на Старой площади все знали его преданность Сталину, он пошел ва-банк и попросился на прием к Хрущеву – сразу после речи Маленкова на сессии «Верьховного» (иначе произносить не умел) Совета, сделавшей Георгия Максимилиановича самой популярной фигурой в стране.
– Никита Сергеевич, – сказал он тогда, – Родина отблагодарит вас за свержение грязного югославского шпиона Берии, но неужели вы не понимаете, что присутствие Маленкова в главном кремлевском кабинете не гарантирует нас от опасности нового термидора? Он же спит и видит, чтобы убрать вас, а никто, кроме меня, не может подготовить материалы на Маленкова; хотите вы того или нет, но я – единственный, кто работал под его непосредственным руководством…
Именно этот разговор изменил судьбу Суслова – в очередной раз; несмотря на то что Хрущев достаточно долго колебался, стоит ли ставить на того, кто изгонял в Сибирь целые народы, механика борьбы за власть подвигла его на то, чтобы уже в пятьдесят пятом году, когда Маленков был сброшен и стал министром электростанций, рекомендовать Михаила Андреевича в состав Президиума ЦК.
Именно Суслов выступил на пленуме против Маленкова, Молотова и Кагановича, отмежевавшись, таким образом, от общего с ними прошлого; именно он – спустя семь лет – стал инициатором свержения Хрущева, именно он начал создавать культ Брежнева – больной, эпилептик, вечно мерзнувший, надевавший калоши уже в сентябре и запрещавший шоферу ездить с дачи на Старую площадь быстрее, чем сорок километров в час; несчастным водителям приходилось тащиться на третьей скорости, сверхмощный мотор ЗИЛа жрал тридцать пять литров бензина на сто верст пути, в автобазе сокрушенно качали головами, особенно после того как все звенья партаппарата начали изучать новое теоретическое открытие Леонида Ильича о том, что «экономика должна быть экономной»…
До последнего дня своего он поддерживал Лысенко, не позволяя задевать его в печати ни единым словом; организовал атаку на Дубчека, вторжение в Чехословакию; первым проголосовал за высылку Сахарова в Горький; требовал ареста Валенсы и все более тщательно калькулировал процент инородческого элемента в партийном и государственном аппарате, закрывая некоторые посты даже для украинцев:
«Там еще не до конца изжиты западные тяготения, ставка должна делаться на уроженцев восточной части России, тлетворные влияния Европы туда достаточно трудно досягаемы…»
Будучи по природе пуританином, он свято исповедовал мораль и жил, понимая свою трагическую разрубленность: с одной стороны, он видел себя, знающего всю Правду об ужасе коллективизации, а с другой – существовал и действовал как человек, предавший эту правду, сделавший все, чтобы эта ужасная правда стала «клеветой, работой врагов, злонамерением оппозиции, нацеливавшей свое жало против великого марксиста-ленинца нашей эпохи…
Понимая, что в нем соседствуют две взаимоисключающие личности, он искал оправдания этому ужасному, разъедающему мозг и сердце (атеросклероз начался еще в тридцать седьмом) состоянию. Он искал оправдания тому, что с ним стало, не в себе самом, но в тех объективных причинах, которые привели его к этой трагедии.
Постепенно, не сразу, исподволь в нем родилась твердая схема: да, я пошел на жертву, отдав на закланье главному делу жизни собственную нравственную целостность, я был обязан пробиться вверх, чтобы отсюда, с Олимпа, быть по-настоящему полезным несчастному русскому народу, ставшему объектом игры в руках членов Политбюро – евреев (Троцкий, Каменев и Каганович), грузин (Сталин и Орджоникидзе), украинцев (Кириченко и Шелест), армян (Микоян), белорусов (Мазуров и Машеров), финнов (Куусинен), латышей (Пельше).
Он ломал себя, приучая – год за годом – к тому, чтобы постигнуть великую науку ожидания; он делал все, чтобы места белорусов и финна в Политбюро были переданы русским, армянина – русскоориентированному казаху, латыша – русскоориентированному украинцу или же, что еще лучше, русско-украинскому полукровке с последующей заменой на чисто русского партийца.
Он видел, что Брежнев совершенно сдал, дни его сочтены, он напряженно и последовательно готовился к тому, чтобы стать первым лицом, возглавив Политбюро, и поэтому делал все, чтобы имя Леонида Ильича, который подарил стране двадцать лет благостного спокойствия, отмеченного печатью державной, солидной неторопливости, свойственной истории Российской империи, было прозрачно-чистым; он, именно он, Суслов, сможет явить человечеству первый пример того, как наследник не поносит имя предшественника, но, наоборот, делает все для возвеличения его памяти: никогда такого, увы, не было – теперь будет новая страница в развитии державы. Умные историки, заранее расставленные им на ключевые посты в науке, смогут объяснить этот феномен преемственности, столь угодный будущему. Хватит, надоело отрезать прошлое! Как ни пытались отрезать Сталина – не вышло, силу не отрежешь, только слабость исчезаема, из ничего не будет ничего, так угодно Провидению…
Именно поэтому, начав атаку на Цвигуна, провалившего дело опеки семьи Леонида Ильича, позволившего потечь гнусным слухам о тех, кого так любил Генеральный секретарь, Суслов преследовал свою тайную цель: уже при жизни Брежнева сделаться его добрым опекуном, неназванным поводырем, человеком, радеющим об имени первого лица более, чем само первое лицо…
Суслов знал, что сентиментальность Брежнева может в любую минуту обернуться неожиданностью. Когда генерал армии Епишев, комиссар Советской Армии, доложил ему о том, что режиссер Роман Кармен пошел на поводу у американцев, снимая свой фильм «Неизвестная война» (нашел кого приглашать в комментаторы; лицо кинозвезды Ланкастера вполне типично, смотреть противно, и здесь примазались, ничего не поделаешь, свой свояка видит издалека), Суслов позвонил в Госкино и задал всего лишь один вопрос, понимая, что именно вопросительная краткость вызовет в Гнездниковском переулке смятение:
– А что вы думаете о роли русского народа в фильме «Неизвестная война»? Или отдали право на это размышление главному противнику?
(«Главным противником» в ту пору определялись Соединенные Штаты Америки.)
Вообще чем дальше, тем чаще он ловил себя на том, что подражает незабвенной памяти Иосифу Виссарионовичу в манере говорить, вести заседания Политбюро и общаться с теми деятелями литературы и искусства, которых порою считал нужным вызвать к себе в кабинет.
Он принял Галину Серебрякову – как-никак написала книгу о Марксе, отсидев в концлагерях добрых семнадцать лет, не озлобилась, гордилась членством в партии, которое ей вернули без перерыва в стаже; довольно стойко перенесла и то, что на Ленинском комитете ее смогли искусно забаллотировать и не дать премии.
Он полагал, что Серебрякова станет просить поддержки при новом туре голосования, видимо, поставит какие-то житейские вопросы – квартира или дача, – однако она стала говорить о другом, неожиданном:
– Михаил Андреевич, ведь вы же знаете, как и я, что ни Бухарин, ни Каменев, ни Серебряков, ни Крестинский с Сокольниковым никогда не были ничьими шпионами! До каких пор мы будем унижать друзей Ленина сталинской ложью? Честные люди, они высказывали свое мнение – вот их вина. Каким бы сложным человеком ни был Троцкий, но ведь он в своем поезде наркомвоена сделал сто сорок тысяч километров по фронтам Гражданской…
Суслов поднялся из-за стола, походил по кабинету, потом подошел к огромному сейфу и положил узкую ладонь, казавшуюся бессильной, изнеженно-девичьей, на выпуклый замок.
– Они у меня все здесь, – сказал он тихо, с внезапной болью, удивившей его самого. – Они тут лежат, товарищ Серебрякова, замкнутые… И пока партия доверила мне этот кабинет, возврата к вопросу, который вы ставите, не будет… Товарищ Гроссман вам говорил, наверное, что я беседовал с ним по поводу его рукописи… Талантливо? Да, если страшное можно назвать талантливым… Но издана его книга – ранее чем через сто лет, а то и двести – не будет, нельзя этого делать, я слишком хорошо знаю мой народ, товарищ Серебрякова. Мы, русские, только внешне спокойны и неторопливы, а на самом-то деле нет людей более горячих, чем мы, вам же приходилось видеть наших в лагерях и тюрьмах… Только следуя линии власти, можно сохранить стабильность… Кулачные бои не французская забава и не английская – наша…
– Немецкие бурши сражались не кулаками, Михаил Андреевич, а кинжалами…
– Русы и пруссы – это не случайная близость, товарищ Серебрякова… Это неподнятый пласт языкознания… Мы близки не только духом, но и кровью. Боярин Кобыла не русак, а пруссак, а ведь был близок к тому, чтобы сесть на наш трон… Так что мой вам совет: не возвращайтесь к той теме, которую подняли, вас не поймут… Я – во всяком случае…
…Госкино доложило Суслову, что с Карменом проведена довольно жесткая беседа, затребован сценарий – для вторичного контрольного прочтения, указано на неточность позиции в отношениях с американской стороной и артистом Ланкастером.
Епишев благодарил сердечно, сказал, что теперь у его аппарата развязаны руки, Кармена вызовут в ПУР для крутой беседы, хватит чикаться с писаками, продыху нет от этих сратых «интеллектулов».
– Интеллектуалов, – поправил Суслов. – Но смысл, конечно, не меняется, вызов традициям, никогда это слово в нашем лексиконе не употреблялось, внесено чужаками, в этом, пожалуй, я согласен с Солженицыным, с его «образованщиной»…
Но через три дня на приеме в Большом Кремлевском дворце Брежнев, заметив Кармена, приглашенного, как обычно, с Майей, женою его, любимицей аппарата Генерального секретаря, совершенно неожиданно для всех покинул свое председательское место за столом Политбюро и направился к пепельно-бледному Роману Лазаревичу, распахнув руки для объятия задолго перед тем еще, как приблизился к нему.
Прижав к себе худенького, хрупкого Кармена, он спросил:
– Слушай, а ты помнишь, когда мы с тобою впервые познакомились?
– В Кремле, – ответил Кармен, – на первой встрече с деятелями искусства…
– Это при Никите Сергеевиче, что ль?
– Да.
Брежнев покачал головой:
– Нет, Роман, короткая у тебя память… Было это в сорок первом, на Украине, я засел с моей «эмочкой» в кювете, а ты мимо ехал, дорога пустая, немец бомбит, танковый прорыв, не выберешься – пристрелят… Все неслись мимо, как мы руками с шофером ни махали, только ты остановился и втроем с твоими товарищами машину мою из кювета вытащили… Ты еще сказал: «С тебя бутылка, подполковник»… Я ответил, что, мол, сейчас отдам, а ты посмеялся, воевать, сказал, надо, а пьяным только дурак воюет… Вот я и решил тебя сейчас при всех отблагодарить, добро не забываю, зла не прощаю, спасибо, Роман.
И Суслов, и Епишев – как, впрочем, и все, собравшиеся в зале, – видели это объятие; Епишев подскакал к Кармену первым: «Роман Лазаревич, ты ж наша гордость, фронтовик, ветеран, герой, на тебя вся надежда, нажми на американцев, чтоб твое кино как следует поднять, ведь такая замечательная работа»…
Суслов горестно подумал: «Никому нельзя верить, предадут вмиг, что за народ. Боже праведный!»
Он никогда не мог забыть, как его помощник Воронцов принес ему свой комментарий, написанный совместно с молодым профессором филологии Феликсом Кузнецовым, о том, как еврейская банда ГПУ погубила Маяковского, включив в операцию по травле великого поэта своего давнего агента Лилю Брик, сестру печально знаменитой еврокоммунистки Эльзы Триоле, жены Луи Арагона, одним из первых восставшего против «диктата московского ЦК».
Суслов довольно долго изучал воронцовский документ, понимая, что такого рода публикация вызовет однозначную реакцию на Западе и весьма неоднозначную в России. После колебаний он склонился к тому, что вертикализация национального характера значительно важнее европейского брюзжания; в конце концов Россия – для русских, а не для французов с итальянцами; согласие на публикацию дал, хотя попросил смягчить некоторые формулировки: «Лишний гвалт нам не нужен, бить надо фактами».
Воронцов отправил рукопись – комментарий к Собранию сочинений Маяковского, издававшегося «Огоньком», – в Главлит, несмотря на то что Анатолий Софронов просил Воронцова убрать ряд абзацев – «слишком остро, не поймут». Тот посмеялся (лежал в «кремлевке», на Мичуринском, отдохнул, чувствовал себя прекрасно): «Боишься шабаша, Толя? Если не мы их, значит, они – нас, усвой это правило диалектики».
Однако руководящий работник Главлита отказался подписать этот комментарий в печать: «Я слишком русский человек и поэтому не могу позволить себе мазаться антисемитизмом; наши аристократы не подавали руки жандармам и юдофобам».
Воронцов поначалу оторопел, а потом даже рассмеялся:
– Слушайте-ка, вы на кого работаете, а?
– На партию, – ответил тот. – То есть на интернационализм.
– Вы мне лозунгами не отвечайте. Вы знаете, кто я? Знаете. Вот и извольте выполнять указание.
Этим же вечером Константин Симонов, к которому Брежнев питал удивительную почтительность, даже на сталинградские торжества приглашал с собою на трибуну, отправил письмо Генеральному секретарю; тот позвонил Суслову домой, на Бронную, вечером:
– Чем там твой помощник занимается, Михаил? Фронтовики протестуют, не надо меня ссорить с творческой интеллигенцией…
Суслов немедленно связался со своей приемной и продиктовал «сидельцу» болванку приказа об увольнении Воронцова по собственному желанию на пенсию – с сохранением дачи, кремлевского пайка и клиники; самому Воронцову звонить не стал и дал указание впредь с ним не соединять…
Сразу же после этого собрал совещание и нацелил Политпросвет на подготовку цикла теоретических конференций о научном вкладе Леонида Ильича в сокровищницу марксистско-ленинской мысли.
Информация о том, что Цвигун так ничего и не сделал, чтобы немедленно остановить расползание слухов о личной жизни сына и дочки первого лица, подвигла его на то, чтобы вызвать члена ЦК и Союза советских писателей, кинематографиста, генерала армии Семена Кузьмича Цвигуна из Барвихи, где тот приводил в порядок расшатавшуюся нервную систему:
– Если в течение недели вы не сможете положить конец гнусным сплетням, распускаемым о людях, которые далеко не безразличны Леониду Ильичу, если вы не добьетесь того, чтобы ни одна капля зловредной клеветы, гуляющей по Москве, впредь не марала имя человека, ставшего лидером всего прогрессивного человечества, – пенять придется на себя, призовем к партийной ответственности.
– Михаил Андреевич, но мне в таком случае необходимы санкции на чрезвычайные меры, иначе ни я, ни кто другой на моем месте не сможет прекратить слухи…
– Инстанция – не нянька! Раньше нужно было думать о мерах! Повторяю: если в течение недели порядок не будет наведен, кладите на стол партбилет, партия – не богадельня!
Суслов знал, что делал: он понимал, что Цвигун не может ответить ему исчерпывающе; что ж, в таком случае придется отвечать политику Андропову, который сумел выстроить себе замок из слоновой кости, спрятавшись в нем от грязи, которую переправляет на стол ему, секретарю ЦК, требуя подписи под каждым решением против тех, кто думал инако и поступал не как все, а по-своему, «якающе».
Требуя пустяшные – в свете всего происходившего в мире (Афганистан, Эфиопия, самиздат, «звездные войны», крах экономики, Камбоджа, либерализация Китая, постоянные заговоры против товарища Чаушеску со стороны эмигрантских террористов, ситуация на Кубе) – данные о том, как, в частности, развивается дело по задержанию убийц Зои Федоровой, пути которой якобы пересекались с тем, кто имел выходы на семью, аппарат Суслова постоянно атаковал вопросами Цвигуна и Щелокова, а те даже не могли толком переговорить друг с другом, чтобы выработать общую линию, ибо знали, что люди Андропова не спускают с них глаз: трагическая взаимоувязанность тотальной несвободы.
Суслов отдавал себе отчет в том, что, ударяя по Цвигуну, он одновременно бьет и по Андропову – одно ведомство; в этом был глубинный смысл задуманной им операции: Андропов давно перерос свой государственный пост; становился некоронованным королем политики, отодвигая, таким образом, его, Суслова, с кресла «номер два». Суслов при этом сохранял с председателем КГБ самые добрые отношения, как-никак ставропольцы, он там родился, я – состоялся, казачья косточка, мудрость и широта, вольница и смелость…
После очередного разговора с Цвигуном (вышел из кабинета второго человека страны смертельно бледный) Суслов встретился с Брежневым, который теперь бывал на Старой площади только три раза в неделю.
Говорили о Щелокове; слишком много нареканий, идут письма, нельзя не реагировать, Андропов, видимо, не сможет и дальше замалчивать факты.
Брежнев позвонил Председателю Совета Министров Тихонову.
– Слушай-ка, милый, – сказал он своим особым, сытым голосом, так говорил в минуты наибольшего напряжения (захлебно шутил с Твардовским за день до вторжения в Чехословакию, анекдоты рассказывал), – сделай милость, возьми себе заместителем Щелокова…
Тихонов засмеялся:
– Леонид Ильич, да он же вор! Самый настоящий вор! Казни, но в замы не возьму.
…Когда Цвигун застрелился, Брежнев позвонил Суслову:
– Зачем же ты так людей калечишь, а? Ну, виноват, ну, наказали б, но под пулю подставлять не надо… Он же был мне верен, как пес… Или тебе мои люди перестали нравиться? Может, считаешь, что пришло время окружать старика другими? Не рано ли меня хоронишь? Не думай, что в мое кресло сядешь, серым кардиналом не меня называют, а тебя, не меня критикуют в республиках, а тебя, запомни это… Я добрый-добрый, но до поры, шутить со злыми можно, они трусливые, а с добрыми не шуткуй – добрый человек силен… И уж если я твои архивы подниму – по тридцатым и сороковым годам, – повалишься так, что пол носом прошибешь… Народу ты накосил предостаточно, сотнями тысяч исчисляются, если не миллионами, уважаемый народный избранник…
…Он пожалел об этом разговоре назавтра, когда сообщили, что Суслов при смерти; на заседании Политбюро увидел холодные глаза Андропова, скрытые толстыми стеклами очков, угольки Горбачева, сидевшего рядом с «Юрой», бесстрастные – Громыко, единственного, с кем оставался на «ты», и понял вдруг, что остался совершенно один среди этих людей; только Суслов утирал слезы, когда он читал наизусть Есенина (знал почти всего, от корки до корки), остальные – рассеянно внимали; только Суслов стоял с ним плечом к плечу, защищая память Сталина; только несчастный старик в пенсне первым ставил вопрос на Политбюро о присвоении ему, Брежневу, очередной Звезды, не обращая внимания на то, что те же Горбачев и Андропов рисовали на стопках бумаги какие-то сложные диаграммы, стараясь не смотреть на кардинала…
…Вот тогда-то, после всех этих скандалов с артистами, будь они неладны – одну убили, другую ограбили, третьего посадили в острог, чтобы принести горе дочери, – он и начал задумываться о том, кто же примет из его рук империю, кто сохранит по нем благодарственную память…
Тогда-то он и сказал себе, что лишь Черненко или Гришин смогут сохранить то, что он создавал эти долгие и прекрасные двадцать лет, вот тогда-то он и решил лишить Андропова реальной власти, переместив из КГБ, отдав при этом всю кадровую политику Черненко, – в конечном счете все решает математическое большинство голосующих, что ж еще-то?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.