Текст книги "Спор о Белинском. Ответ критикам"
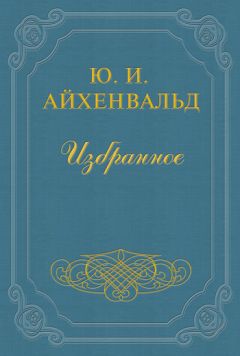
Автор книги: Юлий Айхенвальд
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
Белинский в предисловии к своей пьесе ни одним словом не намекает на ее общественный характер, и не слышится там даже более общий протест – против мировой несправедливости, против неба и религии. Нет, он написал своё произведение из чистого, бескорыстного побуждения выразить этот внутренний мир самого себя, этот мир собственных мыслей и чувствований, возбуждаемых в нем созерцанием этой чудесной, гармонической, беспредельной вселенной, в которой он обитает, назначением, судьбе, человека, сознанием его нравственного величия Эпиграфом к пьесе автор выбирает стих. Пушкина: «и всюду страсти роковые, и от судей защиты нет», – и этим тоже ответственность за несчастья героя определенно перелагает с России на судьбу и роковые страсти.
Когда Дмитрий, исповедуясь своему другу Сурскому, рассказывает, что он овладел Софьей без венчания, так как не «согласие родителей и „пустые обряды“, а „одна только природа соединяет людей узами любви“, то Сурский этим глубоко возмущается, признает его поступок „гнусным“, называет Калинина „обольстителем, нарушителем чести“, считает его „злодеем, подлецом“ (хотя и неумышленным), убеждает его, что он должен был побороть свою страсть, отказаться от Софьи, идти в военную службу, „в коей или пал бы на поле брани, как следует истинному сыну отечества, и вместе с горестною жизнью окончил бы и мучения свои, или бы отличился храбростью, покрыл себя славою, приобрел чины, достоинства и титла, которые столько уважаются всеми“. „Кто тебе дал право, – вопрошает Сурский, – назвать Софью своею женою без приличных и необходимых для сего обрядов?“ И что же? Все эти благонамеренные речи очень скоро, в продолжение того же диалога, вполне убеждают Дмитрия; он отказывается от своего пренебрежения к обрядам, от владевшего им только что сознания своей правоты (как это характерно для будущего Белинского!). „Торжествуй: ты прав! ты прав! Но для чего ты открываешь мне глаза!“ – восклицает наш герой с открытыми глазами. Точно так же если в пьесе прозвучит иногда как бы кощунственная нота („А Ты, Существо Всевышнее, скажи мне: насытилось ли моими страданиями, натешилось ли моими муками?..“), то и герой в испуге и ужасе перебивает самого себя, свою дерзкую речь и тут же кается, и сам автор немедленно принимает свои меры и к словам, похожим на хулу, делает примечание, искренне защищающее „чистые струи религии и нравственности“».
Вообще, Белинский в своей трагедии, как и во всей своей дальнейшей литературной деятельности, каждому яду готовит противоядие, каждой речи – противоречие, нейтрализует самого себя и вырывает жало у своих отрицаний. Это с его стороны совсем не умысел – это его мышление.
Таким образом, невинное негодование Дмитрия против рабства и тирании, его горячность, его последний клик: «Свободным жил я, свободным и умру» – все это ни в каком случае не может быть понято в смысле определенного протеста, и если, например, г. Бродский (на 29-й стр. своей статьи-брошюры) находит несовместимым исповедание формулы: «православие, самодержавие и народность» с содержанием «Дмитрия Калинина», то это – простое недоразумение, которое сейчас же рассеется, если «Дмитрия Калинина» прочесть. Скорее триединый символ этой веры берется там под защиту. Как произведение гражданственного характера, пьеса Белинского, по меньшей мере, бесцветна и безразлична: и показательны в этом отношении слова Дмитрия, что Софья «в одно и то же время трепетала при имени Брута, как великого мученика свободы, как добродетельного самоубийцы, и при имени Сусанина, запечатлевшего своею кровью верность царю»; а Софья в свою очередь говорит, что лицо Дмитрия пылало и глаза его сверкали, когда он читал о защитниках свободы и о Сусанине, который «жертвовал за царя своею жизнью». Того, кто писал такие строки, профессорская цензура обвинить в политической неблагонадежности не могла, и я повторяю, что в пьесе юноши должны были цензоров смутить и возмутить совсем другие мотивы, именно – те, которые были признаны безнравственными; и поскольку тему о нечаянном, правда, кровосмешении брата и сестры можно считать безнравственной, постольку цензоры были правы.
Так вот причины, по которым я при оценке общественности Белинского счел возможным не принимать в расчет «Дмитрия Калинина», где обе чаши гражданственных весов приведены в равновесие.
Да и где же, наконец, объективные основания, которые позволяли бы утверждать, как это делают гг. Дерман и Иванов-Разумник, что Белинский был уволен из университета за свою пьесу, что он «поплатился» за нее? Ведь сам Белинский пишет своим родителям, что хотя о «Дмитрии Калинине» «составили журнал, но после это дело уничтожено» и ректор сказал ему, бедному автору, что о нем «ежемесячно будут ему подаваться особенные донесения». Дело уничтожено. В письме к матери так о своем увольнении сообщает наш юный трагик: «Я не буду говорить вам о причинах моего выключения из университета: отчасти собственные промахи и нерадение, а более всего долговременная болезнь и подлость одного толстого превосходительства». Впоследствии, в письмах к разным корреспондентам, Белинский тоже ни разу, говоря о своем увольнении, не ссылается на «Дмитрия Калинина» как на причину университетской катастрофы: «А я так и просто был выгнан из университета за леность и неуспехи» (Белинский. Письма, 1914 г., I, стр. 87); «выгнанный из университета за леность студент» (Письма, I, стр. 345).
Инспектор и профессор Московского университета Щепкин, которого мы не имеем права подозревать в недобросовестности, доносит помощнику попечителя, «представляет во внимание его превосходительства», что «Белинский, сам чувствуя свое бессилие для продолжения наук, просил, в 1831 году, уволить его от университета и определить в канцелярские служители», но что следовало бы, не исполняя этой просьбы, совсем «уволить его от университета по слабому здоровью и притом по ограниченности способностей». Если бы у Щепкина были другие основания, если бы он имел в виду неблагонамеренность Белинского, проявленную им будто бы в «Дмитрии Калинине», то из-за чего же инспектор об этом умолчал бы и что же помешало бы ему в официальной и, вероятно, конфиденциальной бумаге поддержать свое ходатайство об увольнении студента ссылкой на его политическую неблагонамеренность, «представить о сем во внимание его превосходительства»? Разве такого рода аргументы не являются для их превосходительств самыми убедительными и решающими?
Правда, А. Н. Пыпин свидетельствует, что, по всем отзывам, какие ему приходилось читать и слышать, трагедия сыграла свою «положительную роль в исключении Белинского из университета».
Таким образом, самое большое, что может иной предположить, только предположить, это – что, по слухам, «Дмитрий Калинин» известную роль в увольнении Белинского сыграл. Но как это далеко от категоричности гг. Дермана и Иванова-Разумника! И я лично, пока мне не представят фактов, что причина или что даже одна из причин увольнения Белинского – «Дмитрий Калинин», имею право в это не верить, и этим правом я пользуюсь.
Я так задержался на вопросе о «Дмитрии Калинине» не только ради необходимой самообороны, но и для того, чтобы на этом примере показать, как неосновательно приписывают Белинскому «самые „протестующие“ взгляды» (выражение г. Иванова-Разумника), как неточно рассказывают его биографию и как вообще создается то, что я назвал легендой о Белинском.
В подтверждение своего взгляда, что либерализм Белинского, как и все его мировоззрение, отличается большой неустойчивостью, я, между прочим, указал на ту его страницу (отзыв о IV книге «Сельского чтения»), где он, после знаменитого письма к Гоголю, в 1848 году, опять славит «благотворное» влияние «просвещенного» русского правительства и «в отношении к внутреннему развитию России» считает царствование своего государя «самым замечательным после царствования Петра Великого».
Г. Евг. Ляцкий фактически неверно утверждает, будто я свое мнение о сочувственной поддержке Белинским русского шовинизма и официальных канонов обосновываю на этой «одной фразе», «придравшись» к ней: здесь мой рецензент просто невнимательно прочитал меня; и оттого, поблагодарив г. Ляцкого за выраженную им уверенность, что я только «не разобрался» в «эзоповском» стиле Белинского, а не допустил «заведомой» подмены одною понимания другим, поблагодарив его за великодушный отказ от обвинения меня в подлоге, я в данном пункте спорить с ним не буду, а выясню намеченный вопрос по рецензиям гг. Ч. В-ского и Бродского. Впрочем, и г. Бродский не прибавляет ничего нового сравнительно с тем, что говорит об этом г. В-ский, и оттого я позволю себе ограничиться ответом только последнему.
А г. Ч. В-ский говорит, что моя ссылка на приведенные слова Белинского – «злостный попрек» и что, в противность моему «ядовитому подчеркиванию», «никакого этического противоречия» между письмом к Гоголю и отзывом о «Сельском чтении» нет. По существу, г. Ч. В-ский выясняет, что поразившие меня слова Белинского получают в контексте его статьи иной характер: они вызваны-де слухами о предстоявшем освобождении крестьян, о знаках внимания со стороны Николая I министру государственных имуществ гр. Киселеву, стороннику эмансипации, и написаны, по-видимому, как и весь отзыв, «лишь ради радостного намека» на ожидавшуюся реформу. А если бы не так, то, очевидно, г. Ч. В-ский согласился бы со мною в оценке этих строк Белинского: ведь мой оппонент и сам замечает, что «после революционного, если угодно, письма к Гоголю» прославление в печати самодержавия было бы непоследовательно: «Подумаешь, действительно, какая отталкивающая неустойчивость!»
Г. Ч. В-ский защищает Белинского от того, в чем я даже его не обвинял, и потому бьет мимо цели. Я ни словом, ни намеком, ни попреком не указывал на этическое противоречие между письмом к Гоголю и рецензией на «Сельское чтение»; к яду, иронии, злости и прочим страстям вовсе я и не должен был прибегать для выражения той простой и прямой мысли, какую я высказал. А высказал я то, что Белинский свои прежние охранительные мотивы сменил затем, особенно в письме к Гоголю, совершенно другими звуками, «страстной лирикой трибуна», но что ни в каком случае нельзя поручиться, чтобы она была у него окончательной, и недаром уже после этой лирики он опять славил «благотворное» влияние «просвещенного» русского правительства и т. д. Как я думал и думаю, что Белинский вообще ненадежен, так, на почве моего общего изучения и понимания его деятельности, я и по этому поводу выразился в том же духе – именно, что нельзя ручаться за прочность его радикализма, и в одно из подтверждений своей мысли привел упомянутую цитату. Если революционер убежденно обращается в монархиста, то ничего этически дурного я в таком обращении не вижу и в этом не стал бы упрекать Белинского. Мне нужно было, повторяю, иллюстрировать только его характерную шаткость И вот она опровергается ли соображениями г. В-ского?
Я понимаю, отчего последний зальцбруннское письмо к Гоголю называет «революционным, если угодно». Оно, действительно, не совсем революционно. Наряду с такими тирадами, которые этого определения вполне заслуживают, гам, согласно обычной невыдержанности и чересполосности Белинского, ест и места, удивляющие своей неприятной умеренностью. Так, pia desideria нашего критика-публициста – это, между прочим, дважды высказанное пожелание, чтобы законы строго исполнялись «по возможности». Так, перечисляя «самые живые, современные вопросы в России», Белинский называет среди них «ослабление телесного наказания». Согласитесь, что это далеко от максимализма…[2]2
Правда, у Венгерова и Ляцкого читается «отменение телесного наказания». Г. Ляцкий в примечании к III тому «Писем» Белинского (с. 377) говорит, что здесь существуют разночтения: ослабление, уничтожение и отменение – и что «установить подлинный текст пока не представляется еще возможным». Г. же Венгеров в книге о Гоголе разрубает гордиев узел риторическим вопросом: «Вероятно ли, чтобы Белинский требовал только „ослабления“, а не „отменения телесного наказания?“» На этом прочном основании С. А. Венгеров ставит «отменение», хотя в копии Краевского, особенную достоверность которой признает сам С. А., мы читаем: «ослабление». Я же считаю вполне убедительными те соображения, которые по этому поводу высказывает г. П. И. Вишневский в своей упомянутой выше книжке «Н. В. Гоголь и В. Г. Белинский». Там, на с. 114, он отмечает, что не только в копии Краевского, хранящейся в Императорской публичной библиотеке, но и в самой ранней редакции письма, как оно напечатано в «Полярной звезде» Герцена, который непосредственно от Белинского выслушал черновик зальцбруннского послания, – значится «ослабление». «Уничтожением» или «отменением» впервые заменил это неприятное слово Пыпин (в 1876 г.), и получилось, как справедливо указывает г. Вишневский, «нечто не совсем складное»: если бы Белинский имел в виду «уничтожение» телесного наказания, то вместо повторения одного и того же слова он просто между словами «уничтожение крепостного права» и словами «телесного наказания» поставил бы и; или он употребил бы «более выразительное» и более употребительное, чем «отменение», слово «отмена». «Употребив выражение „ослабление“, Белинский сказал то, что сказал».
Не совершена ли здесь в самом деле некая pia fraus(«святая ложь»)?
[Закрыть]
В общем, тем не менее письмо к Гоголю революционно, – пользуюсь разрешением г. Ч. В-ского: мне это угодно признать. Но именно потому свидетельством неустойчивости Белинского я и считаю отзыв о «Сельском чтении». Слухи об освобождении крестьян, учреждение министерства государственных имуществ, внимание, оказанное Государем Киселеву (об этом так пишет Белинский в том письме к Анненкову, на которое ссылается г. В-ский: «Недавно Государь Император был в Александрийском театре с Киселевым и оттуда взял его с собою к себе пить чай: факт, прямо относящийся к освобождению крестьян»), – все это, я согласен, могло повлиять на Белинского, но это не могло бы поколебать его, если бы он действительно был убежденным революционером или радикалом. Находить в 1848 г. Николая I одним из «достойных потомков великого предка», «Моисея», т. е. Петра Великого: утверждать, что «с тех пор до сей минуты» Россия шла по мирному пути цивилизации; говорить вообще таким тоном – неужели все это (даже принимая во внимание, с одной стороны, цензуру, а с другой – слухи об эмансипации) является внутренним и органическим продолжением письма к Гоголю? Не исчезло ли куда-то революционное отношение к русскому самодержавию и не осталась ли зато неизменной поражающая изменчивость Белинского?..
Для меня в этом смысле очень показателен и тот факт, что тоже после письма к Гоголю, уже несколько месяцев спустя, Белинский в названном выше письме к Анненкову выражается так: «Вера делает чудеса – творит людей из ослов и дубин, стало быть, она может и из Шевченки сделать, пожалуй, мученика свободы. Но здравый смысл в Шевченке должен видеть осла, дурака и пошлеца, а сверх того, горького пьяницу, любителя горилки по патриотизму хохлацкому. Этот хохлацкий радикал написал два пасквиля, один на Государя Императора, другой на Государыню Императрицу. Читая пасквиль на себя, Государь хохотал, и, вероятно, дело тем и кончилось бы и дурак не пострадал бы за то только, что он глуп. Но когда Государь прочел пасквиль на Императрицу, то пришел в великий гнев. И это понятно, когда сообразите, в чем состоит славянское остроумие, когда оно устремляется на женщину… Шевченку послали на Кавказ солдатом. Мне не жаль его: будь я его судьею, я сделал бы не меньше. Я питаю личную вражду к такого рода либералам. Это – враги всякого успеха. Своими дерзкими глупостями они раздражают правительство, делают его подозрительным, готовым видеть бунт там, где ровно ничего нет, и вызывают меры крутые и гибельные для литературы и просвещения… Вот что делают эти скоты, безмозглые либералишки. Ох, эти мне хохлы! Ведь бараны – а либеральничают во имя галушек и вареников с свиным салом! И вот теперь писать ничего нельзя все марают. А с другой стороны, как и жаловаться на правительство? Какое же правительство позволит печатно проповедовать отторжение от него области?» (Письма, III, 318–320).
Я лично вполне соглашаюсь со взглядом Белинского на пасквили и с тем. что иные либералы мешают либерализму[3]3
Еще и такую характеристику либералам дает Белинский: «Все наши либералы – ужасные подлецы: они не умеют быть подданными, они холопы: за углом любят побранить правительство, а в лицо подличают не по нужде, а по собственной охоте» (Письма, II, 44).
[Закрыть]; но дело не в этом, а в том, что между письмом к Гоголю и письмом к Анненкову – очень большая разница и она тоже позволяет мне «страстную лирику трибуна», которую я услышал в первом письме, не считать со стороны Белинского окончательной и надежной.
По верному слову П. Н. Сакулина, я признаю Белинского «либералом весьма сомнительного свойства». Но это мое мнение все критики отвергают. Особенно Н. Л. Бродский. Казалось бы, ни в чем так не постоянен знаменитый критик, ни в чем он так не верен самому себе (насколько вообще можно говорить о постоянстве Белинского), как в своих политических воззрениях: единая яркая нить консерватизма проходит и через то, что он писал в 1831 году, и через то, что он писал в 1834 году, и через то, что он писал в 1837, 1839, 1843, 1846, 1848 годах. Но все это не убеждает Н. Л. Бродского, и он не считает Белинского в общественном смысле консервативным. В частности, по поводу «Литературных мечтаний» г. Бродский замечает, что я «напрасно киваю» на их последнюю страницу (ту, которая звучит сплошным панегириком и «царю-отцу», и «чадолюбивым монархам», и «мудрому правительству», и «благородному дворянству», и «знаменитым сановникам», являющимся посреди любознательного юношества в центральном храме русского просвещения возвещать ему священную волю монарха, указывать путь к просвещению в духе «православия, самодержавия и народности»): «еще С. А. Венгеров высказал догадку, что к ней приложил руку редактор Надеждин».
Во-первых, я на эту страницу, которую оба комментатора хотели бы вырвать из собственной книги Белинского, не «киваю», а без лукавства, прямо и определенно ее называю и цитирую; во-вторых, догадка г. Венгерова, к которой присоединяется и г. Бродский, столько же произвольна, сколько и праздна. Задаваться вопросом о том, как подобная страница попала к Белинскому, было бы уместно лишь в том случае, если бы в тексте его сочинений и писем она была инородным телом, если бы она противоречила другим его изъявлениям. Но ведь мы знаем, что и после, и раньше (в «Дмитрии Калинине») Белинский писал то же самое, высказывался в том же духе. Например, в письме 1837 года из Пятигорска к Д. П. Иванову (письме, которое я отчасти цитировал и в своем силуэте) совершенно же определенно славит Белинский русское правительство и поучает своего адресата, что «политика у нас в России не имеет смысла и ею могут заниматься только пустые головы»; что «Россия – еще дитя, для которого нужна нянька, в груди которой билось бы сердце, полное любви к своему питомцу, а в руке которой была бы лоза, готовая наказывать за шалости»; что «дать России в теперешнем ее состоянии конституцию – значит погубить Россию»: что «не в парламент пошел бы освобожденный русский народ, а в кабак побежал бы он, пить вино, бить стекла и вешать дворян, которые бреют бороду и ходят в сюртуках, а не в зипунах»; что у нас «все идет к лучшему» и причиною этому «установление общественного мнения… и, может быть, еще более того самодержавная власть», которая «дает нам полную свободу думать и мыслить, но ограничивает свободу громко говорить и вмешиваться в ее дела»; что блюсти цензуру и не допускать перевода некоторых иностранных книг – «это хорошо и законно с ее стороны, потому что то, что можешь знать ты, не должен знать мужик»; что если «правительство позволяет нам выписывать из-за границы все, что производит германская мыслительность, самая свободная, и не позволяет выписывать политических книг», то «эта мера превосходна и похвальна» (Письма, I, 91–94).
Что же, или и это письмо Белинского писал не Белинский, а кто-нибудь другой? Не построят ли наши ученые какой-либо «догадки» в этом направлении? Хорошо бы только обосновать ее во всяком случае не так, как это делает г. Бродский: предположение о принадлежности конца «Литературных мечтаний» не Белинскому, а Надеждину он находит «вполне возможным», потому что в это время кружок Станкевича, где вращался автор «Литературных мечтаний», «отрицательно относился к квасному патриотизму» и, значит, если Белинский, был «рупором кружка», он не мог быть «рапсодом формулы: „православие, самодержавие, народность“»… Эта аргументация была бы неотразимо-блестящей, но горе в том, что ведь это я, только я, считаю Белинского «рупором кружка», а не г. Бродский! Ведь последний, наоборот, пламенно выступал против этих слов моих и всеми силами защищал самостоятельность нашего критика. А теперь, забыв про это, он утверждает, что известных мыслей у Белинского не могло быть, так как-де их не мыслил кружок Белинского! Из кружка в порочный круг безвыходно попал здесь Н. Л. Бродский. И к этому его привело желание во что бы то ни стало признать Белинского либералом, т. с. прочесть то, чего последний не писал, и не читан, того, что он написал всеми буквами, явственно и несомнительно.
По своему обыкновению, г. Бродский для большей верности опирается и на авторитеты, подтверждающие либеральность Белинского: т. называет Герцена, Некрасова, Салтыкова и в другой плоскости, даже коменданта Петропавловской крепости и Дубельта, которые недаром же поджидали Белинского в «тепленький каземат и жалели, что смерть освободила его от тюрьмы».
Мое упорное нежелание считаться с авторитетами остается в силе. К тому же комендант Скобелева и Дубельта я даже не признаю в данном вопросе компетентными: я думаю, что 111 Отделение не всегда было право, что Дубелы иногда ошибался, что у русского правительства как у страха, были глаза велики. И неужто в самом деле статьи Белинского, даже если стоять на официальной точке зрения, справедливо «считались опасными, вредными»? Разве это не было одним из обычных недоразумений нашего строя? О письме к Гоголю я не говорю, – но ведь и в своем силуэте я признал его, наряду с некоторыми другими письмами, исключением из общего политического правила у Белинского.
* * *
Одним из наиболее частых укоров, предъявляемых ко мне обычно, а за силуэт Белинского в особенности, это то, что я лишен чувства исторической перспективы; как мило шутит П. Н. Сакулин, на моем рабочем столе в граненом хрустальном флаконе стоит какой-то «реактив на вечность». Вообще, о моем эстетизме много говорят мои оппоненты, попрекают меня им, и о методе имманентной критики, который я защищаю и который берет у писателя то, что писатель дает, они отзываются с убийственной насмешкой. Я не буду здесь касаться этих обвинений в их общей форме (тем более что конкретно ни один из моих рецензентов ни в одной ошибке против историчности меня не уличил), а рассмотрю этот пункт только в применении к моей характеристике Белинского. И так как упрек в антиисторизме преимущественно выдвигает против меня критик «Русского богатства» г. А. Дерман, то я по данному вопросу остановлюсь главным образом на его статье. Но чтобы уже не возвращаться к г. Дерману, я по дороге сделаю попытку опрокинуть и другие его сооружения, воздвигнутые против меня.
Первое впечатление, какое он вынес от моего очерка, это – «отсутствие скромности». Моя фраза: «То представление, какое получаешь о Белинском из чужих прославляющих уст, в значительной степени рушится, когда подходишь к его книгам непосредственно», – эта фраза истолковывается моим рецензентом так, что, по-моему-де, либо никто до меня не подходил к книгам Белинского, либо, «подойдя к ним и разрушив легенду в сердце своем, не нашел в себе мужества открыто об этом заявить».
Упреком в нескромности жестокий г. Дерман ставит меня в очень щекотливое положение: ведь если я, в ответ ему, стану доказывать свою скромность, я тем самым ее потеряю, не правда ли?.. Но делать нечего. Я должен напомнить г. Дерману, что есть pluralis majestatis (множественное возвеличивания (лат.)) и есть pluralis madesliae (множественное скромности (лат.)). Но множественное число, которое заключается в моих обобщающих безличных выражениях «получаешь» и «подходишь», это, конечно, pluralis второй категории. По существу, я говорю о себе, только о себе, о своем субъективном впечатлении; но чтобы свою личность не выдвигать, я и употребил форму безличную. Мне именно казалось, что так будет скромнее, – а вот подите ж! Своей шапкой-невидимкой я не боялся ввести кого-либо из сведущих людей в заблуждение, потому что однажды навсегда заявил о субъективности своих силуэтов и в предисловии к ним постарался даже ее принципиально обосновать. Этот мой субъективизм, этот мой импрессионизм как раз и служит основной мишенью для нападок на меня со стороны моих критиков; как раз потому они и находят мои взгляды необязательными (с чем согласен и я). А вообще иметь свои взгляды, в частности на Белинского, этого, я понимаю, не признает нескромностью и г. Дерман. Иначе идеалом скромности надо было бы считать Молчалина, который думал, что ему не должно сметь свое суждение иметь.
В скобках замечу, что не только г. Дерман, но и г. Иванов-Разумник забыл о субъективном характере моих характеристик. В самом деле, отбрасывая не только мою оценку Белинского, но и в связи с нею мой метод вообще, г. Иванов-Разумник именует последний «историко-литературным», утверждает, что сам я «в особой статье познакомил читателей с этим своим „методом“, и выясняет, „в чем слабость „историко-литературного метода“ г. Ю. Айхенвальда“».
Для меня загадка, почему слова «историко-литературный» г. Иванов, будто цитируя, упорно замыкает в кавычки и почему он ссылается на мою «особую статью», где я знакомлю якобы с «этим своим „методом“». Разве я в этой статье, которую читал же, конечно, г. Иванов-Разумник, коль скоро он на нее опирается, – разве я там или где-нибудь в другом месте называю и признаю свой метод «историко-литературным»? Разве в этой статье, наоборот, я своего метода не отмежевываю от историко-литературного? Разве суть и ересь ее не заключается именно в том, что я историко-литературный метод отвергаю? Какое же право имеет г. Иванов на кавычки? Или это ирония? Тогда над кем, над чем? Иронизировать над «историко-литературностью» моего метода, очевидно, можно было бы лишь в том случае, если бы я или кто-нибудь другой считал и называл его историко-литературным. И когда г. Иванов-Разумник провозглашает, что «критическая манера не есть историко-литературный метод», то ведь этим он меня не уничтожает, а меня, мою же главную мысль альтруистически поддерживает. Зачем же он с такими усилиями ломится в ту дверь, которую я сам широко раскрыл? Это с его стороны неэкономно и знаменует полную победу не надо мною, а над здравым смыслом.
Итак, г. А. Дерман осуждает меня за несоблюдение исторической перспективы. Мои указания на то, что Белинский не понял Баратынского, недооценил Пушкина, не принял Татьяны, г. Дерман признает «чудовищным непониманием сущности критики»; он видит в них требование с моей стороны, чтобы «Белинский знал не меньше того, что теперь известно» мне. И эти «упреки» мои «равносильны тому, как если бы нынче гимназист VI класса принялся укорять Аристотеля: – Как же это вы, милостивый государь, позволили себе утверждать, что природа боится пустоты? Стыдно-с! Давление воздуха, а „не боится пустоты“»!
Простим тон этой пошлой буффонады, развязность этого «милостивого государя» и вникнем в дело по существу. Если бы мои ожидания от Белинского взаправду были «равносильны» требованию, чтобы Аристотель обладал научными знаниями XX столетия, то это свидетельствовало бы о такой моей непроходимой глупости, что непроходимой глупостью было бы спорить со мною. Ведь только глупец оспаривает глупца. К счастью для нас с г. Дерманом, положение вещей не таково. Я, прежде всего, спрашиваю с Белинского не фактических знаний, а вкуса и оценки. И, затем, я их спрашиваю именно в пределах его эпохи, по мере исторической возможности. Разве, действительно, в то время, когда жили Пушкин и Баратынский, исторически невозможно было их понять и оценить? Разве не было тогда людей, которые принимали и Татьяну, и мудрость Баратынского, и многое другое, чего не принял Белинский? Я даже не думаю, что для этого надо было быть великим человеком; но, уж во всяком случае, те, которые считают Белинского великим критиком, гениальным критиком, которые безвкусно называют его «великий критик земли русской», – уж они-то наверное не имеют права его ошибки оправдывать ссылкой на его время: ведь тем-то великий и велик, что он больше своих современников. Если Белинский – только сын своей эпохи, рядовой представитель ее, страдающий ее естественной близорукостью, то за что же его так увенчивать? Недаром его панегиристы, противореча строгости своего же историзма, часто указывают, что Белинский стоял именно впереди своего времени. Так, сам г. Дерман, защищающий Белинского и Аристотеля от антиисторичных нападок моих и родственного мне по уму гимназиста VI класса, восторженно отмечает «поистине пророческую гениальность в таком чуде критического прозрения Белинского, как предсказание славы Достоевскому по его первой повести», чуждой в своем стиле господствовавшим формам. Что же, можно, значит, пророчески упреждать историю, гениальной мыслью преодолевать ее рамки, совершать «чудеса критического прозрения»?
Правда, выбранная г. Дерманом иллюстрация к этому тезису крайне неудачна и говори! не за Белинского, а против него. Во-первых, г. Дерман, раз уж он принял любезное участие в специальном споре, должен бы знать (или помнить), что Достоевского открыли Григорович и Некрасов, а не Белинский: это они, очарованные повестью юного автора, в памятную русской литературе белую майскую ночь прибежали к Достоевскому со словами восторга; это Некрасов принес Белинскому рукопись «Бедных людей» и «закричал»: «Новый Гоголь родился!», на что знаменитый критик «строго» ответил: «У вас Гоголи-то как грибы растут», – и лишь после этого, прочитав рукопись, он и сам пришел в волнение и восхищение. Во-вторых, г. Дерман должен бы знать (или помнить), что в печати Белинский дал о «Бедных людях» довольно умеренный отзыв, совсем не такой, как в устной беседе с Достоевским. В-третьих, г. Дерман должен бы знать (или помнить), что Белинский со свойственной ему шаткостью от своей высокой оценки Достоевского скоро отказался, в ней раскаялся и за нее назвал себя «ослом»; вот что писал он Анненкову: «Он (Достоевский) и еще кое-что написал после того, каждое его произведение – новое падение. В провинции его терпеть не могут, в столице отзываются враждебно даже о „Бедных людях“. Я трепещу при мысли перечитать их, так легко читаются они! Надулись же вы, друг мой, с Достоевским-гением! О Тургеневе не говорю – он тут был самим собою, а уж обо мне, старом черте, без палки нечего и толковать. Я, первый критик, разыграл тут осла в квадрате» (Письма, III, 338). Это – его последнее слово о Достоевском (как и все это письмо, к несчастью, одно из последних предсмертных слов Белинского). Где же здесь гениальность, где же пророчество, где критическое чудо?
В своей работе я, по г. Дерману, «натворил нечто невообразимое»; грех против элементарного историзма, даже «комическую наивность» он усматривает, например, в таких строках моей статьи: «Если Белинский – энтузиаст, то почему же, смущенно спрашиваешь себя, у него так много риторики, и гуслярного звона, и раскрашенного стиля?.. Почему свою увлеченность он выражает не в задушевной и дорогой простоте, почему о любимом он говорит неестественно''» На все эти вопросы мои г. Дерману просто «совестно отвечать», так как, если бы свою совестливость он преодолел, то ответы заключались бы в «азбучно-элементарных указаниях на то. что риторическое для наших дней было абсолютно адекватно энтузиазму Белинского 75 лет назад», что «тогда не было и быть не могло дорогой простоты стиля Чехова», что Белинский не мог же писать «языком Бориса Зайцева».
Вы видите, историзм отплатил своему бескорыстному ревнителю черной неблагодарностью: г. Дерман не долго думая (именно потом что не долго думая) впадает в такую историческую ошибку, которая была бы чудовищна, если бы она не была смешна. Справедливо полагая, что Белинский не мог дожидаться Чехова и Зайцева, мой рецензент забывает только… о Пушкине. Я, обвиняемый в антиисторизме, знаю, однако, историю, помню хронологию и отдаю себе ясный отчет в том, что во времена Белинского и до него был уже Пушкин, который свою прозрачную прозу, свои рассказы и критические статьи запечатлел хрустальной простотой, выражал свой энтузиазм, африканскую огненность своей натуры без риторики и над всякой риторикой от души смеялся; я, осуждаемый за пренебрежение к исторической перспективе, не упускаю из виду, что естественному стилю Белинский мог учиться не только у Пушкина, но даже у некоторых своих предшественников, например у Киреевского, очень далекого от напыщенности «Литературных мечтаний», я, словом, все это и многое другое учитываю, а защитник перспективы, друг истории, этим пренебрегает и, как цитированный им гимназист VI класса, в своем упрощенном понимании историзма констатирует лишь то несомненное, что современниками Белинского не были Чехов и Зайцев.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































