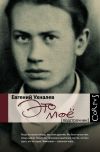Текст книги "Невидимый фронт. Музеи России в 1941–1945 гг."

Автор книги: Юлия Кантор
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
А в музее кипела работа. Деревянные щиты закрыли выходящие на Зимнюю канавку тринадцать окон Лоджий Рафаэля[232]232
Там же. С. 55.
[Закрыть]. С верхних этажей спускали вниз и размещали в наиболее надежных местах оставшиеся еще не упакованными музейные вещи, запасные фонды, стаскивали по лестницам тяжелые мраморы, бронзы, художественную мебель. Каменные столешницы, торшеры, громадные декоративные вазы из малахита, порфира, лазурита, яшмы разбирали на части и уже потом сносили на первый этаж[233]233
Там же. С. 56–57.
[Закрыть].
Опустевшие в июле залы античного искусства стали бомбоубежищем для самоцветного уральского камня, граненного русскими мастерами, и для штабелей картин, которые в зале Юпитера окружили постаменты эвакуированных богов, и для средневековых алебард и пик, спущенных по крутой внутренней лестнице из эрмитажного Арсенала прямо в зал Лебедя. В подвале под залом Афины решено было разместить неэвакуированный фарфор. Каменный пол подвала предварительно засыпали песком[234]234
Там же. С. 57.
[Закрыть].
«В подвале под залом Афины нужно было укрыть тысячи предметов, – рассказывает Т. М. Соколова. – Это дело поручили нам, группе женщин, среди которых находилась и экскурсовод Корнилова, внучка прославленного героя Севастопольской обороны. Каждую вещь мы до половины закапывали в песок. Фарфоровые статуэтки, вазы, канделябры, обеденные, чайные и кофейные сервизы мы старались расставлять не только по размерам, но и по стилям – давала себя знать профессиональная привычка музейщика. Работали мы недели две. Огляделись перед уходом, сами поразились: экспозиция! Закончили мы работу утром 18 сентября…»[235]235
Там же.
[Закрыть]
Вечером 18 сентября, во время артиллерийского обстрела, которому изо дня в день подвергался город, вражеский снаряд разорвался у самого Эрмитажа, неподалеку от подъезда с гранитными атлантами, у моста через Зимнюю канавку. Раскаленное железо впилось в каменные стены, взрывная волна вышибла оклеенные бумажными полосками зеркальные окна зала Афины. Едва закончилась бомбежка, хранители кинулись в подвал – никто не знал, что стало с хрупкими фарфоровыми экспонатами, заботливо засыпанными толстым слоем песка: выдержали ли они эту страшную вибрацию, не раскололись ли? Вскрыв подвал, вздохнули с облегчением: из песка, как ни в чем не бывало, выглядывали жеманные маркизы и томные кавалеры, пастушки́ и пасту́ шки, вазы в пестрых завитках, кудреватые канделябры. Все было цело: чашки, кофейники, тарелки, супницы, солонки. Казалось, подвал сервирован на тысячу персон…
А над подвалом с фарфором, в зале Афины, с мозаичного пола, раскопанного в древнем Херсонесе и перенесенного в петербургский музей, уже сметали осколки разбитых вдребезги оконных стекол. Принесли фанеру. Пустоту оконных проемов закрыли первые в Эрмитаже фанерные щиты[236]236
Там же. С. 57–58.
[Закрыть].
«Люди света» – так назвал Николай Тихонов свой очерк о блокадном Ленинграде. Стержнем его стало описание жизни военного Эрмитажа. «В великолепном Эрмитаже недавно справляли юбилей великого азербайджанского писателя-человеколюбца Низами… В солнечном Баку откликнулось это торжество, и по всему Советскому Союзу узнали, что в Ленинграде жив могучий дух торжествующего творчества»[237]237
Там же. С. 70.
[Закрыть]. Это было в октябре 1941-го. После вступительного слова академика Орбели, научных докладов, чтений переводов, сделанных сотрудниками Эрмитажа, состоялась и выставка – явление абсолютно уникальное для осажденного города. В витрине Школьного кабинета, размещавшегося тогда в Зале Совета, были выставлены фарфоровый бокал и коробочка с росписями на темы произведений Навои, выполненные специально к этому дню эрмитажным художником-фарфористом М. Н. Мохом. Электричество для нагрева печи для обжига дал корабль «Полярная звезда» стоявший на Неве около служебного подъезда музея.
А в декабре «всем смертям назло» состоялась научная конференция к 500-летию со дня рождения Навои. В Школьном кабинете, подле столика, заменявшего докладчикам кафедру, продолжал сидеть, откинув голову на спинку стула, один из главных участников торжества, молодой ученый Николай Лебедев, специалист по многим восточным литературам. Он уже был не в силах подняться от слабости.
Орбели предоставил слово ему. «Читайте сидя, – сказал директор Эрмитажа. – И Лебедев читал сидя, читал свои переводы стихов Навои и стихи Навои в оригинале, на староузбекском языке… Двенадцатого декабря, – вспоминал Б. Б. Пиотровский, – было второе заседание, посвященное Навои, на этот раз целиком занятое чтением переводов Лебедева. После этого он слег и не мог уже подняться. Но когда он медленно умирал на своей койке в бомбоубежище, то, несмотря на физическую слабость, делился планами своих будущих работ и без конца декламировал свои переводы и стихи. И когда он лежал уже мертвый, покрытый цветным туркменским паласом, то казалось, что он все еще шепчет свои стихи»[238]238
Там же. С. 89.
[Закрыть].
В 1941 г. в подвалах Эрмитажа было организовано общежитие для сотрудников музея и деятелей других учреждение культуры Ленинграда. В разные периоды его существования под мощными сводами находили пристанище от пятисот до двух тысяч человек. Выйдя из бомбоубежищ, их обитатели расходились в служебные комнаты Эрмитажа, кто-то отправлялся по набережной Невы в Академию художеств, кто-то в Академию наук. А пожилые женщины и дети собирались в эрмитажном Школьном кабинете.
«Сегодня были с В. Гаршиным у Ильина… Старику 86 лет, он наполовину парализован, поддерживает голову рукой. Но левый, непарализованный профиль до сих пор прекрасен… Я спросила, где сейчас тот отдел, которым заведовал профессор. Он ответил, что отдел был эвакуирован, как только городу стала угрожать опасность от бомб.
– Почему же вы сами остались?
– Куда же я поеду? Мне 86 лет, а мои коллекции вечно молоды. В первую очередь надо было думать о них…
На прощание Ильин еще раз похвалил свою комнатку, в которой он умышленно отказался от радио, чтобы не слышать сигналов воздушной тревоги и не волноваться раньше времени… Написала для заграницы очерк об Ильине. Назвала “Чистое золото”», – записала Вера Инбер в своем блокадном дневнике 4 июня 1942 г. Профессор Ильин, переживший унизительное «орабочение» Эрмитажа и «вычищенный» из его рядов за чуждое классовое происхождение, был выше обиды на лживую сиюминутность, – он служил вечному. Ильин умер в своем блокадном кабинете, сидя за столом, приводя в порядок завещанную Эрмитажу коллекцию старинных монет.
Черно-белая картина: Нева, вмерзшие в лед у набережной корабли, шпиль Петропавловской крепости, затянутый бурым чехлом. Светомаскировки на больших музейных окнах нет. И зажигать свет не разрешается. Да его и нет, света. Лишь свечи, с еще дореволюционных времен чудом сохранившиеся в эрмитажных подвалах. Ими пользовались только в бомбоубежище, ибо в залах, пустых и холодных, находиться с огнем даже едва тлеющей свечи нельзя – может случиться пожар. Вот воспоминания одной из обитательниц эрмитажного бомбоубежища-общежития, Е. М. Петровой, прожившей там несколько блокадных месяцев:
«Вначале в бомбоубежище было светло и тепло, проходила теплофикационная труба. Вдоль всего убежища горели лампы (как я потом узнала, электричество подавали с корабля, стоявшего напротив Эрмитажа)…
В этом бомбоубежище мы чувствовали себя очень надежно, не было страха, что бомба может пробить его толстые своды. Там даже не были слышны завывания сирены и взрывы в городе.
Часто по бомбоубежищу пробегал (точнее проносился) директор Эрмитажа Иосиф Абгарович Орбели, в военном полушубке, борода развевалась, глаза горели. Первый раз я увидела его и запомнила, когда нас поселили в бомбоубежище, вход в которое был со стороны Невы. Там был буфет, мы стояли в очереди и получали по кусочку хлеба и по тарелке чечевицы. Однажды в очереди разразился скандал – какой-то мужчина стащил этот крошечный кусочек хлеба у стоящего впереди, и Орбели, который в этот момент или проходил мимо, или тоже стоял в очереди, набросился на несчастного вора и громко его стыдил и ругал.
Новый 1942 год мне не запомнился – наверно, это был для нас такой же день, как и остальные – постоянное чувство жуткого голода… Вспоминалась в тот день огромная елка дома, увешанная игрушками, конфетами, мандаринами, орехами; празднование Нового года в школе, в кукольном театре Евгения Деммени, куда я часто ходила с бабушкой. Теперь были нары, слабый свет, рядом истощенные люди, движущиеся в проходе между нарами, как призраки. У всех был измученный вид. И все-таки, несмотря на эти страшные условия, голод, бомбежки, люди держались, жили с надеждой, что придет конец этим мучениям.
Самый страшный момент запомнился в ночь под Рождество, когда в бомбоубежище влетел И. А. Орбели с криком: “Быстро собирайте вещи и все выходите! Бомбоубежище заливает, бомба попала в водопровод и канализацию!”. Так морозной ночью мы и остальные обитатели бомбоубежища оказались с вещами ночью на снегу перед воротами во двор Эрмитажа»[239]239
Петрова Е. М. Воспоминания о блокаде. [Рукопись]. С. 6.
[Закрыть].
Какими они были, блокадные помещения Эрмитажа, какими были его истощенные обитатели? Послевоенные поколения никогда не узнали бы об этом, если бы не рисунки тех, кто жил и работал здесь. Ведь фотографировать в осажденном городе с самого начала войны было категорически запрещено. Все фотоаппараты и радиоприемники по приказу городских властей необходимо было под угрозой наказания по законам военного времени сдать. Художник, академик архитектуры, А. С. Никольский, день за днем, «шаг за шагом», рисовал Эрмитаж. Благодаря рисункам А. С. Никольского, В. В. Милютиной, В. В. Кучумова, В. В. Пачулина, А. В. Каплуна родилась подлинная «видеолетопись» музейной жизни. Низкие своды, дрожащий свет, пустые подрамники, угрюмые фасады эрмитажных зданий, выбитые стекла великолепных окон… Такой с рисунков оживает блокадная хроника. Они находятся ныне в эрмитажных фондах рядом с шедеврами величайших мастеров графики. Зафиксировавшие вид залов в дни блокады и причиненные им разрушения, эти работы составили основу коллекции мемориального собрания Эрмитажа, посвященного Великой Отечественной войне. Они же – единственный случай в мировой юридической практике, когда рисунок, а не фото, признается доказательством преступления – стали и свидетельствами обвинения на Нюрнбергском процессе.
Ежедневная фиксация всего, что происходило с Эрмитажем и близлежащими историческими памятниками, началась страшной зимой 1942 г. Это неординарное решение, особенно в условиях военного времени, тем более – в блокадном городе, было принято в феврале руководством Ленинградского отделения Комитета по делам искусств – с подачи академика Орбели. Была создана группа из пяти художников, которым поручили запечатлеть «ранения Эрмитажа». Задание было таково: немедленно приступить к изображению: 1) разрушений зданий, причиненных бомбежками и артиллерийскими обстрелами, 2) уборки помещений силами оставшихся в Ленинграде сотрудников музея, 3) вида залов, уже приведенных в порядок после эвакуации экспонатов и ликвидации разрушений. Каждый из художников мог выбрать объект по своему желанию, любой материал – и выполнить работу в любом размере: от миниатюры до монументального. В группу были зачислены живописцы В. Н. Кучумов и В. В. Пакулин, график А. В. Каплун, А. С. Никольский и В. Н. Милютина[240]240
«Они жили просто и возвышенно». А. С. Розанов и В. В. Милютина. Воспоминания друзей. Письма. Документы / Сост. – ком. О. В. Сахарова. СПб., 2010. С. 123.
[Закрыть].
Вот как В. Н. Милютина описывала свою «зимнюю практику»: «По утрам я стала выходить из дома, плотно запакованная во все шерстяное, что только нашлось: в стеганном ватнике и ватных же штанах, туго стянутая поясом. На ногах – валенки с теплыми стельками, на руках напульсники, а в руках – палка. Хоть и съедена ровно половина хлебного пайка и выпита кружка кипятка, походка была неуверенной. (Палка – она друг дистрофика!). За спиной рюкзак, в нем две фанерные “доски на рамках”, листы бумаги и кальки, коробочка с карандашами и кусочком сахара (на всякий случай…). Иду радостная – я иду рисовать! Зима подходит к концу. Должно стать легче жить. Только будут ли силы? Но ведь я иду рисовать, значит, будут. Подхожу к Литейному мосту. Нева! Сколько здесь женщин! Они сбрасывают снег через перила на лед. Подъезжают грузовики со снегом. По тротуарам на горбатой середине моста ползут одинокие фигуры, иногда они тащат санки.
Мост кончился. Набережная Невы. Летний сад. Он поредел (решетка цела, но нет “будочек”, в которых обычно зимуют статуи). Невыносимо хотелось есть… Как-то раз особенно щедрыми оказались матросы на Дворцовой набережной. Они кинули мне целую охапку душистых веток сосны. Весь путь домой я их грызла, дотла уничтожила и нежную кору и иглы… Идти уже не под силу. Все чаще присаживаюсь на гранитные скамьи на спусках, на ступени у мостов. Передыхаю. Иду дальше. Наконец, Зимняя канавка. И – вот он – Эрмитаж! Два корабля прямо у каменного парапета. Я уже знаю, что один дает свет, а другой воду в здание музея»[241]241
Там же.
[Закрыть]. Так легко, без стонов и жалоб, буднично фиксирует художница свой путь до музея, путь, который ежеминутно мог оборваться – силы были на исходе. «Иду рисовать!» – в этом весь оптимизм человека искусства, поставленного в нечеловеческие условия. А далее – в дневнике «перекличка» с Л. А. Ильным (которого уже не было в живых и о рукописи которого, посвященной Ленинграду, она, конечно, не могла знать). Милютина пишет, резко меняя интонацию с будничной на восторженно возвышенную.
«Великолепие пустого, местами разрушенного Эрмитажа казалось нереальным. То была сразу и картина бедствия, и необыкновенной, невиданной роскоши! Поразительное и незабываемое зрелище! Мрамор и позолота под слоем инея. Иорданская лестница… страшно ступать на ступени, сплошь устланные кусочками какой-то пленки – это отслаивается и осыпается живопись плафона. Опустевшие залы величественны и огромны, их стены в кристаллах изморози. Никогда еще они не казались мне такими великолепными. Прежде внимание обычно приковывали к себе живопись, скульптура или прикладное искусство и малозаметным оставалось искусство создавших дворцы замечательных архитекторов и декораторов. Сейчас здесь осталось только их изумительное искусство (да повсюду следы жестокого, безмозглого фашистского варварства)»[242]242
Там же. С. 124–125.
[Закрыть].
Она детально описывает облик музея, и простое повествование становится документом великой обличительной силы. До войны многие окна парадных залов Зимнего дворца хранили уникальные экспонаты: автографы гостей и хозяев, сделанные бриллиантами перстней. Зафиксировать, скопировать, их не успели, а при уборке битого стекла после воздушных налетов и обстрелов о них, вероятно, просто забыли – не до того было, осколки просто не стали рассматривать. (Сегодня окна Эрмитажа сохранили только один такой автограф – на стекле окна, выходящего на Неву у северо-западного угла Зимнего. Предположительно его сделала императрица Александра Федоровна, сообщившая современникам и потомкам, что 17 марта 1902 г. «Ники» (Николай II) отсюда смотрел на гусар. Уже с сентября 1941 г. помещения были уставлены белыми асбестовыми колпаками с колечком наверху, чем-то похожими на раскрытые зонтики. Ими следовало тушить зажигательные бомбы. Рядами стояли маленькие мешочки с песком (тоже на случай пожара). Песок на листе фанеры, а в кучу воткнута безнадежно вмерзшая в него лопата. Снежные сугробы под разбитыми окнами. Кое-где прорвались днища у многоведерных баков, и вытекшая вода ледяными озерами замерзла на драгоценном паркете. В них отражалось великолепие заиндевевших стен и плафонов[243]243
Там же. С. 125–126.
[Закрыть].
«В залах стоял мороз. В зияющие проемы окон дул ледяной ветер. В открытые двери виднелся уходивший вдаль длинный ряд зал. Знакомые помещения выглядели необычно и даже жутко. На прежних местах висели пустые рамы от эвакуированных картин. Лежали сорвавшиеся с потолка и грохнувшие на пол огромные люстры. В рыцарском зале, как призраки, толпились раздетые, без оружия и доспехов, обтянутые замшей фигуры рыцарей и коней. Позы манекенов, казалось, выражали недоумение и даже отчаяние. Рисовать “объект” садилась на ящик с песком или поваленный постамент от эвакуированной скульптуры. Работала я медленно. Рисовать было трудно. Уголек не сразу повиновался замерзшим пальцам, скрюченным от голода, работы на окопах, от цинги. Трагический колорит того, что я видела, как мне казалось, вернее всего мог быть передан бархатистой чернотой прессованного угля»[244]244
Там же. С. 126–128.
[Закрыть].
Рисунки В. Н. Милютиной и других художников «живописной бригады» сейчас находятся в фондах Государственного Эрмитажа и являются одними из самых ценных экспонатов его «блокадной» коллекции, периодически появляясь на памятных выставках. Эту мучительную и одновременно прекрасную картину воссоздал в фильме «Русский ковчег» Александр Сокуров, соединивший с пронзительной силой факт и образ, быль и легенду существования великого музея. Он же более чем десятилетие спустя после «Ковчега» вернулся к блокадному периоду жизни Эрмитажа в новой своей ленте «Франкофония». И лаконичной, «гравюрной» метафорой определил состояние музея в то смертное время, его роль в судьбе Ленинграда: «Эрмитаж, вмерзший в блокадную историю города».
«Научная работа очень облегчила нам тяжелую жизнь. Те, у кого день был занят работой, легче переносили голод. Чувство голода со временем переходило в физическое недомогание, мало похожее на желание есть в обычных условиях, и так же, как всякое недомогание, оно легче переносилось в работе… Мои научные статьи, написанные в Ленинграде зимой 1941/42 года, удовлетворяют меня более чем некоторые из выполненных в мирной обстановке. И это понятно: в ту зиму можно было или не писать, или писать с большим подъемом, среднее исключалось вовсе»[245]245
Пиотровский Б. Б. Страницы моей жизни. СПб., 1995. С. 196.
[Закрыть], – вспоминал впоследствии директор Эрмитажа Б. Б. Пиотровский. Музей продолжал сохранять бесценное: научный потенциал и свободу мысли. Вот лишь некоторые труды, созданные в блокадном музее в 1941–1942 гг.: И. П. Орбели – исследование армянской средневековой литературы, Б. Б. Пиотровский – книга «История культуры и искусства Урарту», В. М. Глинка – очерки о героическом прошлом русской армии, Э. К. Кверфельдт «История мебельных форм на Западе», Н. Д. Флиттнер – глава из коллективной работы «Искусство Древнего Востока»[246]246
Тэсс Т. В Эрмитаже // Известия. 1944. 7 апреля.
[Закрыть]. Еще до войны работниками Эрмитажа был начат большой многотомный труд: «История западно-европейского искусства». Эту работу продолжали сотрудники Эрмитажа, находящиеся в эвакуации. И, конечно, в Ленинграде. В самую тяжкую пору блокады готовили свои работы для текущего тома главный хранитель музея, доктор искусствоведческих наук М. В. Доброклонский, старшие научные сотрудники Т. Н. Ушакова и О. Д. Доброклонская. Не прекращали свою научную работу и другие специалисты. Профессора занимались с молодежью, вели семинары, делали доклады, и молодежь шла на эти доклады по темному, холодному городу, как идет человек к теплу и свету очага[247]247
Там же.
[Закрыть].
Научной работой сотрудники Эрмитажа занимались в промежутках между бомбежками и артобстрелами. Осенью и зимой 1941 г. бывало по полтора десятка воздушных тревог в сутки. «Все коллекции были собраны, упакованы, перенесены в безопасные кладовые и подвалы. Часто здание сотрясалось от взрыва, раздавался грохот, пронзительный звон разбитого стекла. В числе оставшихся были подсобные рабочие, служащие охраны, молодые аспиранты, старшие научные сотрудники, ученые с мировым именем. В час беды все они подымались и шли спасать свой Эрмитаж. Стеклянный купол по частям разлетался от взрывов, хрустальное его небо рушилось вниз. Музейные работники лазали по крыше, зашивая досками дыры, они привязывали себя веревками к стропилам; пожилая женщина, специалистка по западному искусству, жмурила от страха глаза и повторяла только одно: “Как во сне. Честное слово, как в страшном сне…”, – писала журналист Татьяна Тэсс в “Известиях”. И все же лезла на обдуваемую ледяным ветром крышу и приколачивала гвоздями доску поверх пробоины, сквозь которую медленно падали вниз снежинки»[248]248
Там же.
[Закрыть].
По ночам к противовоздушным постам сотрудники добирались по абсолютно темным залам. Они пытались и не могли привыкнуть к этой гулкой пустоте. Еще одно свидетельство повседневного мужества: во время многочасовых бомбежек сотрудники Эрмитажа коротали время, читая научную литературу. Причем книги эти брали с собой на посты, положив в сумки от противогазов, за что «получали нагоняй от Орбели: за пояс книги надо совать!»[249]249
Варшавский С., Рест Б. Указ. соч. С. 82.
[Закрыть].
Об этих блокадных буднях написала в январе 1942 года Ольга Берггольц:
«Пытал нас враг железом и огнем…
“Ты сдашься, струсишь, – бомбы нам кричали, —
забьешься в землю, упадешь ничком.
Дрожа, запросят плена, как пощады,
не только люди – камни Ленинграда!”
Но мы стояли на высоких крышах
с закинутою к небу головой,
не покидали хрупких наших вышек,
лопату сжав немеющей рукой».
Служебные приказы по Эрмитажу блокадного времени отражают активнейшую жизнь, в них четко сформулированные задания по охране музея, отправке сотрудников в армию, на оборонные работы, перемещения в должности и дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения. Увольнение означало зачастую лишение продовольственной карточки. Но иначе было нельзя: таковы законы военного времени.
«Приказ № 206, 25 июля 1941 г.
24-го сего июля старший научный сотрудник отдела Запада Соловейчик Р. С., уходя с работы, вечером оставила освещенным запертое и опломбированное ею музейное помещение, не сдав ключей в охрану.
Приказываю: уволить Соловейчик Р. С. с сего числа с работы в Эрмитаже, провести немедленно расчет.
Директор Эрмитажа Академик Орбели».
«Приказ № 278, 12 ноября 1941 г.
11 ноября постовая охраны Герц В. К. вновь опоздала на работу, явившись утром на пост с опозданием и вечером выйдя вновь на работу опять-таки с опозданием.
Приказываю уволить В. К. Герц с работы в Эрмитаже немедленно.
Директор Эрмитажа Академик Орбели»[250]250
Архив Государственного Эрмитажа. Ф. 1. Оп. 18. Ед. хр. 147.
[Закрыть].
Помимо голода, холода и бомбежек, Эрмитаж уничтожала вода.
«Все оставшиеся коллекции надо было перенести сюда, в главное здание. Их тащили на тачках, на тележках, в заплечных мешках, просто на руках. Их перенесли все до единой, расставили в безопасных кладовых, но в это время лопнули от мороза водопроводные трубы, и кладовые залило водою.
И вещи надо было переносить вновь. Почти каждый день лопалась какая-нибудь труба, вода затопляла кладовую или зал. Вода сочилась из стены, как кровь, узкие ручейки ее ползли сквозь запертые двери, маленькие водопады с шумом стекали по паркету. Вода стала врагом, ее ненавидели, с нею сражались. Все холоднее становилось в залах, губительная сырость угрожала коллекциям. Разрывался снаряд, снег летел сквозь пробоину в стене или крыше. И снова надо было переносить коллекции в другое место, придумывать им новое безопасное пристанище в громадных покоях Эрмитажа»[251]251
Тэсс Т. Указ. соч.
[Закрыть], – писала журналист Татьяна Тэсс, побывавшая в музее в ту нелегкую пору. Понадобилась громадная, непостижимая по терпеливости работа над непрестанной инвентаризацией этого имущества для того, чтобы в любую минуту можно было точно определить, где находится тот или иной экспонат. Вещи непрестанно путешествовали, расползались по кладовым, меняли жилища, но великий порядок инвентаря держал их в строгом подчинении. Все трудней, все страшней становилась жизнь в измученном блокадой городе. Но люди берегли то, что было для них главным – искусство[252]252
Там же.
[Закрыть].
Первая же блокадная весна нанесла музею катастрофический ущерб. Оттепель принесла в промерзшие залы Эрмитажа не весеннее тепло, а гибельную сырость. Она «взрывала» штукатурку, уничтожала фрески, разрушала живопись плафонов. Вот описание одного, самого обычного блокадного дня: «Я с ужасом увидела, что фарфор весь затоплен. Сбегав за высокими резиновыми сапогами, мы спустились в темный подвал. Вода стояла по колено. От наших движений образовывались волны, которые еще выше поднимали уровень воды. Осторожно двигаясь, чтобы не наступить на хрупкий фарфор, мы стали наощупь вытаскивать из воды вещь за вещью… И эти поиски во мраке, и это хождение по воде, и то, как мы, нагрузившись фарфором, поднимались по темной крутой лестнице, не видя ступенек, нащупывая их ногами, казалось нам впоследствии невероятным, каким-то головоломным акробатическим номером, и мы диву давались, что ничего не разбили. Многие вещи утратили инвентарные номера, и это могло создать невообразимую путаницу в музейном учете; сотни отмокших бумажных ярлычков плавали в подвале, а номерные обозначения, выведенные на вещах водостойкой эмалевой краской, от продолжительного пребывания в воде набухли и отваливались кусками. Делать все приходилось одновременно – и чистить, и мыть, и восстанавливать номера»[253]253
Варшавский С., Рест Б. Указ. соч. С. 120–121.
[Закрыть].
27 января 1944 г. была полностью снята блокада Ленинграда. То была больше чем радость, то было предвосхищение победы. По неостывшим впечатлениям блокадной поры эвакуированный в Ереван Б. Б. Пиотровский написал доклад о жизни Ленинграда, прозвучавший на собрании сотрудников Армянского филиала АН СССР. Выступление имело большой успех, и было решено немедленно издать его в виде монографии. Интересные графические рисунки сделал М. Н. Мох. Увы, книга так и не вышла в свет: ее запретили по цензурным соображениям. Позднее, уже в середине 60-х гг., рукопись была использована С. Варшавским и В. Рестом при работе над монографией «Подвиг Эрмитажа».
А 24 августа 1944 г. Совет народных комиссаров СССР вынес решение о восстановительных работах в Эрмитаже. Они начались с Павильонного зала и двух галерей вдоль Висячего сада, где было решено открыть выставку экспонатов Эрмитажа, остававшихся в Ленинграде во время блокады. 7 ноября 1944 г. она была открыта и просуществовала до момента прибытия основного состава музея из эвакуации. К выставке готовились тщательно, без всяких скидок на военное время, решив показать хотя бы часть Эрмитажа во всей его довоенной красе. Для этого нужно было в короткие сроки произвести титаническую работу: убрать около 30 кубометров песка, которым были засыпаны полы, натереть около полутора тысяч кв. м паркета, восстановить выбитые стекла в 45 окнах… С 8 ноября 1944 г. по 31 июня 1945 г. выставку посетило около 30 тысяч человек.
Сотрудники музея защищали его от врага, они спасали его от гибели, не щадя сил. Спасали и спасли.
Осенью 1944 г. музей подвел предварительные печальные итоги потерь. «Из числа научных сотрудников на фронтах погибло 6 человек, а в блокированном Ленинграде умерло 43 сотрудника. Потери среди рабочего и административного персонала были значительно большими. В здания музея попали две авиационные бомбы и 17 артиллерийских снарядов, причинивших большие разрушения»[254]254
Эрмитаж: история и современность / Под ред. В. А. Суслова М., 1990. С. 68.
[Закрыть].
В дни блокады было не только два полюса: жизнь и смерть. Было и другое: жизнь и существование. Нужна была подлинная душевная сила, чтобы не существовать, а жить. О работниках Эрмитажа можно сказать: они жили. Они жили, как ученые и как настоящие люди. Они спасли самое дорогое – искусство и чистоту человеческой души. «Сейчас в тихом, глубоко и счастливо вздохнувшем городе они готовят Эрмитаж к его второму рождению, к близкому уже дню, когда начнется в нем настоящая восстановительная работа»[255]255
Тэсс Т. Указ. соч.
[Закрыть].
Незаслуженно забытой как в советское, так и в постсоветское время является блокадная повседневность Государственного музея Революции (ГМР, ныне Государственный музей политической истории России). Основанный в 1919 г. – по понятным причинам – в Зимнем дворце, он до 1945 г. делил кров и тяготы блокады с Эрмитажем. В годы войны музей Революции, часть экспонатов которого осталась неэвакуированной из блокадного города, нес свою вахту – и делал это с честью.
3 июля 1941 г. музей закрылся для посетителей. Было проведено сокращение штатов, главным образом за счет технического персонала (служащих охраны, контролеров). Из 148 работников ГМР сократили 98 человек[256]256
Научный архив Государственного музея политической истории России (НА ГМПИР). Д. 110. Л. 3.
[Закрыть]. Часть коллектива (9 человек) уехала в августе 1941 г. в эвакуацию[257]257
Там же. Д. 90. Л. 73.
[Закрыть]. Оставшиеся сотрудники переключились на оборонную работу как за чертой города, так и на территории музея. Самоотверженно трудилась музейная бригада из 20 человек на строительстве оборонительных сооружений под Гатчиной и Шимском[258]258
Смирнов А. П. Государственный музей Революции в годы Великой Отечественный войны // ГМПИР: 90 лет в пространстве истории и политики. 1919–2009: материалы научной конференции, посвященной юбилею Государственного музея политической истории России / Под ред. А. М. Кулегина. СПб., 2010. С. 102.
[Закрыть].
Научные сотрудники и экскурсоводы «идеологического» учреждения в первую очередь был задействованы на агитационно-пропагандистской работе. В драматические месяцы лета 1941 г. они почти ежедневно, иногда по 2–3 раза в день, выезжали на заводы, фабрики и в «домохозяйства», «неся слово партии» в массы и призывая к борьбе с агрессором[259]259
Там же.
[Закрыть].
Когда фронт приблизился к окраине города, музейщикам-пропагандистам пришлось работать и в землянках воинских частей, и в бомбоубежищах. За первый год войны ГМР отчитался о проведении 90 лекций и докладов, 167 бесед[260]260
Там же.
[Закрыть].
Еще в первые дни войны в максимально короткие сроки была создана и открыта выставка «Великое прошлое русского народа»[261]261
НА ГМПИР. Д. 110. Л. 3.
[Закрыть] – именно она стала первой в стране, рассказывающей о преемственности поколений в борьбе с врагом. А в галерее Зимнего дворца – выставка, посвященная обороне Петрограда в 1919 г. от войск Юденича. После закрытия музея для посетителей они вскоре были свернуты. Основную экспозицию демонтировали. Чуть позже сотрудники музея организовали выставку, посвященную полководческой деятельности Петра Великого. На выставке были представлены штандарты петровских времен, гравюры, репродукции о строительстве Санкт-Петербурга, траурные знамена и другие экспонаты. За 8 месяцев выставку посетило 5035 человек[262]262
Там же. Д. 127. Л. 9.
[Закрыть].
Осенью – зимой 1941–1942 гг. ГМР перешел к созданию и распространению передвижных фотовыставок для военных организаций[263]263
Смирнов А. П. Указ. соч. С. 102.
[Закрыть]. Наиболее ценная часть фондов подлежала эвакуации в эшелоне Русского музея. Однако железная дорога была перерезана наступавшими немецким войсками. Музейные материалы в ящиках остались на Московской товарной станции[264]264
Государственный музей политической истории России (ГМПИР). Ф. VI. Д. 1471. Воспоминания С. Д. Павловой.
[Закрыть]. Когда участились налеты вражеских самолетов на Московский вокзал, было решено укрыть музейные ценности в Зимнем дворце. Эти экспонаты – знамена, картины, вещевые реликвии – были замурованы в подвалах, а остальное закрыли в хранилищах без оконных проемов[265]265
Смирнов А. П. Указ. соч. С. 102.
[Закрыть].
Значительные усилия у сотрудников музея уходили на защиту помещений от разрушений. В целях сохранения зеркальные стекла в залах Зимнего дворца были сняты и расположены в полуподвальных помещениях. Была проведена полная внешняя обшивка окон[266]266
Там же. С. 103.
[Закрыть].Сотрудники музея Революции работали рука об руку с эрмитажниками.
Рассекреченные документы Ленинградского Управления НКВД свидетельствуют о нарастании у определенной части горожан критических настроений и недовольства, связанного с нехваткой продовольствия. 8 октября 1941 г. в Ленинградский горком ВКП(б) поступил донос, будто в Музее Революции «появились отдельные носители нездоровых настроений». Они якобы утверждали, что «в Ленинграде не жизнь, а каторга» и для улучшения положения с хлебом «нужна частная торговля». Создавшуюся в городе ситуацию со снабжением отдельные музейные работники иронично называли «полным коммунизмом» и надеялись, что в случае прихода немцев «рядовых коммунистов трогать не будут»[267]267
Ломагин Н. А. Неизвестная блокада: в 2 кн. Кн. 1. СПб.; М., 2002. С. 100.
[Закрыть]. «Социологический срез» высказываний, отправленный для ознакомления наркому внутренних дел Л. П. Берии 13 марта 1942 г.: «Наше правительство и ленинградские руководители бросили на произвол судьбы. Люди умирают как мухи, а мер против этого никто не принимает». В той же сводке, где приведены наиболее типичные примеры высказываний горожан, комментарий: «Среди населения имеют место отрицательные настроения»[268]268
Там же. С. 236.
[Закрыть]. Эти настроения имели под собой более чем ощутимую почву. Из справки Управления НКВД по Ленинградской области о смертности населения по состоянию на 25 декабря 1941 г.: «Если в довоенный период в городе в среднем ежемесячно умирало до 3500 чел., то за последние месяцы смертность составляет: в октябре – 6199 чел., в ноябре – 9183 чел., за 25 дней декабря – 39 073 чел.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?