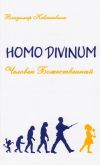Читать книгу "Ночь Никодима: человек постхристианской эпохи в западноевропейском и отечественном кинематографе"

Автор книги: Юлия Михеева
Жанр: Кинематограф и театр, Искусство
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Мать, Сын и Дитя, образы-столпы христианского мироздания, сейчас будут разъединены и истреблены. И только в последние минуты своего земного существования Сотников получает милость, встречаясь с глазами мальчика в буденовке и обретая в этом взгляде как истинном причастии надежду на бессмертие[31]31
В этом эпизоде чрезвычайно важна роль музыки: сквозь вязкий звуковой шум прорастает ясный и чистый голос трубы, затем звуки легко растворяются в воздухе (композитор Альфред Шнитке). – Прим. авт.
[Закрыть].
Причастие – в узнавании и признании божественного в явленном, в видении образа Творца через ближнего. Проповедь – в провозглашении этой истины, это обращение Человека к Человеку, воссоединение Человеков. Но в этом смысле и исповедь, обращенная не только к Богу, но и к ближнему, становится проповедью. Сила искренности превышает любое содержание души, исторгающей самое себя, становясь через сочувствие объединяющим и связующим началом для всех, вовлеченных в это событие.
Работе над «Восхождением» предшествовало драматическое событие, суровое жизненное испытание, сыгравшее в жизни Ларисы Шепитько особую роль.
«…Судьбою обстоятельств я была поставлена в такое положение, из которого могла уже и не выйти. У меня была серьезная травма позвоночника, а я в то время ждала ребенка. И лежала в больнице и, как тогда представлялось, в лучшем случае могла выйти из больницы инвалидом. Но могла и погибнуть, потому что ребенка я решила сохранить. Семь месяцев, что я пролежала в больнице, были для меня долгим путешествием в самое себя. Эти месяцы меня сформировали как человека, который перед вами сидит вот сейчас, – сформировали во всех теперешних оценках, мнениях и интересах. Всем этим я обязана тому больничному заключению, куда не допускался тогда никто, в таком я была состоянии. Я была одна, и это, знаете, было прекрасное путешествие в самое себя. Я чувственно охватила понятие жизни во всем его объеме, потому что прекрасно понимала, что в каждый следующий день могу с жизнью расстаться. Я готовилась к этому. Готовила себя и как будто готовила ребенка, потому что могло и так случиться, что ребенок родится, а я погибну. Я обнаружила, что это путешествие в себя бесконечно интересно, что самый интересный собеседник для меня – это я сама. <… > Практически я поняла, что, если ты хочешь воспринять свою режиссерскую профессию именно как жизнь, а не просто как работу, если видишь в этой профессии что-то основное и первичное, ты не можешь на свои наболевшие вопросы искать ответа у кого-то другого, у другого авторитета, обратиться к чьему-то опыту, брать пример с кого-то. <…>
Бывает, что кинематограф направляет сильный бросок в зрителя, но уже отработанный ремеслом, профессией, то есть уже вторичный по происхождению. Но он нужного высокого отзвука в сердце зрителей иметь не будет. Достигнет прежде всего ума, лишь потом – сердца. Мой же расчет – прямо адресоваться к эмоциям, а уж потом – к верхним этажам сознания. И я убеждена, что, поскольку наше искусство обращается к эмоциям, живет образами, – надо сначала воздействовать именно на чувственное восприятие, прежде всего на него, а уж затем и на сферу сознания. В основе такого киноискусства – первичность авторских ощущений, только первичность. И значит, надо в работе отдавать все то, что есть у человека, у режиссера, без всяких надежд на восстанавливаемость клеток, отдавать все, что составляет последний неприкосновенный запас жизнеспособности организма. Если ты щедр на это, если способен это передать, тогда фильм будет иметь ту мощь заряда, которая пробьет стереотип, привычку восприятия, определенную систему недоверия и тому подобное<…>
Тогда, за месяцы, проведенные в больнице, я поняла то, о чем часто говорят, то, чего я по-настоящему не осознавала, а именно: каждый свой фильм надо ставить как последний. <…>
Повесть Василя Быкова «Сотников» я прочитала тогда, в том новом своем состоянии, и подумала, что именно это мое состояние смогу выразить, если буду ставить «Сотникова». Это, говорила я себе, вещь обо мне, о моих представлениях, что есть жизнь, что есть смерть, что есть бессмертие. Эту историю, решила я, можно перенести на экран только как историю про себя. Про человека, который волею судьбы мог быть рожден на тридцать лет раньше, который попал в известную всем нам трагическую ситуацию, прошел все испытания, прополз все эти метры на снегу сам, сам погибал, сам предавал, сам выживал, сам вычислял для себя формулу бессмертия и сам приходил к тем открытиям, к которым пришел Сотников. Картина могла быть только про это.
Мне хотелось – может, это очень высоко звучит – что-то оставить о себе, чтобы кто-то мог догадаться о степени моих забот. Наивно было бы претендовать при этом на какое-то исключительное открытие, потому что искусство и до меня занималось проблемой духовного бессмертия и будет заниматься этим же после меня. Но заявить о своей потребности, о праве каждого отдельного человека отстаивать уникальность, единственность, неповторимость и бессмертность своей судьбы – вот к чему я стремилась. И, выйдя на этот уровень размышления, я уже никогда не смогу вернуться в прежний круг житейских желаний, профессиональных интересов…
Любая картина всегда личная. Но в данном случае желание поставить «Восхождение» было потребностью почти физической. Если бы я не сняла эту картину, это было бы для меня крахом. Помимо всего прочего, я не могла бы найти другого материала, в котором сумела бы так передать свои взгляды на жизнь, на смысл жизни…
Для многих оказалось неприемлемым то, что этот фильм обрел свою форму в стилистике, близкой к библейским мотивам. Но это моя библия, я впервые в жизни под этой картиной подписываюсь полностью. Отвечаю за каждый миллиметр пленки!»[32]32
Рыбак Л. Последний разговор // Кинопанорама: Советское кино сегодня. Вып. 3-й. М.: Искусство, 1981. С. 133–139.
[Закрыть].
«Тревога» режиссеров – детей войны – приводила их к чувству необходимости исповедального высказывания о «человеческом пределе», физическом и духовном, и через это высказывание приводила их к интуитивной религиозности, к принятию внутренней христианской убежденности существования. И не случайно, что такие люди оказывались иногда и спутниками по жизни – как это было в случае Ларисы Шепитько и Элема Климова. Тема войны не давала покоя (так же, как и его жене) Климову – мальчику из разрушенного войной Сталинграда – долгие годы. Он чувствовал в себе потребность высказаться, сделать свой фильм о войне. И это высказывание стало его личным моментом истины – и, по воле судьбы, последним его словом в кинематографе.
«…Достоевский сказал: «Человек – это бездна. Ты в нее смотришь, а она смотрит в тебя». Оттуда может такое выползти из человека! Это важная линия фильма: во что могут превратиться люди, когда переступают порог нравственности, морали. Это уже не война, а тотальное убийство и озверение… После встречи и разговоров с Адамовичем я вдруг ясно понял: вот она, моя тема, где можно святое дело сделать, рассказать о величайшей трагедии целого народа, о войне, которая… перерождается в подобие ада. И посмотреть на человека в пограничной, экстремальной ситуации: что он такое есть и что он может выдержать. И увидеть, насколько сильны человек и народ, который может такое вынести»[33]33
Климов Э. Неснятое кино. М.: Хроникер, 2008. С. 184.
[Закрыть].
Главный герой фильма «Иди и смотри» (1986), снятого по произведениям писателя-фронтовика Алеся Адамовича, – белорусский мальчик Флёра, оказавшийся в самом центре «лесной» партизанской войны в 1943 году. Уйдя из родной деревни к партизанам, Флёра оставляет мать и двух малолетних сестричек, ставших впоследствии жертвами фашистского геноцида (как и жители еще 628 белорусских деревень, дотла сожженных карателями).
Фашистские самолеты взрывают партизанский лесной лагерь, откуда только что вышли в поход партизаны. Оставленные в лагере женщины и старики погибают, и лишь двое – Флёра и девушка Глаша – чудом спасаются. Но их радость была недолгой. Даже природа вокруг них сурово и молчаливо предупреждает об обступившем их со всех сторон зле. Мокрый одинокий аист (символ рождения новой жизни, и кроме того, символ Беларуси) посреди леса теперь – как предвестник смерти. Контуженный Флёра почти ничего не слышит – и эта тишина страшнее сверхзвуковой какофонии.
Деревня Флёры, куда добредут эти двое, пуста. Когда наконец до мальчика дойдет понимание, что все вокруг мертво, его снова накроет оглушенность. И опять появится ангел смерти – аист на краю деревенского колодца.
А Флёра и Глаша будут продираться сквозь засасывающую в бездну болотную грязь, чтобы выбраться на остров, где деревенские старики, бабы да малые дети нашли спасение от фашистской пули и огнемета, но не отвели от себя костлявую руку голодной смерти. И опять – оглушенность Флёры, разрывающая ему голову изнутри, и кажется, что спасение – утопить эту голову в болотной трясине… Когда Глаша вытащит Флёру за волосы из болотной жижи, это будет уже другой человек. Ему, как вступающему в новую жизнь монаху, состригут ножом волосы и «похоронят» их, закопав в поросшей болотным мхом земле. А Флёра увидит лица деревенских баб в темных платках, посылающих в бесконечность времен свой застывший взгляд – и видящих сейчас в нем, Флёре, свою единственную, последнюю надежду.
Флёра уходит с тремя мужиками в ближайшее село, чтобы добыть еды для всей «островной» деревни. И здесь режиссер делает неожиданный, но очень правильный ход: он выводит на первый план человека из народа со всем набором элементов его жизненного естества: с его живучестью, находчивостью, солеными словечками и сальными анекдотцами, с его естественными страхами – не его моральным выбором. Это значит, что режиссер говорит с каждым из нас – и о каждом из нас. И поэтому мы успеваем за несколько минут экранного времени полюбить этого простого мужика со странной фамилией Рубеж – народного смехача, чудака, который, может быть, одними своими шутками-прибаутками кому-то дает силу прожить еще один день в окружающем аду. Это он делает из скелета «статую» Гитлера с поднятой в нацистском приветствии рукой, тащит ее на себе под пулями и ставит посреди дороги на виду проезжающих немцев («Вот бы поглядеть – люблю комедь!»). Это он подбадривает своих истощенных товарищей, обессиленно плетущихся за едой по кажущейся бесконечной тропе («Давай, давай, скороходы!»). И он же не дает пасть духом, когда предприятие проваливается («Пошли за шерстью, а вернулись стриженые!»). И когда двое из товарищей подорвутся на мине, Рубеж не даст Флёре впасть в отчаянный ужас. Когда уже самого Рубежа настигнет пуля, Флёра от преисполненности пережитым… заснет (оглушенный) на еще теплой убитой корове, и только безучастная белая луна будет тому свидетелем. Но когда он проснется, враз повзрослевший, он уже будет в силах выживать и бороться в одиночку[34]34
В этом же эпизоде под пулями погибает и корова, уведенная нашими героями из оккупированной деревни в качестве «еды». Юный актер Алексей Кравченко, исполнитель роли Флёры, не знал заранее, что корову будут убивать по-настоящему Жестокое и мучительное убийство в кадре животного (и соответствующий шок для юного актера) сейчас является одним из серьезных поводов для негодования многих критиков фильма (особенно зарубежных), но оно же и доказательство «предельного» стиля автора, выходящего за рамки условности художественно-игрового пространства произведения. – Прим. авт.
[Закрыть].
Поразительно, как уже использованные Климовым в «Агонии» (1974–1981) смысловые архетипические образы совершенно изменяются в «Иди и смотри». Сверхчеловек – не «чудотворец», а простой мальчик. Мать – не экзальтированная царица, а деревенская простоволосая женщина. Бог – не на раззолоченных иконах, а в сожженном вместе с людьми деревянном храме[35]35
Эпизоды «зла» здесь, как и в «Агонии», сопровождаются легкой танцевальной музыкой, но здесь уже впечатление ужаса полнейшее, поскольку музыка звучит не за кадром, а в самом кадре (патефон в эпизоде сжигания людей), и сама музыка – не экзотическое танго, а народные, из прошлой жизни «Коробочка» и «Марусенька». – Прим. авт.
[Закрыть]. Задача режиссера теперь – не просто поразить зрителя откровенностью содержания (как в «Агонии»), а – через боль и шок – поднять его до осознания метасмысла происходящего (и через это – сблизить, собрать и объединить в человеческую общность). «Высокое сознание отличает человека от других существ. Но живем мы бытовым сознанием… Чтобы бытовое сознание стряхнуть, поднять зрителя к высокому сознанию, то есть вернуть его к его сути, необходимо потрясение. Для этого требуются острые, шоковые формы»[36]36
Климов Э. Неснятое кино. С. 185.
[Закрыть].
И финальный «обратный отсчет» групповых фотографий из «Агонии» (от снимков монаршей фамилии, выпускников аристократических заведений и пр. и пр. – к фотографиям сестер милосердия и, в конце концов, солдатских гробов) преобразуется в «обратный отстрел» Флёрой все более молодеющего лица Гитлера из прокрученной в обратную сторону немецкой хроники. И на пределе ненависти – вдруг видение Другого И невозможность выстрелить в портрет матери с младенцем – невозможность разрушить образ христианского единения и спасения в любви, и в этом – узрение запредельного, продолжения бытия за пределами ада, сотворенного человеком на земле[37]37
Большинство зрителей и критиков замечают в этом эпизоде лишь то, что Флёра не может выстрелить в младенца-Гитлера, однако здесь чрезвычайно важна нераздельная общность младенца с матерью. – Прим. авт.
[Закрыть].
Сверхчеловеческое – не в сверхвозможностях, не в совершении чудес – а в сверхпонимании через преодоление невозможного, то есть истинное понимание и принятие подлинно человеческого.
«После «Иди и смотри» у меня возникло ощущение, что я избыл себя. И чтобы продолжить свой путь в искусстве, я должен сделать что-то невозможное, на преодолении непреодолимого совершить прорыв к себе новому, к себе незнакомому. Не устаю вспоминать слова Андрея Платонова из письма к жене: «Невозможное – невеста человечества. К невозможному летят наши души»[38]38
Климов Э. Неснятое кино. С. 172.
[Закрыть].
4. «Опрокидывающий образ» в западноевропейском кино: принуждение к реальности
Вопрос финала – один из главных в понимании нашей темы.
Именно финалами так разнятся сознание русского режиссера, направляющего свой взор за пределы конкретной ситуации и вообще за пределы этого мира, и сознание западного режиссера-интеллектуала, рационализм которого приковывает его к действительности. Его изобретательное воображение и завидная смелость позволяют ему свободно работать со всеми ее (действительности) элементами, в том числе проникать в тонкие слои человеческой психики, но отрыв от «слишком человеческого» он в большинстве случаев считает равнозначным лжи. Приведем в пример творчество одного из самых интеллектуальных режиссеров послевоенной Европы.
В одном из интервью французский режиссер Робер Брессон (один из выразителей, по словам Пола Шрейдера, «трансцендентального стиля» в кинематографе[39]39
Schrader Р. Transcendental style in film. Ozu, Bresson, Dreyer. Berkley Univ. of Calif. Press, 1972.
[Закрыть]), которому к тому времени было далеко за семьдесят, довольно резко сказал, что в своих первых фильмах он был слишком очевиден и прост. Очевиден и прост в чем? Видимо, в представлении на экране главной вдохновляющей идеи своего творчества – присутствия Бога в человеческом мире, в самой обыденной жизни. В стремлении передать это свое ощущение режиссер действительно использовал зачастую довольно прямолинейные приемы: озвученные внутренние «духовные» монологи героя, морализаторские реплики, многозначительные кадры с крестом и т. п. Брессон понимал, что он должен двигаться к более опосредованному, растворенному в жизненном естестве выражению своих идей, когда сама атмосфера его фильма впечатляет зрителя, передавая ему скорее ощущение, чем понимание происходящего. Трагическая ирония судьбы – судьбы не его личной, но всех европейцев на протяжении двадцатого века – состояла в том, что очищенный от всякой искусственности стиль Брессона обнажил в его поздних фильмах страшную правду реальной жизни: постепенное избывание духа христовых заповедей из жизни современного человека. В силу своей внутренней организации и эстетической позиции Брессон не доходит в своем творчестве до такого шокирующего явления европейского кинематографа, как «опрокидывающий образ», однако мы можем наблюдать низведение и даже в какой-то степени десакрализацию христианской символики, позволяющей нам говорить о «снижающем образе» у Брессона.
В фильме «Дневник сельского священника» (1951) Брессон еще верит во внутреннего человека – или, скорее, сочувствует ему (заметим, что фильм снят по роману Жоржа Бернаноса, известного своей непоколебимой приверженностью строгой морали католицизма). Две точки-средоточия духовной жизни героя неустанно в центре внимания режиссера – лицо и руки, особенно выделяющиеся, почти светящиеся на фоне бесформенной черной сутаны[40]40
Этот художественный акцент вызывает аналогию с православной традицией выписывания на подокладной иконе лишь лика и рук святого. Многие великие светские художники также выписывали на картине лишь лицо и руки («руки – второе лицо»), оставляя все второстепенные детали для работы ученикам. Лессинг в «Лаокооне» заметил: «Самое выразительное лицо кажется без движения рук незначительным». – Прим. авт.
[Закрыть]. Эти два равновеликих центра выражения внутренних мыслей и духовных усилий героя едины в своем… отсутствии в этом мире – и в то же время, в бессильной попытке участия в нем, в сознании своего долга видимой деятельности среди мирян. Взгляд камеры сосредоточен на глубине черных глаз при почти полном отсутствии мимики (на протяжении действия, с усилением физической боли у героя, все больше будут проступать темные круги под его глазами, а между бровями заляжет глубокая вертикальная складка). В руках отсутствует всякая пластичность – кюре с видимым усилием совершает медленные и небольшие по амплитуде движения или целой рукой, или одними пальцами, но не кистью: его запястья, придавшие бы его жестам выразительность и живость, не работают. Это как будто руки уже умершего человека: кюре чувствует в них неподъемную тяжесть при необходимости поднять их в крестном знамении, они с трудом справляются с чисткой картошки, из них падает и разбивается домашняя утварь. Рука – не орудие для внешней деятельности, но (как и глаза) переводчик и проводник во внешний мир внутреннего состояния. Благодаря постоянным крупным планам и долгим кадрам лица и рук героя, а также творимой на наших глазах рукописной летописи жизни, зритель все время находится так близко к самым потаенным сторонам личности героя, что далеко не сразу понимает, что автор так и не дал ему имени, обозначив в титрах лишь – «Кюре из Амбрикура».
Начинается фильм сразу с крупного плана руки молодого сельского священника, открывающего страницу своего личного дневника и записывающего в него первые строки своих горестных раздумий (режиссер усиливает личностный акцент в процессе творения рукописи, дублируя ее закадровым монологом[41]41
Приемом «умножения реальности» (дублирующие друг друга визуальная, текстовая и вербальная «документальности») режиссер пытается убедить зрителя в подлинности (сверхреальности?) происходящих событий, но добивается тем самым и ощущения болезненного одиночества как атмосферы фильма благодаря постоянной потребности героя в такой «логотерапии». – Прим. авт.
[Закрыть]). Молодой человек болен, но еще не знает, что обречен. Свои желудочные колики он связывает лишь с капризами пищеварения и лечит их своеобразным методом – принимая в качестве пищи лишь кусочки хлеба, размоченные в вине (первое явление инверсии церковных таинств – в данном случае причастия. В дальнейшем мы увидим такое же страшное обращение в противоположность таинства исповеди). В маленькой глухой деревеньке, где он получил приход, вести разлетаются мгновенно. Среди местных жителей, и так настроенных весьма недружелюбно к новому кюре, быстро разносится молва о его пристрастии к бутылке. В церкви, где он служит – всего одна прихожанка, Луиза, – гувернантка в богатой семье местного графа и по совместительству его любовница («Без нее церковь была бы совершенно пуста», – записывает в свой дневник кюре). Священник, призвание и обязанность которого – быть наставником и утешителем страждущих, сам отчаянно нуждается в понимании, сострадании и поддержке. Деревенские жители, которые должны были бы составить его паству, ведут слишком тяжелую трудовую жизнь и, похоже, разуверились в церкви как подателе утешения и божественной помощи. Они слишком подавлены, придавлены земными тяготами без всякой надежды изменить существующее положение вещей и видят в молодом кюре лишь нахлебника, да к тому же еще и пьяницу Все попытки молодого пастыря найти общий язык с местными жителями заканчиваются плачевно. Кто-то просто злобно смотрит в его сторону, не пуская в дом; кто-то ругается по поводу слишком больших церковных поборов на похороны. Суровый граф поучает его: «Народ слишком недоброжелателен. Не ищите слишком близкого сближения, не раскрывайтесь сразу».
Вольно или невольно, Брессон приводит зрителя к неутешительной мысли о победе вульгарно-материальной (что не подразумевает, конечно, благополучной) стороны жизни над ее духовной составляющей; вектор судьбы человека поворачивается в зависимости от степени его финансового и физического благополучия. Экран сам по себе убеждает нас в том, что источник трагических для религиозного сознания молодого человека мыслей, прежде всего, в его тяжелой болезни. Болезнь – в каждом кадре, ею пронизана вся атмосфера – мрачная, грязная и дождливая безысходность. Герой вслух мечтает о хотя бы малой толике того физического здоровья, которое он с завистью наблюдает в окружающих его людях. Но представим на минуту, что болезни, как несомого героем «тернового венца» (прокалывающего своими шипами всю сюжетную материю), нет, предположим, что он физически здоров и просто мучается некими сомнениями и разочарованиями в вере, которым особенно подвержены умные молодые люди около двадцати лет от роду, только что окончившие семинарию. Что бы это изменило в сложившемся положении вещей? Брессон выстраивает такие реальные и жестокие «человеческие» декорации, которые в любом случае поглотили и растворили бы в себе любую инакомыслящую маргинальность, заставив или принять «правила игры», или самоустраниться из социума. У молодого священника объективно нет более подлинной опоры для самостояния в духе (которую можно было бы хотя бы изобразить без фальши на экране) и сопротивления реальности, он вынужден врасти в эту почву всем своим существом и питаться ее отравленными соками – или стать отверженным. И в том, и в другом случае он духовно погибнет.
В XVII веке недуг Блеза Паскаля, приносивший ему невыносимые физические страдания, стал во многом побудительным мотивом для восхождения духа этого великого человека к высотам религиозно-христианской и естественно-научной мысли. Свидетельства близких людей, находившихся рядом с Паскалем, поражают современного читателя. Вот что писала о самых страшных минутах жизни своего брата Жильберта Перье: «Когда кто-нибудь ему говорил, что жалеет его, он отвечал, что его самого его состояние вовсе не удручает, что он даже боится выздороветь; а когда его спрашивали, почему, он отвечал: «Потому что я знаю опасности здоровья и преимущества болезни». А когда мы все же не могли удержаться и жалели его, особенно в минуты сильных болей: «Не жалейте меня, – говорил он, – болезнь – это естественное состояние христианина, такое, в котором он должен пребывать всегда, то есть в страданиях, в муках, лишенным всяких благ и чувственных наслаждений, свободным от всех страстей, без честолюбия, без алчности и в постоянном ожидании смерти. Разве не так христиане должны проводить свою жизнь? И разве это не великое блаженство – по необходимости впасть в то состояние, в котором долг обязывает нас пребывать?»[42]42
В книге: Блез Паскаль. Мысли. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1995. С. 65.
[Закрыть]. Горько признавать, но в наши дни такие слова звучали бы естественно только на театральных подмостках, да и то лишь как монологи из классических трагедий. А Брессон говорит о подлинной реальности нашего времени.
Племянница Паскаля описала вызывающие содрогание подробности посмертного вскрытия его тела: «…Желудок и печень его сморщены, а кишки в гангрене… У черепа не было швов, кроме лямбдовидного, что очевидно было причиной ужасных головных болей, которыми он страдал всю жизнь… Внутри на черепе, против мозговых желудочков, были две вмятины, словно выдавленные пальцем на воске; они были полны свернувшейся, запекшейся крови, от которой по мозговой оболочке уже пошла гангрена»[43]43
Там же. С.75.
[Закрыть]. Паскаль страдал невыносимыми болями много лет, при этом ставил научные эксперименты, совершал открытия и изобретения в самых разных областях, писал философские и религиозные трактаты, одновременно помогая духовно и материально всем страждущим, которых замечал на своем жизненном пути. Кюре из Амбрикура страдал всего несколько месяцев, мучаясь физически и духовно, и канул в безвестность. Но можно ли винить в этом лишь его моральную незрелость и слабость? Не является ли его личная «неименованность» в то же время и символом всеобщей потерянности человечества в наши дни? После колоссальных потрясений XX века человек, по словам Бердяева, «провалился», потерял онтологические основы своего существования, дух человека раздавлен этим обстоятельством. Кюре, кажется, заключает сам себя в замкнутый круг одних и тех же малодушных мыслей и сомнений, не находя никакого выхода вверх: «Я не мог больше молиться. Я не мог себя заставить… Передо мной – черная стена… Бог покинул меня, я в этом уверен…» Но может ли ситуация сегодня выглядеть по-другому и при этом не быть лживой?
В наше время среднему человеку путеводным реальным ориентиром служит не некто великий духом, «Паскаль» нашего времени, – а новый герой: человек высокоматериальный. Сытый, здоровый и успешный «хозяйственник», который теперь уже не есть объект насмешек просвещенных остроумцев типа Эразма Роттердамского. Напротив, теперь он – выразитель духа времени, и потому прав. Как, например, старший коллега нашего героя – «Кюре из Торен», поучающий его: «Наводите порядок. Целый день наводите порядок». И вера его – тоже очень здоровая и упорядоченная (прихожан, которые выражают недовольство существующим церковным порядком, по его словам, надо гнать взашей). На его голове – солидная широкополая шляпа, в отличие от жалкого «мальчикового» берета молодого кюре. Ездит хозяйственный священнослужитель на комфортабельном авто, а не как наш герой – на покореженном старом велосипеде. И прихожане больше доверяют такому солидному священнику, уважают и побаиваются его. Правда на стороне силы, здоровья и успеха. Трудно представить, что в его приходе могла бы разыграться сцена, которую мы видим в Амбрикуре: молодая девушка, дочь графа, приходит в храм и со всей силой отчаянной злобы, на которую способна только такая юная душа, говорит, почти крича, о своей ненависти и к матери, и к отцу, и к его любовнице, которую она готова убить. Священник отвечает, что такие признания он готов выслушать только в одном месте – в исповедальне. Но девушка, присевшая было на скамью для совершения таинства, говорит, что вовсе не хочет исповедоваться и не нуждается ни в каком совете или наставлении. Ее убеждения непоколебимы, и священник чувствует полное свое бессилие повлиять на это юное существо.
В конце концов, молодой кюре осознает «момент потери мужества и смирения перед жизнью». До него вдруг со всей страшной очевидностью доходит, что у каждого свой жизненный удел. Что же уготовано ему? «Я обречен вечной агонии», – вынужден признаться он сам себе и отдаться на волю Всевышнего.
После посещения доктора в соседнем городе, поставившего молодому человеку смертельный диагноз – рак желудка – он забредает в каморку своего бывшего приятеля по семинарии по имени Луи. Тот покинул церковную службу (то ли по болезни, то ли ради мирской жизни с любимой женщиной, то ли в результате некой «интеллектуальной революции») и пытается заработать на жизнь мелкой конторской работой. В его убогой комнатушке наш герой и найдет свой конец. А его друг пошлет письмо (напечатанное на конторской машинке) кюре из Торси, в котором опишет последние дни своего друга, и мы услышим предсмертные слова несчастного: «Так что ж, на все воля Божья» на фоне последнего кадра фильма – черной тени креста на стене («снижающий образ»).
Тень креста – более реальна, чем сам крест. (Вспомним у Сартра в пьесе «Дьявол и Господь Бог» слова архиепископа: «А на что тебе, Господи, тень служителя?») Дары причастия – вино и хлеб – больше облегчают физические страдания, чем духовные. Отчаяние и ненависть – более правдивы, чем покаяние и исповедь. Пассивная покорность – более удобна, чем духовный подвиг. Правда и подлинность самоявленной реальности для Брессона более важны, чем художественная изысканность самовыражения. Но поразительно: прильнув глазом кинокамеры к «самим вещам», Брессон одновременно являет и свое уникальное видение (то, что кинокритики назвали «трансцендентальным стилем») – и открывает (тем, кому дано видеть) присутствие Трансценденции в феноменальном мире. «Точная реальность – сверхъестественна», «Вещь – беспредельна» – слова режиссера из документального фильма «Неизвестный Брессон» (1965). Брессон постепенно отчаивается найти воплощение трансцендентного в человеке интеллигибельном и переходит в этом поиске к физическому миру – в том числе и к человеку материальному. Finita la commedia humana?
В своем последнем фильме «Деньги» (1983) Робер Брессон ставит точку в своих «исканиях человека». Снятый по мотивам рассказа Льва Толстого «Фальшивый купон», фильм французского мастера полностью избавлен от идеализма великого русского писателя, отражая безнадежную реальность положения человека к концу XX века.
Молодой человек по имени Иван[44]44
В лице своего персонажа Ивана Брессон соединил сразу несколько образов из произведения Толстого. – Прим. авт.
[Закрыть], зарабатывающий свой трудный хлеб развозом и наладкой газовых баллонов, принимает из рук солидного владельца фотомагазина в качестве платы за сделанную работу фальшивую купюру в 500 франков. Почтенный буржуа таким образом удачно сбыл фальшивые деньги, полученные дурехой-продавщицей его магазина из рук двух шалопаев-гимназистов. Как водится, отвечать за делишки сынков богатых родителей и махинации бесчестных дельцов приходится ни в чем не повинному простодушному трудяге. Иван попадает в тюрьму. А уж там, оскорбленный и озлобленный, он становится внимательным слушателем «знатоков жизни», открывших ему глаза на истинное положение вещей и внушивших новую «философию существования». Циничный сосед по камере рассуждает так: «Нам говорят: жди, когда мир станет счастливым. Но я не хочу ждать всеобщего счастья, которое будет смертельно скучным.
Я хочу быть счастливым прямо сейчас, по-своему, по-другому. Деньги – видимый Бог! Чего мы только не сделаем ради него?» Храм Божий опять становится меняльной лавкой (приведенные в храм на мессу заключенные используют это место и время для совершения торговых «сделок»). И очень скоро такой приятный и понятный Денежный Бог приобретает в лице Ивана своего нового фанатичного последователя.
Камера Брессона совсем уходит с уровня «поднятых к Небу глаз». Практически всё время она находится на уровне головы сидящего человека. Когда он встает, камера не следует за его лицом, не поднимается и не поворачивается. Соответственно, зритель видит на переднем плане спины, животы, ноги. Это даже не камера наблюдения или слежения, это камера безучастной фиксации – как современные стационарные «глазки», изначально предполагающие в человеке склонность к совершению противоправных действий и выполняющие роль современных стражников, охраняющих жрецов Денежного Бога и их богатства.
Иван становится из простодушного трудяги убежденным преступником потому, что сама реальность ему показала, что человеческая жизнь (и его собственная жизнь в том числе – что доказывает его попытка самоубийства в тюрьме) не имеет никакой стоимости, а уж тем более ценности. А вот человеческая смерть может принести некоторое материальное удовлетворение. И даже удовольствие. Выйдя из тюрьмы, Иван начинает безжалостно убивать ради денег. Его не останавливают ни крики, ни мольбы, ни остановившиеся в ужасе глаза детей. В конце концов, он убивает целую семью доброй пожилой женщины, которая, казалось бы, одна поняла и приняла его, кормила и укрывала. И только взгляда ее глаз в момент убийства Иван не смог впоследствии забыть. Именно этот взгляд остановил цепь кровавых преступлений Ивана и заставил его добровольно сдаться полиции.
На этом фильм Брессона заканчивается. Но главное в рассказе Толстого – то, ради чего он был написан («Часть вторая»), его открыто-моралистическая, идеалистически-христианская часть – с этого места только начинается. В сцене убийства Марии Семеновны у Толстого читаем: «За перегородкой лежала в постели Мария Семеновна и, поднявшись, смотрела на Степана испуганными, кроткими глазами и крестилась. Взгляд ее опять испугал Степана. Он опустил глаза.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!