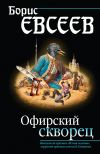Текст книги "Смуглая Бетси, или Приключения русского волонтера"
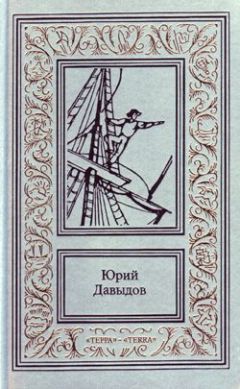
Автор книги: Юрий Давыдов
Жанр: Книги о Путешествиях, Приключения
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
4
Он был и в Бостоне. Подробности не удержались в моей памяти, разве что прозвище горожан, отличавшихся устойчивой невозмутимостью: «белая печень». Он и туда, в Бостон, доставил секретные пакеты; но от кого и кому – убей, не знаю.
На тракте Бостон – Нью-Йорк в харчевне «Братец Джой» у него была назначена встреча с майором дез Эпинье. Каржавин поспел к сроку. Хозяин постоялого двора ему не понравился – плутовская рожа. Но Федор подумал, как все мы думаем в подобных случаях: э, детей с ним не крестить. А хозяин сразу назвал его мистером Лами. Ухмыльнулся: господин майор предупредил – приедете на замечательном жеребце. И спохватился: «Прошу прощенья, сэр. Вот письмо».
Федор прочел: дела вынудили дез Эпинье задержаться в Филадельфии; мсье Лами предстоит добираться в одиночку, и притом близ английских позиций; надо, сударь, все хорошенько взвесить, прежде чем поставить жизнь на карту.
Утром, позавтракав жареной свининой с картофелем и напившись чаю, Каржавин бодро вышел из харчевни. Было морозно и солнечно, снег сверкал. Оставалось крикнуть: «Коня!» – и пуститься в путь. И Федор крикнул: «Коня!» Тотчас возник хозяин харчевни. Его рожа выражала ту крайнюю степень растерянности, за которой следует первая степень отчаяния.
– Прошу прощенья, сэр… Прошу прощенья, сэр… – повторял этот мерзавец, разводя руками и как-то нелепо приседая, словно охотясь за курицей.
Швырнув на пол седло с притороченными седельными пистолетами, Федор опрометью бросился в конюшню. Коня не было! Федор ринулся назад. Он пристрелил бы негодяя, да-да, пристрелил бы, но кто-то из подручных хозяина успел стянуть и пистолеты.
Вчера еще конный, Каржавин был отныне пешим. Он глядел туча тучей. Мороз и солнце, студеный, крепкий воздух, этот скрип снега под ногами союзно взялись помочь ему. Он выровнял шаг, велел себе шагать мерно.
Майор дез Эпинье предостерегал от гужевой, фурманной дороги – держитесь линии, разделяющей наши позиции от вражеских. Совет был дельный, но трудноисполнимый: приметы, указанные майором, не сравнишь со штурманской картой.
Холодное солнце поднималось все выше, снежный наст сверкал все ослепительней. Каржавин, однако, не подозревал близость беды. Он шел полями, перелесками, по льду ручьев, шел, наливаясь тяжелой усталостью, жмурился, терял и снова находил нужное направление. Порой ему чудился дым жилья, он прибавлял шагу, запах дыма исчезал.
И вдруг лицо его взмокло от слез. Он отирал слезы варежкой из кроличьей шкурки. (И варежками, и ондатровой шапкой, и кожаным жилетом, и теплыми сапогами, как и долгополой курткой на волчьем меху, – всей этой фермерской справой Каржавин обзавелся еще в Бостоне.) Слезы лились неудержимо, в глазах была резь нестерпимая. Тропа двоилась, пропадала, вновь возникала, и опять ее не было видно. Наконец все смешалось и погрузилось в темноту. Его ослепили солнце и снег. В давнем, далеком качалась вывеска… Дядюшка Ерофей потешался – грамотеи: «Окулист для глаз…» Раскачиваясь на кронштейне, вывеска издавала длинный ржавый звук. И этот звук терзал Каржавина, пока он, словно наперекор судьбине, не одолел несколько ярдов и почти уж незрячим не наткнулся на одинокое дерево – то, что оно было одиноким, словно бы родственно обрадовало Федора. Собираясь с силами, но обессилев вконец именно потому, что остановился, он, опустившись на снег, привалился спиною к дереву. Котомка мешала – стащил ремни, положил котомку на колени. Съестным не запасся, предполагая краткость дороги. В котомке было полдюжины сухарей и полпинты рому. Он понимал, что не смеет прикладываться к фляжке. И приложился, глотнул. Достал сухарь…
Мысли мешались, он погружался в забытье. Ничего не видел, только слышал, опять слышал длинный ржавый звук – «Окулист для глаз». Но звук менялся, обретал полноту, плавность, был волнистым, шел кругами, стал серебряным, чей-то голос произнес: «Серебра в колоколах много, вот что, господин учитель». И Федор понял, что лавра неподалеку и тракт – неподалеку, и там, на тракте, рядом с лаврой – ямской стан…
5
Подняли рывком и встряхнули, как пустой мешок. Пахну́ло конским потом, звякнуло оружие.
– Вперед! – гаркнул сиплый бас.
– Патрик, – взмолился чей-то голос, – посади беднягу в седло.
– Эх, Нэнси, бабья душа, – насмешливо отозвался сиплый бас и припечатал Федора затрещиной.
Это привело его в ярость, он разразился ругательствами неместной выделки, что и послужило для Патрика веской уликой: «Кипеть мне в серном котле – шпион!»
Тот, кого звали Патриком, очень хотел изловить вражеского лазутчика. Желание столь же заманчивое, как и найти невзначай тугой кошелек. В данном случае первое было залогом второго. И кто же осудит Патрика? Дома, на крохотной ферме, осталось полдюжины ртов.
С неделю тому однополчане сцапали господинчика в партикулярном платье. Обыскали. Под стелькой сапога нашли какие-то бумаги. Шпион предложил золотые часы. Взятку не взяли. Поимщиков щедро наградили. Толковали, что отчеканят медали «За верность» и «Любовь к родине победит». Вот почему Патрик и Нэнси приступили к ежедневным изысканиям на нейтральной полосе.
Обо всем этом Каржавин, понятно, знать не знал. Как и то, в чьи руки попался. Англичан? Значит, пой отходную: за пазухой бостонские пакеты, адресованные генералу Вашингтону… При мысли об англичанах в глазах бы у него потемнело, если бы вторые уж сутки не было в глазах темно. Тут-то и произошло нечто необъяснимое. Неверный, смутный, словно бы в пузырьках и соринках, но свет, свет, свет! И Каржавин счастливо рассмеялся.
– Никак, он спятил, – испугался тот, кого звали Патрик, полагая, вероятно, что рехнувшийся лазутчик не стоит и цента.
А Каржавин опять рассмеялся. Но теперь уже оттого, что разглядел, понял, кто они, эти Патрик и Нэнси, – господи, кто угодно, только не английские солдаты.
– Будет гоготать, – прикрикнул плечистый детина и потряс мушкетом.
– Никуда не денусь, боюсь потеряться, – улыбался Каржавин, глядя на Нэнси, – то был тоненький, безусый солдатик; его обветренное личико походило на девичье, и Каржавин понял, что «Нэнси» не собственное имя, а прозвище.
Метель легла, потянуло дымом. Минуя сторожевые посты, Патрик горделиво объявлял, что вот, мол, изловил мерзавца-лазутчика, а ему отвечали не без зависти, что он счастливчик, Патрик благородно кивал в сторону Нэнси: дескать, и этот причастен.
Но вот они достигли цели, и Каржавин увидел солдатский строй, барабанщиков, офицеров. Несколько солдат с ружьями стояли в стороне, окружив кого-то плотным кольцом. Поодаль темнели строения зимнего лагеря – не то шалаши, не то хижины. На лугу корячился суковатый дуб, с нижней ветви свисала веревка.
– Стой! – приказал Патрик. – А теперь изволь-ка сесть на коня. Полюбуешься, как твой приятель задрыгает ногами. То-то спляшет, а ты гляди не обмарайся, у тебя еще все впереди.
Казнили британского шпиона. Тот твердым шагом приблизился к виселице, поднял к небу два сжатых пальца и громко произнес: «Да здравствует король!» Ударили барабаны, Каржавин отвернулся… (16)
Он еще не успел справиться с тошнотой, когда торжествующий Патрик втолкнул его в офицерскую палатку и, приосанившись, доложил:
– Вот и другой шпион, сэр!
И тотчас глаза вытаращил: лейтенант Роуз обнимал «шпиона».
Объясняю внезапную перемену декорации: Джон Роуз, как и дез Эпинье, был с Каржавиным на борту «Ле Жантий». Ну, тот – белобрысый, молчаливый, основательный. Погодите, еще не все: Роуз обнимал не только корабельного товарища, но и соотечественника. Да-с, именно так! Лейтенант был уроженцем Эстляндии. И не был ни Джоном, ни Роузом, его звали Густав Розенталь.
6
Четверть века спустя пишущий эти строки скучал на Английской набережной, дожидаясь отправления кронштадтского пакетбота. (В Кронштадт призывали заботы, о которых здесь нет нужды оповещать.) В числе пассажиров находился и Густав Хайнрикович фон Розенталь. Ему уже было пятьдесят, но седина оставалась неприметной – важное преимущество людей белобрысых.
Г-н Розенталь жительствовал в Ревеле, занимал какую-то должность, кажется выборную от дворянства, в Петербург приезжал о чем-то хлопотать, а теперь, возвращаясь, решил насладиться морской прогулкой.
Наведываясь в Петербург, он всякий раз отдавал дружеский визит Каржавину. Посетил и нынче в доме у Кашина моста, близ Морского собора. А потом познакомился с американским консулом. (Если не ошибаюсь, тогда был аккредитован Левет Гаррис, человек в высшей степени любезный.)
Густав Хайнрикович ходил в консульство с докукой личной. Он службу закончил майором. Его наградили землей в Огайо и Пенсильвании, наградили и орденом. Заокеанские угодья не прельщали г-на Розенталя, а вот орденский знак он просил выслать в Ревель.
– Поверьте, – иронически улыбаясь, говорил Густав Хайнрикович, расположившись на палубе пакетбота, спускавшегося вниз по Неве, – поверьте, я спокойно отправился бы на тот свет и без ордена из Нового Света, там, в Америке, эдакие пустяки давно забыты. Но здесь, вы знаете, о-о-очень серьезный взгляд на ленты и кресты. К тому же ни у кого в России нет такого. А меня черт дернул сболтнуть, и теперь я могу прослыть хвастуном и вралем.
(Спешу отметить то, что узнал позже и не от него; отметить и тем самым подчеркнуть самостоятельность натуры г-на Розенталя: вернувшись в отечество, он бесстрашно заявил – отказываюсь от всех своих привилегий, пока независимое государство в Северной Америке не получит официального признания Российской империей.)
Постепенно разговор наш принял иное направление.
В ту пору реяло – Бонапарт, Бонапарт, Бонапарт: корсиканца провозгласили императором французов.
– А я считаю его негодяем, – энергически формулировал г-н Розенталь.
Можно было ожидать расхожего: Бонапарту следовало восстановить Бурбонов. Но нет, Густав Хайнрикович рассуждал так: Наполеон предал революцию; Наполеон – узурпатор, недостойный и каблука от сапога бессмертного Вашингтона.
– Ваш покорный слуга, – продолжал г-н Розенталь, – служил одно время адъютантом генерала Джэксона, потом генерала Ирвина, посему коротко знавал адъютантов главнокомандующего. Вся эта история с полковником Никола мне хорошо известна…
История с полковником заключалась в следующем.
Он был рупором тех, кто якобы во имя революции предлагал главнокомандующему корону: «Да здравствует Джордж Первый!» Меморандум полковника Никола излагал суть без обиняков, как говорится, с солдатской прямотой, в расчет не приняв только то, что народом владел республиканский дух, а главнокомандующим – республиканская идея.
Вашингтон ответил письмом; копию письма адъютанты удостоверили. Ответ гласил: ваше предложение отвратительно: оно чревато величайшими бедами для нашей родины.
Суровая отповедь генерала восхищала бывшего майора. Нельзя было не разделить его восхищение, хотя и нельзя было не понять, что виргинский плантатор – сторонник не демократической, а олигархической республики. Но отказ Вашингтона от единоличной власти вряд ли известен многим.
Захват же Бонапартом единоличной власти известен всем. И вот что примечательно: Наполеон поныне в ореоле славы – магнетизм удачи и наглости?..
Пакетбот между тем подходил к Большому кронштадтскому рейду. Летнее солнце празднично освещало панораму Финского залива: лесистые берега, остров Котлин, движущиеся баркасы и шлюпки, корабли с убранными парусами.
Г-н Розенталь пересел на ревельскую шхуну. Жаль, не довелось погостить на его мызе Фелкс. Следовало бы записать рассказы бывшего Джона Роуза, ибо то, что вкратце излагается ниже со слов Каржавина, лишь толика пережитого Густавом Хайнриковичем (17).
7
Он клялся: легче было трижды подняться в атаку, нежели день протянуть на холмах Валли-Фордж.
Что такое Валли-Фордж?
На холмах, занесенных снегами, сотни хижин, продутых насквозь. Тысячи голодных: ни муки, ни мяса, ни чая, ни сахара – бурда из коры и черных листьев. Тысячи разутых – на остром мерзлом снегу кровавые следы. Валли-Фордж – это дизентерия и чирьи, кашель, раздирающий грудь, – в госпитальных шалашах ни одеял, ни медикаментов. Валли-Фордж – это зимние квартиры континентальной армии.
Не поступали ли грузы, отправленные торговым домом «Родриго Горталес»? Поступали и раньше и позже, но в ту страшную зиму – нет. Впрочем, однажды привезли обувь, однако парижские сапожники не угадали, каковы ноженьки американских пахарей, лесорубов, охотников. Не лезла, хоть плачь.
Тот, кто не был в Валли-Фордж, утверждал лейтенант Роуз, не подозревает, что такое страдание. И не сознает, что такое чудо.
Да, рядовые дезертировали сотнями: «Невмоготу! К дьяволу!» – и уходили домой, к голодным ребятишкам и женам. Да, десятки офицеров вложили в ножны свои шпаги: «Всему есть предел!» Да, назревал бунт: «Хлеба!» Угрюмая, глазастая, обросшая щетиной толпа накатила на штабной барак: «Требуем генерала Вашингтона!»
Изможденный, обметанный сединою, он молча смотрел на солдат. Они ждали, что он скажет. Он ничего не сказал. Его лицо стало мокрым от слез. Тогда сказали солдаты: генерал, мы хотим только, чтобы вы знали, каково нам достается. Он знал, его рацион был не жирнее. И чудо свершилось: повеяли весенние ветры и призраки, вынесшие невыносимое, принялись готовиться к летней кампании.
– А теперь, мой друг, – заключил Джон Роуз, – вы почти в райских кущах.
И впрямь, нынешняя зимовка – начала семьдесят девятого года – отличалась от прошлогодней, Валли-Форджской. Роуз многое приписывал благодеяниям Франции.
Год уже, как Франция открыто выступила на стороне Штатов. Эскадра, плещущая белым королевским флагом, действовала в водах Вест-Индии. Экспедиционный корпус, блещущий белой униформой, дислоцировался на континенте. Правда, версальские политики отнюдь не рвались таскать для американцев каштаны из огня. Но, сказал Роуз, генерал Вашингтон признает, что Франция спасает нас своими поставками.
Вот это – спасает поставками – обрадовало Каржавина: Вашингтон, в сущности, отдавал должное усилиям Пьера Бомарше. И все же Неунывающий Теодор, в отличие от Джона Роуза, полагал благодеяния Франции недостаточными. Говорил: «Да, привезено немало шарлевильских и мобежских изделий[13]13
Шарлевиль и Мобеж – города Франции, где находились казенные оружейные заводы. «Плошками» называли в просторечии шляпы с приподнятыми полями; их носили во французской армии.
[Закрыть]. В храбрости ребят, нахлобучивших плошки не сомневаюсь. Однако никто и ничто не спасет американцев, ежели они сами себя не спасут».
Захваченный как шпион и, к счастью, реабилитированный не посмертно, Каржавин попал в отряд, находившийся в непосредственной близости английских аванпостов. И теперь уж Смуглая Бетси была для него не только символом революции.
Взглянув на боевые порядки континентальной армии, вы увидели бы и пенсильванские, и французские ружья, увидели бы и английские гладкоствольные мушкеты, вот эти-то и прозвали – Смуглая Бетси.
Патрик великодушно простил мистера Лами за то, что тот – не шпион. Втроем они участвовали в вылазках: третьим был худенький солдатик, похожий на девицу и посему носивший имя Нэнси. Стреляя по королевским гренадерам в высоких медвежьих шапках, Патрик рычал: «Будьте вы прокляты!» А Нэнси звенел колокольчиком: «Да направит господь пулю сию…»
Стычки требовали храбрости. Каржавин различал храбрость и мужество. Первое – вспышка, второе – постоянный огонь. Он находил, что способен на храбрость. Но мужествен ли? Нет, не ручался. Другое дело, говорил Каржавин, Патрик, Нэнси – все, кто прошел ад Валли-Фордж – пурпурные сердца! Не всегда на мундире или на куртке, но всегда в груди[14]14
Знак отличия из пурпурного шелка, награда для солдат континентальной армии.
[Закрыть].
Отвага зависела от сердца, но не зависела от цвета кожи. И тогда, и впоследствии Каржавин пылко подчеркивал доблесть «черноцветных». Его пылкость воспламеняла ненависть к тем виргинцам, которые спесиво разглагольствовали в таком вот духе: негры подлы, ибо услужливы, а услужливы потому, что подлы; натура рабская, а рабы никогда не станут солдатами, воюющими с деспотией…
– Скоты! – Каржавин ударял кулаком по столу. – Они платят белому солдату, а черному кукиш: получишь, мол, после войны… Ни крупицы совести! Как не признавать заслуги черноцветного народа? Джек Сиссон и Сейлем Пур – стоили батальона. Добровольцы из Коннектикута – гроза! А при Идентоне? Не сыщись тот малый, ничего бы не выгорело. А проворство и неутомимость черных разведчиков? А как убирают часовых на аванпостах – молния! (18)
8
То ли еще на борту «Ле Жантий», то ли уже в зимнем армейском лагере Джон Роуз узнал о том, что Каржавин сведущ в медицине. Пришлось засучив рукава пособлять батальонному лекарю до приезда помощника, назначенного главным хирургом континентальной армии.
Вернусь ненадолго во Францию.
В парижском анатомическом театре Каржавину бывало пострашнее, чем на театре военных действий. Несчастного пса распинали на широком столе. Пес выл. Профессор работал недрожащей рукой. Отсекал сердце, поднимал на ладони – смотрите! Трепет кровавого комочка отзывался тяжелой болью в левой скуле Теодора Лами – там, где ему, маленькому, ломали кость, пожизненно награждая серповидным шрамом.
Правду сказать, фармацевтика влекла куда больше хирургии.
В аптеку на улице де Граммон (рядом с русским посольством) он хаживал легким шагом.
О, храм фармацевтики: четыре фрески, мягко освещенные светом стрельчатых окон, аллегории четырех стихий – земли и воды, огня и воздуха. И две бронзовые фигуры – древнего грека весьма пожилого и древней гречанки совсем молодой: Асклепий, бог врачевания, и Гигиея, дщерь его. Дубовые шкафы и полки красного дерева уставлены посудой, утварью, давильными прессами – стекло, медь, мрамор. А в деревянном футляре с кружевным орнаментом – миниатюрные весы.
О, жрец фармацевтики Марсель Полиньяк: черная мантия, лиловая ермолка на седых, кольцами волосах. На указательном пальце – аметистовый перстень. Аметист протрезвляет пьяниц? Да ведь всей округе ведомо было, что господин провизор несгибаемый трезвенник. А может, жрец фармацевтики обнаружил и целительность аметиста от желудочных колик? Ведь мсье Полиньяк страдал желудочными коликами.
Стоп! Грех трунить над добряком, готовым помочь последнему бедняку, грех потешаться над учителем Теодора Лами. Мсье Полиньяк давал практические уроки. А книги не давал, то есть не позволял уносить домой. Потомственный аптекарь дорожил наследством предков – медицинскими словарями, травниками, диссертациями, среди них была и курьезная – Игнациуса Цинкера, автора замечательных открытий: мол, некоторые птицы врачуют пристальным взглядом своих круглых глаз, а некоторые, например индийские и шотландские утки, произрастают на деревьях.
Храня наследство, фармацевт поступал правильно. Да видать, старательно-любознательный ученик столь уж импонировал аптекарю, что тот изменил своему правилу – подарил Лани трактат Пьетро Кресченци. Теодор рассыпался в благодарностях, его библиофильская душа трепетала. Еще бы! Венецианское тиснение начала шестнадцатого века, великолепный переплет, экслибрис со щитами и львами, орлиными крыльями и герцогской короной – восхитительно! А сверх того, и пользительно: свод наблюдений – свойства овощей, растущих на огородах. Хрен редьки не слаще? Верно. Но жженый хрен заживляет раны, а редька натертая – язву. Свежетолченый хрен вроде горчичников, а соком редьки усмиришь кашель. Чеснок? Диоскорид, земляк Асклепия, приметил чудодействие чеснока при кишечных беспорядках. Морковным соком лечи гнойники и ожоги, сок свекольный победит воспаление легких…
Пометками, пометками, пометками испещрял наш библиофил латинский текст. Книголюбы всплеснут руками: «Варвар!» А он готовился к дальним странствиям и сознавал необходимость готовности к помощи своим ближним. И на книгах, купленных в лавках улицы Сен-Жак, знакомой с юности, тоже чиркал перышком: «желтуха», «пиявница», «от каменной болезни», «перевозка больных», «морские сухари…»
Незадолго до отплытия «Ле Жантий» Каржавин приобрел влетевший в копеечку набор хирургических инструментов: ампутационная пила, троакар для пункции грудной и брюшной полости, трепан для «взлома» черепов, ланцет, пулевые щипцы, турникет, останавливающий кровотечения. На оружие огнестрельное и холодное, предназначенное для убийства и калечества, смотришь спокойно, любуясь чистотой, искусностью работы, ничуть не задумываясь, что оно, это вот огнестрельное, это холодное, может оборвать т в о ю жизнь, изорвать т в о ю плоть. На инструмент же хирургический, предназначенный для спасения, для вызволения, смотришь иначе: будто на себя «примеряешь» – и холодок по спине. Зловещее – огнестрельное и холодное – подло умалчивает о хрупкости нашего бытия. Милосердное, хирургическое, одним лишь острым блеском своим наводит на мысль о тонкой, легко рвущейся нити земного существования…
Батальонным лазаретом управлял Джонатан Маккензи. Доктор смахивал на матерого кабана. Казалось, вот-вот обнажит клыки. Спросил: «Уайзен знаком вам?»[15]15
Ричард Уайзен – автор «Семи трактатов по хирургии».
[Закрыть] Федор разозлился: уговорили сменить Смуглую Бетси на скальпель, и что же? – экзаменуют, как несмышленыша.
– Вы учились в Париже? – язвительно продолжал лекарь.
– Да, – отрезал Каржавин. – И что же?
Лекарь пожевал губами.
– Сударь, в вашем танцующем Париже медицина – это ворох предрассудков. А врачи трещат, любезничают и ни черта не смыслят. Да и вообще у вас там, в Париже, выставь обезьянью задницу напоказ – сбежится весь город.
– А у вас в Лондоне, – парировал Федор по принципу «сам дурак», – у вас в Лондоне какой-то пройдоха объявил: на глазах почтеннейшей публики влезу в бутылку. Рты разинули: «Неужели правда?» – и толпами, толпами.
Маккензи нисколько не был задет. Во-первых, он родился и до шестидесяти дожил здесь, в Пенсильвании. А во-вторых, существенная разница: парижане – любопытны, лондонцы – доверчивы. Каржавин рассмеялся:
– Если так, мне лондонцы милее.
Старик приложился к табакерке. Троекратный чих был смачным, кабаньи глазки г-на Маккензи увлажнились. Английская хирургия, примирительно сказал он, недалеко ушла от французской. Цирюльников-то, вы знаете, давным-давно изгнали из корпорации, дозволив лишь зубы драть, но и те, кто в корпорации, – коновалы. Как и ваш покорный слуга, с беспощадной и вместе печальной самоиронией прибавил г-н Маккензи. Федор усомнился не столько из вежливости, сколько от прилива благорасположения…
На фронте царило затишье. Не тяжкое, молчаливо-скованное ожидание, какое бывает на пороге больших сражений, а дремотное, зимнее, как медвежья спячка. Но быстрые, как волчьи вылазки, сшибки происходили нередко.
На третий или четвертый день каржавинской госпитальной службы произошла – в нескольких милях от лагеря – очередная стычка. Часа полтора спустя до лазарета добрались офицер и солдат. Пожилой офицер был бледен, правой рукой он опирался на шпагу, левой полуобнимал солдата.
– Ах, дьявол, что это с вами, Роберт? – сокрушенно-сурово спросил батальонный лекарь.
– Было бы желательно, сэр, чтобы вы взглянули на мою голову, – едва слышно сказал раненый.
Его бережно усадили, сняли шапку, осторожно выстригли прядь седых волос. Маккензи, осмотрев черепное ранение, выпрямился.
– Ну, сэр, что там? – спросил офицер.
– Как ни прискорбно, Роберт, ваша рана смертельна.
– Гм! В самом деле? Ну, да я так и предполагал…
То был его последний вздох.
Старик Маккензи потянул Каржавина за рукав.
– Ужасны и смерть, и это мое лекарское отупение от смертей, – глухо молвил Маккензи.
Зимой было все же легче, чем в разгар лета.
Каржавин чувствовал себя новой метлой. Найдя, что Гигиея не шибко озабочена лазаретной гигиеной, он велел мыть и скоблить. Зимой легче, чем летом? Да, конечно. Однако обойтись ли лагерю без лагерной лихорадки, то бишь дизентерии? Без горячек, воспаления легких и прострелов, пусть не пулевых, однако мучительных? К тому же штаб армии распорядился начать оспопрививание. Короче, скучать не приходилось.
Не зная угомона и сознавая потребность в просветительстве, он учил сиделок азам фармацевтики.
Молли, негритянка, оказалась не только ловчее и аккуратнее товарок, но сообразительнее, памятливее. Раньше она работала на ферме. Фермерша овдовела, сыновья ушли в континентальную армию. Как-то раз на ферму припожаловал английский эскадрон. Офицеры играли в кости и курили трубки. Капитан спросил хозяйку, много ли у нее детей, она ответила: «Девять. И семеро служат отечеству». Капитан криво усмехнулся: «Порядочно». Фермерша спокойно возразила: «Нет, сэр, теперь я желала бы, чтобы их было у меня пятьдесят». Молли это слышала. Когда англичан вышибли, она упросила хозяйку отпустить и ее, Молли, служить отечеству.
В фармацевтике она преуспевала, полагаю, еще и потому, что слыла в своей округе знахаркой. В те времена это еще не было синонимом надувательства.
Федор признавал:
– Родная мать так не выходила бы Нэнси.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?