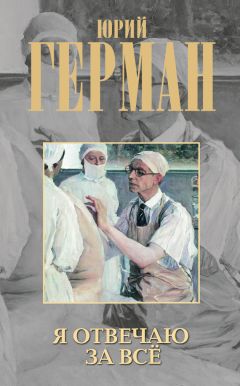Читать книгу "Я отвечаю за все"
На следующий день она поделилась своим замыслом со Степановым.
Женька оторопело помолчал, потом осведомился:
– Ну а та… старая ваша тема?
– То – тема всей жизни, а это актуальнейшая работа, целиком связанная с практической жизнью. Надеюсь, вам понятно, что наука и практика едины?
Пока она должна была только заявить о себе, отрекомендовать себя, показать всем здесь свою волю, свою несгибаемость, свой характер, свою нетерпимость и непримиримость.
Для этого ей следовало что-то или кого-то разоблачить, ударить по каким-то безобразиям, искажениям, извращениям, по гнилому либерализму или по зарвавшимся руководителям, все это рисовалось в ее воображении еще неточно, расплывчатыми мазками, ускользающими понятиями, но это непременно нужно было, по ее взглядам, для того, чтобы взойти наверх, руководить, командовать, повелевать.
Но чтобы бить по противнику, нужен противник. Враг. Вернее, человек, которого можно сделать врагом. Разумеется, не клевеща на него, а лишь вызвав в нем противодействие тому направлению, которое она считала правильным, справедливым, соответствующим духу времени.
«Непонимание современной ситуации, – так, пожалуй, можно было определить ей то, на что поведет она наступление. – Отсутствие скромности, выпячивание своего «я», мелкобуржуазный анархизм, игнорирование установок, данных всем без исключения…»
Какой-то еще «синдикализм» вертелся в ее голове, но она отмела его. Пока следовало искать здесь: вот в этом выпячивании «своего я» было начало начал.
«Устименко?» – подумала она.
Конечно, он был опасен. Но бить следовало только по-крупному. Разумеется, с ним еще было можно помириться, съездить к нему самой, а не вызывать его к себе, дать ему возможность самому полностью расставить кадры в своем больничном городке. Но какой смысл в этом примирении? Чтобы все было тихо? Разве этого она хотела?
Нет, ей нужен был бой с предрешенным исходом.
Она накопит резервы, она проведет все виды разведки, она вооружится до зубов, ее превосходство будет абсолютным. А противник, не подозревая о направлении главного удара, несомненно, будет совершать ошибку за ошибкой.
Вот что наделал «бобер», который был столь «добер», что простил Инне Матвеевне самим им обнаруженную в ней подлость души. Вот какие цветочки посадил «бобер» на унчанскую землю. А ведь ягодки еще не поспели…
И вот какого врага обрел себе неосторожный Владимир Афанасьевич в первое же знакомство с завкадрами. Вот какова была товарищ Горбанюк.
Впрочем, что-что, а врагов он умел наживать всегда и везде – таков уж был у него характер!
И умел их не бояться – вот что, пожалуй, было самым главным в этом его качестве. Не только не бояться, но и не замечать. И даже не то чтобы не замечать, а игнорировать. Например, на всякого рода совещаниях, где Инна Матвеевна стремилась его уколоть, поддеть или выставить эдаким нытиком, любящим все рисовать в черном цвете, Владимир Афанасьевич ей просто не отвечал. Как будто бы ее и не было, словно она не выступала, якобы он ее не слышал. Покусывая губы, не сдерживаясь, она спрашивала с места:
– Ну а мне вы не желаете ответить?
– Да что ж вам отвечать, – недоуменно вглядывался в нее Устименко. – Нет, я вам, пожалуй, не буду отвечать…
Ложась в свою узкую, жесткую, монашескую постель, Инна Матвеевна, жалея себя и свою уходящую молодость, напряженно и подолгу думала о том, как начнет она решающий и окончательный бой. А потом, в полудремоте, виделся ей одинокий волк, Жорж Палий. Виделся он, загорелый, играющий мускулами, в снежно-белой майке. Виделись его пустые и слепящие глаза. Где тлеют его кости?
Недоброе утро
– Ну вот, доброе утро, прошла еще одна ночь! – бодрым, хорошо поставленным голосом сказала мать Веры, Нина Леопольдовна. – Я пришла к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало…
Нина Леопольдовна была железнодорожной кассиршей высокой квалификации, но этой специальностью тяготилась, потому что считала себя одаренной драматической артисткой и раньше много играла в любительских спектаклях, которые впоследствии стали именоваться самодеятельными. Переиграла она за свою жизнь десятки ролей и, обладая хорошей памятью, всегда находила какую-либо подходящую фразу из роли, которую можно было употребить к случаю, если не целиком, то хоть частично, а если не из роли, то из стишка или басни, которых она знала великое множество.
– Мамуля, чаю, – потягиваясь на продавленном матрасе, попросила Вера. – Мы вчера пили…
– Ты не пей, молодушка, зелена вина! – ловко посадив на белую полную руку Наташку, продекламировала Нина Леопольдовна. – Володя, вы что будете, чай или кофе?
– И то бурда, и то бурда! – ответил он, одеваясь за печкой. – Вы бы заварили, Нина Леопольдовна, покрепче, не вегетарианского…
– Не боитесь испортить цвет лица?
Она всегда разговаривала такими фразами.
– Нет, не боюсь, – раздраженно ответил он.
– Ты не злись, – сказала Вера. – Мы ведь не виноваты, что тебя полночи продержали у больного. Это не мы устроили автомобильную катастрофу. Кстати, чем там кончилось?
– Ничем особенным, – произнес он. – Полежать Штубу придется с неделю, не меньше.
Он побрился тупым лезвием, потрогал лоб Наташки, не горяч ли – Нине Леопольдовне не нравились нынче глаза девочки, – выпил крепкого чая, натянул плащ и отправился на работу. А Вера Николаевна захотела мяса.
– Открыть тушенку? – спросила мать.
– Мяса я хочу, сочного, жареного мяса, а никакую не тушенку, – ноющим голосом сказала Вера. – Бифштекс.
– Вот получит твой литерную карточку, и будет тебе бифштекс, – обещала мать. – Вчера-то хоть весело было у начальства?
– Чудовищно! – зевая и натягивая на длинную, красивую ногу золотистый чулок и вылавливая под рубашкой резинку, ответила Вера. – Провинция, густая провинция, тощища…
– А знаменитый адмирал?
– Нормальный бурбон и фагот. Рожа красная, молчит, пялит глаза.
– Были же врачи?
– Ах, мама, о чем говорить!
– Тебе предложили работу?
– Я просто думать об этом не хочу.
Она поставила перед собой зеркало, оглядела ровные зубы, приспустила по одному веки, медленно накрасила губы. Наталья с интересом смотрела на все ее манипуляции. Нина Леопольдовна вымыла посуду, затворила окно, из которого тянуло сыростью.
– Потом мы сходим на почтамт, – не глядя на Нину Леопольдовну, немножко с вызовом сказала Вера Николаевна. – Письма будут приходить на твою фамилию, мамуля.
– Зачем? – всплеснула руками Нина Леопольдовна. – Я ведь не смогу смотреть ему в глаза! – из какой-то пьесы, чуть театрально воскликнула она.
– И не смотри, никто тебя не неволит! – спокойно и даже лениво ответила Вера Николаевна. – Тем более что Владимиру совершенно все равно, смотрят ему в глаза или нет.
Одевая Наташу, Вера пела, а Нина Леопольдовна была задумчива и невпопад отвечала на вопросы дочери. Попозже, когда они совсем собрались идти, мать спросила у дочери своим натуральным, немножко испуганным голосом, не прекратить ли Вере всю эту переписку и вместе с перепиской весь «сюжет»? Ведь Владимир Афанасьевич, несомненно, чувствует, он не из тех людей, которых можно безнаказанно обманывать.
– Ему же больно! – из какой-то пьесы воскликнула Нина Леопольдовна. – По-человечьи больно!
Вера Николаевна зевнула, потом с низкого кривого крыльца оглядела ветхий двор, поленницу дров, лопухи, флигель с собачьей конурой у ступеней, кривую березку возле ворот. Мать следила за этим ее взглядом и понимала его. Но Вересова все-таки пояснила.
– Чтобы так прошла вся жизнь? – медленно и зло улыбаясь, спросила она. – Вот здесь?
– Но вам же дадут квартиру! – воскликнула мать. – Это на самое первое время.
– А мне и квартира не нужна, – отворотившись от Нины Леопольдовны и натягивая на белую руку замшевую перчатку, раздельно произнесла Вера. – Мне здесь ничего не нужно, понимаешь, мамуля? Я сделала с ним, с нашим дорогим, ошибку. Ужаснейшую, трагическую и глупую до смешного. Володя решительно неталантлив.
– Володя неталантлив? – поразилась мать.
– Как это ни дико, мамочка. У него нет своего конька. Он – вообще! А в его годы «вообще» – это сдача на милость победителя. Он все думает, все посвистывает, все какие-то книжки и журналы листает. Не на определенную тему, а – то такие, то эдакие. У него – «широкий круг». А широкий круг – это неопределенность цели, зыбкость основ, разболтанность. Ты удивилась, что я сказала: Володя неталантлив. Ах, мамочка, неужели ты до сих пор не поняла, что талант – это честолюбие, а он-то как раз честолюбия начисто лишен. Поддерживать талант – это подогревать честолюбие, а что мне подогревать, когда там пусто?
– Ты не преувеличиваешь? – спросила Нина Леопольдовна.
– Если бы! – грустно усмехнулась Вера. – Он, бедняга, человек долга. Но я-то о взлете мечтала, я его к взлету тренировала, я в этом взлете вот как была уверена. Что же мне теперь прикажешь с этим долгом делать? Ведь это невесть как скучно, мамочка, это почти что муж-бухгалтер, который считает, что он есть законный представитель долга, представитель государственных интересов, защитник чего-то там эдакого, а по сути «ваш супруг бухгалтер». Вот ведь как…
Наташка заныла на руках у бабушки, Вера красиво и ловко забрала девочку к себе, прижалась щекой к ее щечке и сказала звонким, чистым, ясным голосом:
– Да, да, конечно, это может быть даже и противно – то, что я так думаю, но, мамочка-мамуля, жизнь у нас одна. Была война, только что отвоевались, что же теперь осталось? Какие надежды, какие обещания? Стареть потихонечку, превратиться в одну из тех рано увядших докториц, которые утешают себя словом «долг»? Работать под командованием Володи? А ты знаешь, как чудовищно, свирепо, отвратительно он требователен? Как груб при малейшем просчете? Как у него лицо белеет? Ты этого никогда не видела, потому что здесь, дома, только частичка его, и то самая кроткая, а вот там, на работе, его девяносто девять процентов со всем непреоборимым хамством, с тихим голосом, от которого даже у меня, у его жены, ноги подкашиваются…
Тонкие ноздри ее дрогнули, дрогнул и сильно вырезанный рот, на блестящих глазах проступили слезы, и почти с яростью она проговорила:
– Ты подумай, мама, мне нравилось в нем это отсутствие тщеславия. Я была уверена, что вызову к жизни в нем все его способности, всю силу его знаний, его бешеную энергию, я была уверена, что пробужу в нем сумасшедшее тщеславие, и тогда все увидят его незаурядность… Давай посидим!
Они сели на лавочку в бывшем Соборном скверике. Вера вынула из сумочки папиросу, закурила.
– Честолюбие! – со слезами в голосе сказала она. – Даже курить бросил. Говорит, жалко денег. Ты слышала что-нибудь подобное? Честолюбие – это прямое, единственное дело индивидуальности, а не какая-то там идиотская больница. Ну как он ее восстановит или даже наново выстроит?! Честолюбие – это хирург, доктор, профессор Устименко, который, несмотря на тяжелые ранения в войну, несмотря на увечья, не оставил любимого дела… Ну как в таких случаях пишут? А он? Теперь он «растворится» в своем коллективе. Устименко как таковой исчезнет. И исчезнет навсегда. Рассосется. Устименко перестанет существовать. Ой, мамочка, я хорошо его знаю, он даже не представляет себе, как глубоко я его знаю. У него сейчас будут главные – это те, которых он себе соберет, с бору да с сосенки заманит, все эти врачишки, выполняющие долг. Он будет с ними носиться как дурак с писаной торбой, он будет ими хвастаться, про них талдычить, ими восторгаться…
Жадно выкурив папироску, Вера придавила окурок подошвой, потрогала холодной ладонью горевшие щеки.
– Что же делать? – спросила Нина Леопольдовна. – Может быть, мне с ним поговорить?
– Тебе?
– Мне. Как-никак я повидала многое в жизни.
– Ты, несомненно, повидала многое, мамуля, но такие, как мой супруг, тебе не попадались. Владимир Афанасьевич редкостный экземпляр. Лучше не вмешивайся.
– Но это же вопрос всего вашего будущего.
– Боюсь, что никакого будущего нет, – успокоившись и разглядывая себя в зеркальце, сказала Вера Николаевна. – Во всяком случае – здесь.
– А где же оно есть?
– Может быть, в Москве? – вопросом же ответила Вера. – Ужели же Константин Георгиевич с его возможностями и пробивной силой не поможет мне вначале в Москве?
– Какой такой Константин Георгиевич? – совсем испугавшись, спросила мать. – Кто он?
– Мамочка, это Цветков, – сказала Вера Николаевна. – Ты же все знаешь, ты у нас умненькая. Там бы я начала все сначала. С самого начала. Я еще не начала стареть, мамуля?
Побег
С ней всегда так бывало, страшилась только решать. А потом уже все делалось простым и легковыполнимым.
Спокойно, не торопясь она заперла на ключ саманный дом, в котором размещалась поликлиника, положила ключ в обычное, условленное с Клавочкой место возле колодца, вздохнула и пошла огородиками к развилке, где в старом сарае, в подполе, с ночи был спрятан ее чемодан.
Было еще очень рано, шел седьмой час, солнце не начало палить. И идти было не тяжело, боялась она только встречи с Рахимом, но он еще, наверное, спал на своей ковровой тахте, напившись молодого вина. Да еще неприятно было бы встретить Клавочку – та, конечно, догадается и заплачет: «Что я буду одна делать?» И в самом деле, что она станет делать одна?
Сердце Любы вдруг заколотилось, испарина проступила на лице и на шее. Она пошла быстрее, потом побежала. Нет, не Клавочки она боялась, а самое себя. Боялась, что вдруг повернет обратно и нынче же вечером все начнется сначала: опять явится Рахим, будет грозиться, что убьет ее и себя, вытащит из кармана свой, наверное, не стреляющий пистолет, а она будет униженно просить:
– Уйдите, пожалуйста, уйдите, Рахим, очень вас прошу!
Она бежала, чемодан бил ее по ноге, черные глаза выражали страдание и испуг. И коса, выпавшая из тюбетейки, вдруг превратила ее в совсем девчонку, беззащитную и напуганную до такой степени, что первая же проезжающая в сторону Ай-Тюрега трехтонка с воем затормозила, чтобы «подкинуть» девушку, попавшую, видимо, в беду.
В машине везли черепицу, а два пассажира-лейтенанта пели песни и сразу же принялись потчевать Любу прекрасной дыней-чарджуйкой. Дыню она ела с удовольствием и с удовольствием отвечала на расспросы, куда она едет и зачем, – что у нее-де «скончался брат» и она спешит на похороны.
– Уже пожилой был? – испросил лейтенант покурносее.
– Двадцать семь лет и три месяца, – сильно откусив от дыни, ответила Люба. – Штангист.
– А по профессии? – спросил другой лейтенант.
– Филателист! – сказала Люба первое, что взбрело на ум. – Иван Иванович Елкин, не слышали?
Лейтенанты ничего не знали про филателиста-штангиста Елкина, но из сочувствия Любе петь перестали и присмирели. Они и билет ей достали до Москвы без всякого ее участия: пусть девушка сосредоточится на своем горе.
А она, рассеянно доев дыню и закурив предложенную лейтенантами папироску, сидела на приступочке весовой конторы станции Ай-Тюрег и думала про своего Вагаршака.
Какое это счастье было думать про него сейчас, когда она высвобождалась из того места, куда он не мог приехать! Какое счастье!
Поезд двинулся, она залезла на вторую полку, закинула руки за голову и уснула сразу же, мгновенно, а когда открыла глаза, то было уже очень жарко, под окном мальчишки продавали яблоки и груши, счастливо верещал ребенок, ласково смеялась его мать.
«Пора бы мне родить, – потягиваясь в жаре и духоте, подумала Люба. – Рожу маленького Вагаршака, будет так же вопросительно смотреть, как он. А если дочка, назову Ашхен, пусть старухе будет стыдно!»
И, повернувшись на бок, накинув шелковый платочек на ухо, чтобы не мешал вагонный веселый шум, стала думать про своего Саиняна и про то, как все это у них случилось. «Дурачок какой! – ласково думала она, вновь задремывая. – Словно бы и не взрослый, словно бы навсегда застрял в мальчишках. Может быть, все настоящие гении такие?»
И ей представилось то собрание, когда Иван Иванович Елкин, окончательно решивший избавиться от докучливого студента, взгромоздился на кафедру и стал делиться с тревожно затихшим залом своими соображениями насчет Вагаршака и его индивидуалистической, мелкобуржуазной, «какой-то такой не нашей, товарищи, не нашенской, что ли, сути»…
Говорил он доверительно и как бы даже скорбел, что-де проглядели, вовремя не разобрались, не предостерегли, а, наоборот, дали расцвести этому с виду привлекательному, ярко окрашенному, пестрому, затейливому, но в глубине…
Тут Иван Иванович несколько запутался между цветком и плодом.
– Все-таки плод Саинян или цветок? – крикнула из зала Люба.
– Габай, ведите себя прилично! – взвился Жмудь, известный подлипала.
– Нам известна биография Саиняна, – продолжал Иван Иванович, вырвавшись, наконец, из чуждой ему области ботаники. – Но мы также помним мудрые слова о том, что сын за отца не отвечает!
– Я – отвечаю! – круто, с места сказал Саинян.
– Как? – не расслышал Елкин и даже наклонился вперед.
– Я отвечаю за своего отца, – встав, чтобы его слышали все, громко и веско произнес Вагаршак. – Отвечаю. Произошла ошибка. Ежовщина…
Договорить Саиняну Елкин не дал.
– В таком случае я принужден прибегнуть к пословице, довольно известной: яблочко от яблони недалеко падает…
Зал помертвел.
Елкин говорил все бойчее и бойчее, и зал слушал подавленно, теперь все понимали, каков Иван Иванович – дока на разоблачения. И то, как с ним опасно связываться. А холуй Жмудь даже крикнул:
– Абсолютно правильно!
– Мы пошли навстречу Саиняну, – продолжал Елкин, – и мы дали ему возможность побывать в обстановке фронтовой хирургии. Мы…
– Вы здесь ни при чем! – сказал Вагаршак. – Вы даже не знали, что я уехал…
– Вам следует молчать! – крикнул Иван Иванович и налился кровью. Он умел приводить себя в бешенство.
– А вам не следует лгать! – бесстрашно произнес Вагаршак.
Главным в речи Елкина было то, что Саинян, вернувшись с фронта, привез не благодарность институту, замечательной кузнице медицинских кадров, а какие-то завиральные или, если называть факты их подлинными именами, то клеветнические идеи насчет того, что имеются преподаватели, которые даже не представляют себе, что такое фронт и фронтовая обстановка.
– А разве таких нет? – спросил Вагаршак из зала.
Голос его прозвучал мягко и даже грустно. А проректор, про которого было известно, что он терпеть не может всяких реплик, не зазвонил, только долгим взглядом посмотрел на Саиняна, словно раздумывая о чем-то.
Елкин вновь рванулся на Вагаршака.
– Конечно, институт ошибся и даже опозорил свое имя, послав Вагаршака Саиняна на фронт. Его не следовало посылать. Надо сначала проверить того, кому доверяется такая почетная поездка, проверить глубоко, серьезно, основательно.
– Товарищи, – опять из зала сказал Вагаршак, – ведь мы собрались, чтобы выслушать мое сообщение. Профессор Елкин, еще не узнав, о чем я собрался говорить, на основании каких-то слухов и слушков заранее назвал меня клеветником и почему-то занялся моей неинтересной биографией…
– Конкретнее! – потребовал Елкин.
– Конкретнее я скажу, когда получу слово, – с усмешкой, совершенно взбесившей Елкина, произнес Вагаршак.
Зал зашумел. Институт в огромном большинстве своем знал Саиняна как сильного, даже единственного в своем роде студента. Таким обычно не завидуют. Таких уважают и такими даже хвастаются. Пишут в письмах: «Есть у нас Саинян. Это, конечно, в будущем великий доктор». А то, что «в будущем великий доктор» еще к тому же и прост, и храбр, и легок с людьми, конечно, привлекало к нему сердца. И теперь зал шумел опасным шумом.
– Студент Саинян имеет слово, – позвонив в звонок, произнес проректор, неплохой в прошлом хирург и суровый человек. – Сколько вам нужно времени?
– Два часа.
Елкин все еще занимал кафедру. Он не уходил. Не сдавался.
– Прошу вас, – сказал проректор.
Не такой уж был дурак профессор Елкин, чтобы так, зазря, распрощаться со своим авторитетом. А покинуть кафедру – это рискнуть авторитетом.
Вагаршак медленно пошел по проходу.
Елкин совсем разорался.
Он не предоставит трибуну человеку чуждых взглядов. Он считает более чем легкомысленным давать слово Вагаршаку.
Но Саинян все шел и шел к нему – высокий, худой, с недобро мерцающими зрачками.
Тогда Иван Иванович протянул короткие ручки к проректору, заклиная его проявить мужество в эти минуты. Покончить с проявлениями либерализма и ударить кулаком – вот чего он просил. На словах «ударить кулаком» профессор Елкин поперхнулся и закашлялся – с ним это не раз случалось и на лекциях, тогда студенты внимательно приглядывались, не хватит ли любимого профессора кондрашка. Пожалуй, следовало использовать этот кашель, и профессор Елкин, театрально пошатываясь, пошел к столу, за которым сидел проректор. В аудитории на весь этот спектакль реагировали бурно, хихикая без стеснения. Злой и сконфуженный тем, что студенты его разгадали, Иван Иванович теперь уже совсем нарочно кашлял, только чтобы помешать своему врагу Саиняну.
Но сколько можно было здесь кашлять?
Вагаршак терпеливо пережидал.
И его терпение тоже веселило студентов.
– Ну что ж, – наконец заговорил Вагаршак, – профессор Елкин хотел, чтобы я говорил конкретно. Я и буду говорить только конкретно, буду говорить о том, какие у нас у всех долги перед воюющей от Баренцева до Черного моря Советской Армией.
И, задумавшись на мгновение, он привел пример, вкратце сводившийся к следующей формулировке: ни в одной из воюющих армий не существует столь совершенной системы оперативного лечения раненных в живот, как именно в нашей Советской Армии. Так вот, известно ли здесь, в институте, чем именно отличается наша система оперативного лечения раненных в живот от иных систем? Речь идет, разумеется, о современном лечении, а не о том, которое рекомендуется старыми книгами.
Елкин опять крикнул:
– Вы что, нас экзаменовать собрались?
– К сожалению, мне не дано это право, – без лишней скромности заявил Вагаршак.
Проректор негромко постучал костяшками кулака по столу.
Саинян вежливо поклонился и извинился:
– Простите, Николай Николаевич, я не имел в виду преподавательский состав. Я ответил на вопрос профессора Елкина. И только на его вопрос.
– Продолжайте! – велел проректор.
– Суть нашей системы заключается в том, что наши медицинские учреждения приближены к действующим войскам настолько вплотную, что операция раненных в живот может производиться чрезвычайно быстро после ранения, а только этот фактор, и именно этот, дает шансы на выздоровление при ранениях в живот…
Проректор повернулся к Вагаршаку и блеснул на него своими черными, живыми глазами.
– Я не буду останавливаться на том, что мы в этом смысле и по сей день изучаем в институте, – усмехнулся Вагаршак. – Скажу лишь, что опыт, накопленный хирургами медсанбатов в оперативном лечении раненных в живот, как и оперативное лечение огнестрельных ран вообще, грандиозно обогатившее мировую хирургию, – все это нам пока что просто не известно…
– А пособия? – крикнул Елкин. – Где пособия? Где литература?
– Помолчите, Иван Иванович, – вновь застучал проректор, – Саинян и есть живое пособие. Мы слушаем вас, товарищ Саинян.
И вновь Вагаршак увидел живой и подбадривающий блеск зрачков проректора.
– В нынешнюю войну, – опять заговорил Вагаршак, – по сути дела, впервые в истории, мы сменили малоэффективную систему местного медикаментозного лечения ран научно обоснованной системой оперативного лечения. Очень рано, через часы или в первые сутки, из раны удаляются мертвые ткани и все загрязняющее рану. Создаются условия, чтобы раны не осложнялись инфекцией. Этими операциями сотни тысяч раненых были спасены от неизбежной гибели. Позднее раны зашивались, так называемый вторичный шов раны способствовал скорейшему возвращению в строй.
– Так пусть Саинян и преподает! – крикнул с места Жмудь, известный и преданный холуй Елкина. – Давай, Вагаршак, не теряйся!
Саинян и не думал теряться. Он принадлежал к тем людям, которые, зная и веря, никогда не сворачивали с прямой дороги. И тут, зная и веря в неоспоримую полезность того, что показал ему сам доктор Арьев на фронте, он не собирался отступать, несмотря на то, что его атака могла вызвать и недовольство очень многих. Ведь говорил он не для собственного прибытку, как выражался Пирогов, а для дела. Им, врачам, предстояло ехать на фронт, и они должны были знать заранее, с чем встретятся.
– Проявление массовой талантливости советских докторов на фронтах, – заговорил вновь Вагаршак, – дало замечательные результаты, дало целую систему, о которой мы здесь еще и понятия не имеем. Мы словно бы говорим на языке Тредиаковского, мы тут не современны! Дорогое, золотое время мы тратим на трескотню, на вздор…
– Нет, это невозможно! – вскочил вдруг Иван Иванович Елкин. – Это решительно невозможно. Я категорически возражаю. Все, что здесь происходит, отдает непотребством. Что же это? Кто кого учит?
– Это собеседование! – яростно крикнула из зала Люба. – Неужто и поговорить нельзя? И не прерывайте Саиняна, он же не кончил…
Проректор взял в руку звонок.
Аудитория шумела сдержанно, невесело и немного угрожающе.
– Требую слова! – закричал Жмудь. – Требую, требую, требую, требую…
Вагаршак, слегка побледнев, сошел с кафедры и сел в первом ряду. А проректор, положив левую руку на плечо Елкина, что-то ему шепнул и нажал на елкинское плечо так, что Иван Иванович сел. И глаза у него сделались испуганные.
– Минуточку, товарищи, – заговорил проректор. – Я вынужден вмешаться, потому что нас всех занесло, как говорится, не в ту сторону. Профессор Елкин, к сожалению, принял на свой счет то, что ему и адресовано не было, да и вообще я не склонен представлять дело так, что Саинян кого-то в чем-то упрекал. Мы на собрании, и все тут товарищи, все друзья, которые вправе сказать друг другу и горькие слова…
Проректор произнес умную и хорошую речь. Ему аплодировали так долго, что Елкин даже успел за время аплодисментов уйти. Слово дали студентке Габай. Выступление ее было коротким.
– Я к началу вернусь, – сказала она, – жалко только, что профессор Елкин отбыл. Читает нам достопочтенный Иван Иванович, как снимать пробы с пищи и как очищать водоемы, и ладно. Это все в книжках написано, лучше бы сам на войну отправился и сам на месте учил, как водоемы очищать, и сам пробы снимал. Я не про то, это так, к слову. Я про то, что Вагаршак Саинян – гордость нашего института и к нему нужно особое отношение. Совершенно особое!
– Под стеклянный колпак его! – крикнул Жмудь. – В башню из слоновой кости! Забронировать от самокритики!
Люба подождала, покуда Жмудь выкричался.
– Что касается биографии Саиняна… – начала она опять, но Вагаршак вдруг оказался рядом с ней и мягко, но с силой оттеснил ее плечом от кафедры.
В зале засмеялись, улыбнулся и Вагаршак. А Люба осталась стоять за его спиной, потому что не знала, что ей надо делать.
– Я же не из-за тебя, – услышал он ее шепот. – Я по-товарищески, как о любом другом талантливом студенте…
– Дело совершенно не во мне, – как бы и ей, но и всей аудитории начал Вагаршак, – дело в нашей работе. Мы же собрались сюда не для того, чтобы попрекать друг друга, не для того, чтобы подсчитывать обиды и вновь обижаться, не для того, чтобы считаться с самолюбием. Мы для дела собрались. И разве возможно иначе, когда там…
Он немножко подумал, где запад, как бы даже прислушался и, резко показав рукою влево, на окна, произнес:
– Разве все это можно допускать нам тут, когда там умирают люди?
Ничего особенного он не сказал своим глуховатым голосом, но ему захлопали шумно и даже яростно, – он сказал то, что думали почти все, хоть и не умели выразить.
– Мне помешали рассказать вам то, ради чего мы собрались, – сказал Вагаршак и вынул из кармана блокнот, с которым ездил на фронт. – Возьмите, товарищи, тетрадки, думаю, некоторые сюжеты вам смогут пригодиться на практике. Я буду рассказывать вам то, на что обращал мое внимание подполковник Арьев, так что это не самодеятельность моя. Это то, что нам непременно пригодится там, куда нас направят. Ну и потом кое-какие уже мои личные размышления, касающиеся дней нашей жизни…
С замершим сердцем Люба увидела, как записывает проректор.
Незаметно она сошла в аудиторию из своего укрытия за Вагаршаковой спиной и тоже стала писать.
Более двух часов продолжалась лекция студента Саиняна. Вторая половина собрания ничем не походила на первую. Здесь ни на чем не настаивали, ничего не вколачивали в голову слушателям, ничего не требовали и не отрицали, – Вагаршак рассказывал о своих сомнениях, и битком набитая аудитория слушала не студента, а зрелого мужа, серьезного, умного врача, – он вместе со своими коллегами задает себе вопросы, на которые еще не в силах полностью ответить, но которые существуют и требуют ответа. Он ссылался на Вишневского и Бурденко, на Еланского и Ахутина, на Левита и Банайтиса, на Джанелидзе и Петровского, на Стручкова и Шамова, на Гирголава и Беркутова, на многих других, еще никому не известных, но замечательных – Коломийцева и Сотнюка, Ивана Федоровича Залесского и Ивана Федоровича Крыленкова, в общем, на всех тех, которые оставили далеко позади себя учебники, доныне изучаемые в институте почтительно и без всяких изменений.
– Вот как обстоят дела, – сказал в заключение Вагаршак. – Надо нам нагонять.
Ему не аплодировали. Тут нечему было радоваться. Но уже в марте в институте появились новые профессора: один прихрамывающий, с тиком – его жестоко искалечило под Нарвой, другой быстрый, шустрый, как выяснилось впоследствии, тяжелый сердечник, профессор Коновалов. И Нисевич и Коновалов своими лекциями подтвердили правоту Саиняна. Но Вагаршак вовсе не радовался. Он огорчался тому, что был прав.
И Нисевич и Коновалов сразу оценили Саиняна.
У него была дьявольская энергия, у этого немногословного, даже тихого с виду студента. И исступленное чувство врачебного долга. Нет, он совершенно не был сентиментален, он всего только отвечал за все будущее советской медицины. Только всего. Не больше, но и не меньше.
Ни от кого другого он этого не требовал, хотя и помогал всем без исключения, но от Любы требовал. Жестоко, неумолимо, «бесчеловечно», – возмущалась она.
Он невесело спрашивал:
– Ты мне не веришь?
Голос у него был мягкий, глаза сочувствовали ей, но он ничего не мог с собой поделать, он не мог не требовать.
– Подумай о войне, – просил он.
– Но мы же не на войне.
– Мы как на войне, дорогая, но здесь нужно быть еще честнее, чем на самой войне. Там легче, там обстоятельства, которых здесь нет. Но мы тут обязаны их видеть, эти обстоятельства…
– Я – тупая, Вагаршак.
– Нисколько! – обижался он. – Ты легко утомляешься. И сдаешься. Ты неорганизованная еще…