Текст книги "Я отвечаю за все"
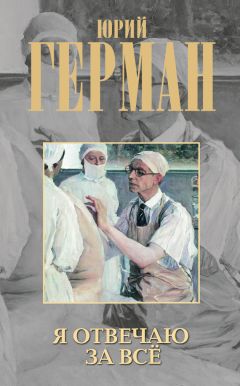
Автор книги: Юрий Герман
Жанр: Литература 20 века, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 55 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Что за Устименко?
Грузовик так и не пришел за ней. Конечно, проклятый Яковец повез «левый товар» – он даже не стеснялся об этом рассказывать: о своих доходах, о том, как он «толкает халтуры», – ну, погоди же, конопатый негодяй с челочкой! Ничего, она ему устроит веселый разговор, будет знать, как обманывать Варвару Родионовну Степанову. Ведь клялся же и божился, что не позже шести будет «как штык» возле Дома колхозника.
Впрочем, от всех этих угроз Яковцу ей-то было не легче. Она устала, промокла, ей хотелось лечь, хотелось отогреться за весь этот такой длинный день. И может быть, даже поплакать. Раза три за эти годы на нее вот эдак накатывало: все казалось ужасным, безысходным, жалким – и прошлое, и будущее, и нынешний день. Все представлялось не имеющим никакого смысла. И сегодня тоже так накатило.
– Дело пахнет керосином! – сказала она себе угрожающим тоном.
Но губы у нее дрожали. Если уж Яковец ее предал – значит, она зашла в тупик, значит, всем ясно, как она ослабела и сдала за эти дни ожидания. И зачем? Чтобы повидать его из такси и поплакать, как над свежей могилой? Пропади он пропадом, этот Устименко, что это за горькое горе привязалось к ней на всю жизнь, ведь даже в книгах не прочесть про такое несчастье! Везде говорится, что время – лучший лекарь, а ей чем дальше, тем хуже. И уж совсем худо нынче. Вот ждет, прогуливается с независимым видом, словно бы дышит воздухом…
Было восемь, когда она потребовала «геологическую» комнату на втором этаже. Она всегда оплачивалась их экспедицией, занимали ее геологи или нет. Тут можно было поспать, отогреться, сюда стаскивали имущество, привозили почту в эту маленькую комнатушку на две койки, за поворотом розового коридора, вторая дверь направо.
– Ключ от семнадцатого, – сказала она бодрым тоном Анне Павловне, дежурной. – Яковец наш, проклятый, не приехал, придется заночевать…
Голос у нее был даже бодрее, чем следовало, со звоном.
– Не придется, Варечка, заночевать, – ответила толстая и рыжая Симочкина. – Под иностранца ликвидировали ваш номерочек, под профессора.
– То есть как это – ликвидировали?
– А так что не навечно, а временно. Приехали сегодня из облздрава начальник и привезли бумагу лично от товарища Лосого. Я знала, что неприятности будут, вот, пожалуйста, бумага. Господин некто Гебейзен, Пауль Гебейзен…
– Но комната-то наша?
– Ваша, деточка, ваша, но товарищ Лосой ее именно под номером и выписал. Семнадцать. Его, конечно, дело петушиное – прокукарекал, а там хоть и не рассветай, но нам приказ даден.
– А я куда денусь?
– А вы, деточка, здешняя. К подружке пойдете вечер проведете.
Варвара промолчала. В пахнущий дезинфекцией вестибюль вошли три здоровенных мужика с песней, пели они норовисто, голосами показывая, что им препятствовать сейчас никак нельзя.
– Еще несчастье, – сказала Симочкина, – продали-таки кабана.
А мужики пели:
Где потом мы были, я не знаю,
Только помню губы в тишине,
Только те слова, что, убегая…
– Вы в уме, граждане? – крикнула из-за своего барьера Симочкина.
– Сестренка, ты нас не зачепляй, – крикнул самый молодой мужик. – Помни, сестренка, дни боевые!
И он заревел, выпучив глаза, глупые и добрые, как у телка:
В летний вечер в танце карнавала…
Мужики прошли возле Варвары, сырые, здоровенные, позвякивая медалями. Замыкающий нес водку с собой – два пол-литра.
– Сейчас звонить в милицию или подождать? – спросила сама себя Симочкина. – Хоть бы дежурство кончилось!
У нее дежурство все-таки кончится рано или поздно, а Варвара? Куда деваться ей? Пойти в новый особняк и сидеть там с жалкой улыбкой в ожидании Веры Николаевны Вересовой – Володькиной законной супруги? Нет, не дождетесь!
– Может быть, этот самый буржуй недорезанный перейдет в общую? – спросила Варвара.
– А бумага товарища Лосого?
– Наплевала я на все бумаги. Где это сказано, что буржуй – человек, а я пошла вон? Нет такого закона.
– Так он же не только буржуй, – заметила Симочкина. – Он же ж еще профессор.
– Профессор кислых щей! Пойду уговорю, а нет – вы меня в общую пристроите, к девушкам, в девятнадцатую…
И она пошла к лестнице. Навстречу ей со второго этажа неслось пение:
И внезапно искра пробежала…
– Войдите! – сказали за дверью, когда она постучала.
Гебейзен – она слышала эту фамилию от Евгения. «Твой сумасшедший Устименко волочит с собой еще какого-то австрияка! – сказал Женька нынче утром. – Представляешь? Мне в Унчанске со всеми моими делами не хватает только иностранного специалиста, которому требуется какао и омлет с беконом!»
Но иностранный специалист оказался не из тех, которых опасался Евгений. Гебейзен, ссутулившись и покрыв ноги одеялом, сидел на той кровати, на которой обычно спала Варвара, – возле окна, а перед ним на тумбочке стояла солдатская алюминиевая кружка, из которой он пил жидкий чай, закусывая соевой конфеткой. На лице у австрияка было виновато-непонимающее выражение, и все то время, покуда Варвара втолковывала ему свою просьбу, он кивал и соглашался.
– Вам все ясно? – спросила она.
– Да. Ошень! – сказал он вежливо. – Я хорошо понимаю по-русскому.
Он был в нижней, аккуратно залатанной рубашке и в накинутом на костлявые плечи старом кителе – почему-то морском.
«Володькин китель, – подумала Варвара. – И старик этот Володькин. Он его сюда пристроил, а я гоню! И почему гоню? Потому что он не сопротивляется?»
– Может быть, вы немного садитесь? – спросил Гебейзен. – Шуть-шуть садитесь – пока я собирайсь?
Что-то в нем было и гордое, и покорное, и вежливое, и стальное и в его старых глазах, полуприкрытых темными веками, и в повороте головы, и в тонких, иронически улыбающихся губах, и даже в голосе – сиповатом и вместе с тем жестком, словно бы он долго командовал и только недавно умерил себя и сократил в себе и силу и властность.
– Вы тут в командировке? – спросила Варвара.
– Немного, – ответил он, вынимая из тумбочки свои вещи – вещи нищего. – Не знаю, как сказать? Длинное времья нет жизни в спокойности. Есть командировка. Так.
– Вы – доктор?
– Так. Arzt der Toten. Доктор мертвых.
– Патологоанатом?
– Так.
– Военнопленный?
– Нет, не так. Был гитлеровский лагерь. Как это сказать? Арестант. Много год.
– Много лет.
– Так. Лет. Но ошень давно был военнопленный русской армии. Сдался в Галиции – прорыв Брусилова, вы не помнить?
– Читала.
– Конечно, помнить вы не может.
– Были в России?
– Здесь был, Унчанске. Госпиталь «Аэроплан». Господин Войцеховский сделал для австрийцев. Тут женился. Мой жена был Галя. Русский. Галя Понарева. Сейчас ее нет. Нацисты…
И, выставив вперед указательный палец правой руки, он показал, как нацисты застрелили его жену. Этим же пальцем он показал, что теперь один, один во всем мире.
– Я есть такой, – сказал он, – ganz allein in der Welt. Совсем. И больше – никого.
Варвара молчала. Уж это она умела – молчать и слушать, молчать и понимать, молчать и сочувствовать. Ей все всегда все рассказывали, не было человека, который пожалел бы о том, что вывернул душу перед Варварой Степановой.
– Надо было сделать так! – сказал Гебейзен и этим же длинным пальцем показал, как следовало выстрелить себе в висок.
– Почему? – спросила она.
– Вакуум! – сказал австрияк и положил ладонь на свое сердце. – Вакуум! – повторил он, постучав себя по лбу. – Не есть для чего жить!
– Бросьте! – сказала Варвара. – Что значит «не есть»? А наука?
Гебейзен помолчал. Ему вдруг стало холодно, он накинул на плечи одеяло. И пока накидывал, Варвара вдруг подумала, что он похож на птицу, на огромную, когда-то сильную, бесстрашную птицу. «Ловчий сокол» – вспомнилось ей читанное, «воззривший сокол» – так писалось в давние времена о беркуте, увидевшем волка в степи. «Как, должно быть, он ненавидит!» – подумала она.
– Вы знаете, что был на Морцинплац в Вена? – спросил он.
– Нет.
– На Морцинплац в Вена был «Метрополь». В ней был гестапо. В гестапо был группа «Бетман». Группа «Бетман» повез я…
– Повезли вас?
– Так. Меня. И мой науку к себе работать на них. Вы слышаль их наук?
– Да, – кивнула Варвара, – весь мир слышал.
– Еще не все. Еще совсем мало. Еще будет много ошень смешных штуки. Как это сказать – сильный смех?
– Хохот?
– Да. Они там хохот. Но меня не убиль, я нужный. Меня медленно убиваль много годы. И я умираль. Но это все так, unter anderen. Я живой, но вакуум. Разве можно выходить из лагерь и делать лицо, что ничего не был? Палач – не был? Газовка – не был? Тодбух – книга мертвых – не был? Метигаль – мазь из человеческий жир – не был? Селекции – не был? Красный крест на крыше крематорий – не был? Нет, невозможно. Ende! Навсегда осталось пейзаж – лагерь, один только пейзаж. И один звон, как быль там. И один мысль, как быль там. И никакой наук!
– Вздор! – воскликнула Варвара, сама не веря себе. – Ерунда! Если вы ученый, то вы им и будете. Вы не смеете складывать лапки. Даже для того, чтобы со всем этим покончить, вы должны остаться ученым. Вы должны собрать волю…
– Они убивайт волю, – сказал Гебейзен. – Они отрубайт волю. Ампутация воли. Ампутация силы. Ампутация! Так! Я говорил мой друг доктор Устименко это все, но он, как вы, не верит!
– И правильно! – согласилась Варвара. – Правильно!
Она знала, что он назовет Устименку. Может быть, она даже ждала этого. Но тут она вдруг растерялась, и Гебейзен увидел по ее глазам, что она словно бы перестала слушать.
– Я ошень болтун, – сказал он, – говорильник, так? Говорильщик?
– А откуда вы знаете доктора Устименку?
Австрияк уже сложил свой багаж нищего в старую гимнастерку и теперь аккуратно и ловко перетягивал пакет бечевкой.
По его словам, вышло, что после многих странствий он попал к доктору Богословскому, который читал его давние работы по гистологии. Они вспомнили «Аэроплан». Богословский известил генерал-доктора в Вене. Генерал-доктор приехал в русский госпиталь, где лечили Гебейзена, и сказал ему, что он его ученик. Генерал, кажется, Анухин.
– Ахутин? – спросила Варя.
– Ошень красивый, – сказал Гебейзен. – Лицо из миниатюр восемнадцатый век. Писаль мне свой книг, классический книг военно-полевой хирургии. Этот книг у доктор Устименко.
– А что, этот Устименко здорово знаменитый? – спросила Варвара.
Он быстро на нее взглянул.
– Не знаю, – с улыбкой сказал австрияк, – не знаю. Но он есть… как это говорится… удивление…
– Может, вы сядете, – опять перебила его Варвара. – И вообще не обязательно вам переезжать. Я устроюсь. Вы не сердитесь на меня – просто думала: поселили какого-то буржуя недорезанного.
– Недорезанный – так, – сказал он, словно бы размышляя, – но только это я самый первый раз имель один в комнате за все год с аншлюса. Один раз.
– Я понимаю, – кивнула Варвара, – простите меня.
– Нет, ничего, я раздумывал… или как это? Думал.
Они сидели друг против друга на кроватях. В стекла били косые струи осеннего дождя, электрическая лампочка без колпака освещала их невеселые, бледные лица, поблизости, на этом же этаже, бушевали давешние мужики:
Темная ночь, только пули свистят по степи,
Только ветер гудит в проводах,
тускло звезды мерцают…
– Так и будем сидеть? – спросила Варвара.
– А как? – испугался Гебейзен.
– Что же вас Устименко ваш не пригласил? – сказала она нарочно неприятным голосом. – Сам в богатом доме гуляет, угощение там роскошное, а вы тут с чайком и с конфеткой. Где ж гостеприимство? Не по-русски, у нас так не водится! Тоже – хорош!
– Устименко ошень хороший, – почти рассердился австрияк. – Он звал. Я сам не принимал приглашение. Я не имею вид одежды… Даже это… Устименко…
Она и сама знала, что китель устименковский. И деньги, наверное, Володькины. И докука Володькина, надел себе на шею хомут, теперь вези, тащи!
– А на что вы живете? – спросила она в лоб. Она всегда все спрашивала прямо. И сейчас она должна была знать, каким стал «господин Устименко». – На какие деньги?
– На его деньги, – со слабой улыбкой ответил Гебейзен. – Он такой шеловек, вы не знайт! Совсем бедный, но как Рокфеллер. Я, конечно, да, отдам, тут под… как это… за дорогу…
– И билет он вам купил?
– Вы его знайт? – спросил Гебейзен, словно догадавшись, в чем дело.
– Меня зовут Нонна, – сказала Варвара. – В случае чего передайте привет от Нонны. Запомните? – В звуках своего голоса она услышала опять слезы и вновь подумала словами привязавшейся фразы: дело пахнет керосином! – Встречались в детстве, в одних яслях…
Мужики совсем рядом заревели про то, что смерть им не страшна, «с ней не раз мы встречались в степи», и тотчас же раздался топот подкованных сапог – это, наконец, явилась милиция.
– Значит, будет так, – сказала Варвара. – Я сейчас в лавочку схожу, куплю нам с вами харчишек…
– Хартшишек? – с трудом повторил австрияк.
– И шнапсу, – сказала она. – Будем ужинать. Я очень голодная. Ошень, – повторила она с его акцентом. – Вы меня понимайт? Потом я уйду насовсем спать, а потом уеду…
Рыжей и толстой Симочкиной она сказала, чтобы та устроила ее ночевать в девятнадцатый к девушкам и чтобы сейчас же «сделала» академику-антифашисту мебель – стол хотя бы и приличные стулья, а также ковер.
– Да вы что? – воскликнула Анна Павловна. – Вырожу я ему ковер?
– Из кабинета директора принесите, – сделав страшные глаза, распорядилась Варвара, – или от самого Лесого. Не сделаете – крупные неприятности могут выйти. Вплоть до посадки. Это я вас по-дружески предупреждаю. И чтобы все шепотом, чтобы криков никаких не было.
– Так ведь направили бы в гостиницу…
– А уж это не нашего ума дело, – совсем загадочно сказала Варвара, – это повыше нас с вами начальники решают. Может быть, кое-кому и знать не надо, какой у нас товарищ-господин-сэр-мистер-мосье гостит…
И, храня на лице загадочное выражение, Варвара перешла улицу и стала выбивать чеки в коммерческом гастрономическом магазине, к которому жители Унчанска относились более как к музею, нежели как к торговой точке, и приходили сюда не столько за покупками, сколько на экскурсии, разглядывая цены и почтительно крякая.
– Икра… двести… триста грамм, – говорила Варвара, на которую из-за ее размаха тоже смотрели как на экспонат. – Выбили? Колбасы копченой тамбовской кило. Ветчины…
Несмотря на то, что налет ее на магазин продолжался минут двадцать, комнату просто нельзя было узнать. Даже фикус и тот Симочкина приволокла «академику» в личное распоряжение, и ковер немецкий был, и два кресла из квартиры бывшего немецкого коменданта Унчанска барона цу Штакельберг унд Вальдек, и графин с водой, и стаканы.
– Приветик! – сказала Варвара. – Сейчас будем рубать кавьяр ложкой.
Подбородком она придерживала батон.
– Придут еще гости? – спросил Гебейзен. – Ошень много?
– Гостей двое – вы да я, – сказала Варвара, снимая свою, как выражался Евгений, «мальчиковую пальтушку». – Но я речь скажу от имени и по поручению. Вы садитесь, пожалуйста, не показывайте передо мной свое джентльменство, у вас вид усталый. Ну вот и сели, и хорошо…
Ей непременно надо было говорить, болтать, что-то делать. Она разложила закуски на бумажках, покрасивее, как умела, разлила водку в стаканы – очень много австрияку и совсем на донышке себе и сказала обещанный тост:
– Вот что, товарищ Гебейзен, вы только не думайте, что ваш знаменитый Устименко – это уникальное явление. Таких у нас завались. Понятное выражение – завались? Россия – это Устименки, а остальное – плюнуть и растереть – не типично. Ясно выражение народное – не типично? У нас таких нет, что на устах – медок, а в сердце – ледок, а если еще и есть, то это осколки разбитого вдребезги, мы с этим боремся и это дело ликвидируем.
Австрияк покашлял и хотел что-то сказать, но она постучала стаканом по столу:
– Не перебивайте, собьюсь, я без тезисов говорить не умею. А если с гостеприимством похуже, если кто жмется, значит, семья большая, детишек шесть штук, харчей много нужно детишкам, кушать надобно. У нас, у советских, души открытые. Вот на Западе погоня за капиталом, разные там Круппы фон Болоны, и к чему это приводит? А мы всегда победим, всегда, потому что мы не для себя, и у нас, если для себя, то это очень стыдно…
– Мадмуазель плачет, – сказал австрияк, – мадмуазель имеет горе…
– Это потому, что дело пахнет керосином, – сказала в ответ свою нынешнюю глупость Варвара, – то есть я в том смысле, что не в Устименке суть вопроса. У нас такой смысл и принцип, мы иначе никак не можем, а то всемирное кулачье, которое за это над нами смеется, все равно – паразиты и подонки. И над Устименкой есть еще такие, которые смеются, но это нельзя…
Слезы вдруг пролились из ее глаз и хлынули по щекам. Она потрясла головой, как бы сбрасывая эти слезы прочь, и спросила совсем тихо:
– Глупый тост, да?
– Ошень корош, – сказал австрияк, маленькими глотками, как-то чудно отхлебывая водку, – я понималь вас, мадмуазель…
Так и не выпив свою водку, она отставила стакан в сторону, утерла лицо и задумалась. Австриец печально на нее смотрел, старый, общипанный, замученный и все-таки «воззривший сокол» – так она про него думала. Отогреется у него душа или нет? Посильную ли ношу взвалил на себя Устименко? А если правда вакуум, тогда как? Ох, только бы помолчать сейчас, только бы он сообразил ничего у нее не спрашивать и не утешать ее…
Что-что, но молчать он умел. Он даже делом занялся – вновь распаковал свой багаж нищего, аккуратно распаковал и бечевку спрятал. И времени на это убил более чем вдесятеро против нужного. И только услышав, что она захозяйничала за его спиной, оборотился к столу.
– Битте! – сказала Варвара ни к тому ни к сему. – Продолжим наше застолье. Значит, так: кавьяр русские рубают ложками, – сказала она, – но, так как ложки нет, я вот тут корочку поудобнее отрезала. Кушайте, пожалуйста!
Наконец он улыбнулся. И какая же умная, добрая была у него улыбка, у этого доктора мертвых.
– У нас тут в лавочке пайки выдают, – врала Варвара, чтобы заставить австрияка есть икру. – Сильно отоваривают карточки, классически, особенно нам, геологам. Вы кушайте, не стесняйтесь, у меня там в экспедиции другой паек идет, это все мне ни к чему, смело кушайте, как следует…
Он все смотрел на нее улыбаясь.
– Пожалуйста, – сказала Варвара. – Ву компроне, мосье Гебейзен? Вы – Пауль? А как по отчеству?
– Герхард.
– Значит, Пауль Герхардович?
– Устименко так говорит.
– А я не спрашиваю, как ваш Устименко говорит. Я сама хочу говорить.
– Говорите – Пауль Герхардович. А вы как говорить?
– А я говорить – Варвара Родионовна, – позабыв о своем вранье, ответила она.
– Нонна-Варвара?
– Нонна, – рассердилась она, – Варвара – это отчество. И ветчину ешьте. Сейчас я чай заварю в графине, тут есть кипятильник.
Графин в ее руках лопнул, вечно она забывала, как следует обращаться с бьющимися вещами. Пришлось заплатить тридцать рублей. Теперь у нее оставалось девять до получки через две недели. Впрочем, она часто залезала в долги.
– Ну, так, – сказала Варвара, возвратившись с жестяным чайником, – попьем чайку, развеем скуку. Так что это за Устименко? Как это вы с ним познакомились? И почему слова без него не скажете?
Пришли гости
Гостей Евгений Родионович созвал порядочно, однако был твердо уверен, что придут все, потому что о героическом старике Степанове в Унчанске были хорошо осведомлены от мала до велика. Он был единственный отсюда прославленный и действительно знаменитый военный моряк, тираж книжечки, изданной про него, в городе и области разлетелся мгновенно, и даже таинственное и, как многие шептались, подозрительное исчезновение в войну его красивой, с чуть косящими черными глазами, будто бы партизанки, Аглаи Петровны не отразилось ни на встрече ушедшего на покой адмирала, ни на отношении к его имени даже таких жестковатых и нахлебавшихся лиха людей, как первый секретарь обкома Зиновий Семенович Золотухин, который, кстати, по этому случаю посетил своего заведующего областным и городским здравоохранением Евгения Родионовича на дому в первый раз.
– Ну как, товарищ адмирал? – вглядываясь в зоркие и еще очень светлые глаза моряка, глаза впередсмотрящего, и крепко пожимая его сильную руку своей, не менее сильной, осведомился Золотухин. – Как приветил вас Унчанск? Не обижаетесь? Как хата? Подходящая? Уж вы не сетуйте на нашу бедность, мы тут сироты, область, сами знаете, не из особо значимых, мы и не производим ничего такого, чтобы хвастать. Раны залечиваем, иждивенцы пока что…
Крупное, рубленое, немножко грубоватое, неотделанное и незаглаженное лицо Золотухина чем-то сразу понравилось Степанову, может быть, искренностью взора, темного и глубокого, может быть, крутыми и недавнего происхождения морщинами, сильно прочертившими сухие щеки и высокий лоб, а может быть, и сединами, обильно, вдруг и неровно проступившими в низко подстриженных вьющихся густых волосах. Такие седины адмирал уважал и видывал их немало за военные годы: уходила подводная лодка в рейдерство с молодым командиром, а возвращалась, и товарищи вдруг замечали, что командир вовсе сед, сед по-особому, сед внезапно. Кое-кто посмеивался, говоря, что такое поведение выдумано стихоплетами или бывает от дурного действия пищеварительного тракта, но Степанов знал истину и уважал людей, сдюживших с врагом в бою, который им так обошелся. Видно, жизнь недешево далась Золотухину, да, впрочем, вскоре и выяснилось ужасное золотухинское горе. Выяснилось оно уже после прихода Устименки, при виде которого адмирал быстро, привычным движением заложил под язык крупинку нитроглицерина.
За эти годы, прошедшие с памятных бесед на корабле в присутствии Амираджиби, милейшего Елисбара Шабановича, Володя изменился круто, как меняются люди за войну в том случае, если течение военных лет отражается не только на их возрасте, на физической жизни, но и на нравственной, если война понуждает их к полной отдаче духовной сути и остается не только воспоминанием, подернутым лирической дымкой, и даже вовсе не воспоминанием, а многотрудной эпохой, перешагнув которую человек становится до последних дней своих закаленным, твердым, спокойным и даже умудренным, потому что видел он, как говорится на Востоке, «глаза орла».
Таких, проживших несколько жизней за войну, не раз встречал адмирал и, зная военную судьбу племянника, ужасно обрадовался, увидев Устименку, который сейчас шел к нему со своей стыдливо-робкой и счастливой полуулыбкой, тяжело и неловко хромая.
«Как изранили мне доктора, сволочи! – с болью подумал Степанов, вспомнив Варварино письмо. – Еще ведь и руки искалечили хирургу, попробуй теперь поработай!»
Они обнялись грубо, с хрустом – Володя, в старом, наглаженном и химически вычищенном синем кителе, и Родион Мефодиевич, в мундире с не снятыми еще погонами. Обнялись надолго, и оба в это мгновение, каждый по-своему, с тоской и ужасом думали не друг о друге, а об Аглае, об Аглае Петровне, о тетке Аглае. Но говорить об этом было невозможно, то есть именно сейчас говорить, и они поговорили друг о друге, о здоровье, о седине, о Володиной дочке, о его жене.
– Познакомил бы! – бодрясь, с натужной улыбкой попросил адмирал. – Как-никак хоть и дальние, но родственники…
– Да ведь вы вроде бы, я слышал, знакомы, – все еще счастливо глядя на бесконечно любимого им человека, сказал Устименко. – Вера была у тебя, Родион Мефодиевич, на корабле, что-то за меня просила…
Тут они подошли к Вере Николаевне: в черном платье, с обнаженными руками и плечами, с маленькой брошечкой у горла, с мерцающим, загадочно ищущим и пустым в то же время взглядом, Вера Николаевна была здесь не то чтобы просто хороша, но непомерно хороша, немножко даже с неприличием и каким-то притушенным, застенчивым, но все же вызовом. «Эх вы! – как бы говорил весь ее вид. – Суслики! Нашли кого приглашать! Да ведь я с вами, вахлаками, умру от серой скуки. Впрочем же, нате, любуйтесь, может, кто и найдется достойный, не всерьез, конечно, а временно, для препровождения вечера, для смеха…»
Для препровождения времени и для смеха, разумеется, отыскался сразу же Евгений Родионович, который и заговорил даже с придыханием, с модуляциями и с каким-то порою заячьим попискиванием в голосе. Известный ходок по дамской части из вымирающего племени восторженных и сентиментальных фантазеров, умеющих и в зрелые годы влюбляться внезапно, возвышенно и до некоторой степени буйно, хотя и совершенно платонически, младший Степанов поправил роговые, солидные, трофейного происхождения очки, сделал «гм!» и вплотную, забыв о всех намеченных на сегодняшний вечер делах и делишках, занялся Верой Николаевной и ее увеселениями. Ираида покосилась на мужа, тряхнула цепочками и брелоками, страсть к которым у нее достигла нынче апогея, и поняла, что Женечка из игры в прием гостей прочно вышел. «Ничего, пусть развлечется, – подумала она. – Лучше на глазах, чем под предлогом заседаний и совещаний. Да и на что ему, бедняжке, рассчитывать от такой терпкой красоты? (Ираида любила слова вроде «терпкий».) Так, повертятся вокруг да около, поиграют на небольшие ставки!» И сама занялась гостями, которые пошли вдруг так густо, как бывает в театре за несколько минут до начала. Зевают и судачат меж собой гардеробщики, предполагая, что культпоход отменен, но вдруг распахиваются разом все входные двери и валом валит зритель…
Разом явилось здравоохранение – ведущие специалисты области: этим всего интереснее был, разумеется, Устименко Владимир Афанасьевич, полковник, о котором и в газетах писали, и между собой говорили. Его заметили сразу, с ним здоровались, иногда даже приторно, понимая, что на немалые дела приехал такой товарищ в Унчанск. Таким и в Москве неплохо, такие и в газетной хронике зачастую мелькают: «делегацию возглавляет д-р Устименко», «на перроне делегацию встречал представитель министерства т. Устименко»…
Владимир Афанасьевич здоровался со всеми одинаково суховато, не проявляя ни к кому особого интереса. Не из тех он был, что двумя руками пожимают протянутую при знакомстве руку, не из тех, что по-разному здороваются с начальством и с подчиненными, не из тех, что говорят, знакомясь: «Очень рад!»
Главный хирург горздрава – золотозубый, с бульдожьей челюстью, с тем решительным и волевым выражением лица, которое как раз свойственно людям безвольным и совершенно нерешительным, даже испуганным, – представившись доцентом Нечитайло, взял Устименку под руку и рывками оттащил в угол, где сразу же принялся стращать Владимира Афанасьевича здешней обстановкой, в которой решающую власть захватила одна вполне соответствующая своему назначению «дама», при которой все, «гм-гм, крайне неустойчиво, неопределенно, гм-гм, все мы крайне, просто-таки неприлично зависимы»…
Из мощных рывков и потряхиваний главного хирурга Устименко попал непосредственно перед «светлые очи» Инны Матвеевны Горбанюк, «наш отдел кадров» – представил ее Владимиру Афанасьевичу Евгений. «Очи» у Инны были действительно «светлые», какие бывают у кошек, с неподвижными, словно бы поперечными зрачками, что придавало взгляду ее рассеянно-загадочное выражение. Была она хороша собой, по-здешнему одета даже изысканно, причесана своеобразно, с выложенной возле виска седой прядью, – в общем на особ, которые обычно возглавляют отделы кадров, никак не походила.
– Наконец мы вас дождались, – сказала она, крепко пожимая его ладонь своей холодной и узкой рукой. – Завтра, я надеюсь, вы зайдете ко мне, и мы с вами займемся расстановкой сил в будущем больничном городке. Вы должны сразу быть ориентированы…
– Я ориентируюсь в этом вопросе обычно сам, – сказал Устименко, – так мне удобнее…
Нечитайло на них оглянулся, Евгений предостерегающе поднял брови.
– С этим тебе, Евгений Родионович, придется примириться, – сказал Устименко. – Характер у меня с дней нашей молодости не улучшился…
– Да уж, характерец, – хотел было пошутить Степанов, но Ираида его позвала встречать еще гостей, и Устименко остался наедине с Инной.
Она взглянула на него с легкой усмешкой.
– Каков бы ни был ваш характер, – сказала она, – работать нам придется вместе. Я тут на кадрах…
– В моем хозяйстве «на кадрах», как вы изволите выражаться, я – и никто другой, – несколько более спокойно, чем следовало, произнес Устименко, – и никаких вмешательств в мое дело я не потерплю, тем более что с юности не понимал, зачем в совершенно штатской медицине нужны отделы кадров. Понимаю и могу понять назначение их в военной промышленности, а в больнице?
Он замолчал, рассердившись на свою совершенно ненужную, хоть и сдержанную горячность.
– Со временем, надо думать, поймете.
– Никогда не пойму. Ненужная трата государственных денег.
– К этому вопросу государство иначе относится, чем вы, – слегка улыбнулась товарищ Горбанюк. – Экономить на таких ответственнейших участках, как кадры, нерентабельно, а попросту говоря – «себе дороже». Впрочем, у нас имеется по этому вопросу установившийся, твердый, общепринятый взгляд, с которым не спорят… даже когда имеют по этому поводу свою точку зрения. Да ведь сколько людей – столько и точек зрения… Все по-разному думают…
Устименко не согласился.
– Уж так уж по-разному, – сказал он. – Если черное, то оно черное, тут не спорят, а вот зачем вам из вашего кабинета расставлять моих сотоварищей по работе, я не пойму. Ведь мне куда виднее. Я знаю, кто мне нужен и зачем. А вы не знаете. То есть в общих чертах знаете, «профиль» вам известен, а мои больничные нужды откуда вам известны?
– Если я на своем месте, то мне все известно!
– В анкетном смысле? Или такой уж вы всепонимающий Господь Бог? Согласитесь – это совершеннейшая мистика, что именно у вас, за вашей дверью, могут определить, какой врач меня устраивает, а какой мне не годится. Не я это, по-вашему, должен решать, а вы. Но ведь работать-то с Иксом или Игреком мне, а не вам. Нет, я на вашем месте такую ответственность на себя брать бы не решился…
Инна Матвеевна слегка прикусила губку: зря он эдак сразу напролом пошел, мог бы и повежливее.
– О делах, пожалуй, мы тут толковать не станем, – сказала она насмешливо-начальственным тоном, – мы ведь в гостях, правда? А завтра или послезавтра, когда вам будет удобнее, вы ко мне заглянете, там и выясним все наши взаимные претензии…
Устименко ответил твердо и вежливо:
– Нет, Инна Матвеевна, я к вам не зайду.
– Почему же? У вас ко мне наверняка серьезные дела есть. Вы, как я слышала, какого-то даже иностранного подданного к себе привезли, чуть ли не из Германии, а уж отдел кадров…
– Гебейзен – австриец, – перебил Устименко, – рекомендован он мне моим старым товарищем, который его после лагеря уничтожения выходил…
Теперь перебила его Горбанюк:
– А вы в каждом человеке, который оказался почему-либо в лагере уничтожения, уверены?
– То есть как это? – розовея от гнева, спросил Устименко. – Это крупнейший патологоанатом, который для нас находка и за которого я…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































