Текст книги "Я отвечаю за все"
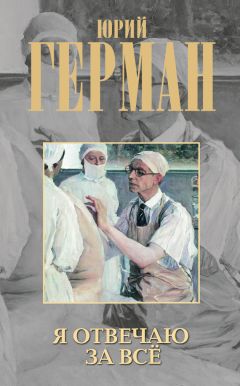
Автор книги: Юрий Герман
Жанр: Литература 20 века, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 55 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
В окошко сотрудники и приезжающие «периферийщики» – был и такой термин – спрашивали, когда Инна Матвеевна может принять. Никто не осмеливался спросить, не может ли она принять сейчас. Да сейчас она никого и не принимала. Ветчинкина сипела в низкое, пахнущее известкой и ржавчиной окно: «завтра», или «в пятницу в четырнадцать», или «после праздников, предварительно позвонив».
Горбанюк в это время читала «личные дела», делая в особую книжку записи. Даже любопытная старуха Ветчинкина не знала, что это вдова там все пишет и пишет. Оставляя свой кабинет даже на минуту, Инна прятала коричневую книжку в тот отдельчик сейфа, ключ от которого держала только при себе…
«Личных дел» было великое множество – их привозили, вновь увозили, им писали описи, в них были оглавления, эти оглавления исправлялись; старая Ветчинкина знала свое дело, но и она поражалась спокойной энергии Горбанюк, которая действительно быстро навела порядок в довольно запущенном хозяйстве своего ведомства.
Работала вдова не за страх, а за совесть.
Кто бы ни входил в ее пустоватый, светлый, чересчур прохладный кабинет, Инна Матвеевна всегда в это мгновение укладывала в сейф какую-то папку, или листок, или несколько сколотых вместе бумажек и сейф запирала. У посетителя от всего этого холодело под ложечкой. Любила Инна Матвеевна иногда где-либо на конференции, или на активе, или вообще на людях остановить наиболее веселого и жизнерадостного доктора, или докторшу, или старого фельдшера и сказать примерно следующее:
– Вы, товарищ Анкудинов, будьте так добры, передайте мне завтра через товарища Ветчинкину ваш военный билет. И паспорт супруги. Только именно завтра.
Лицо собеседника ее непременно вытягивалось: было непонятно, зачем именно завтра вдруг понадобится военный билет, паспорт супруги, иногда – супруга, вдруг – документы пропавшего без вести в дни войны сына. Смотрела при этом Инна Матвеевна прямо в глаза с таким особым выражением, что казалось – она знает. Но что? О чем?
Катюша Закадычная приходила к Инне Матвеевне почти запросто. Со своим умением услужить и быть полезной она даже свела поближе Горбанюк с супругой Устименки Верой Николаевной, и Инна Матвеевна своими глазами убедилась, что на стене в комнате Владимира Афанасьевича висит окантованная фотография летчика, про которого Вересова сказала, что это сэр Лайонел Ричард Чарлз Гэй, пятый граф Невилл, с которым Володя «путешествовал за границу».
– Ужасно странно! – заметила по этому поводу Горбанюк.
– Что же, собственно, странно? – удивилась Вера.
– Граф… и наш товарищ Устименко. Что между ними общего? Надеюсь, они не переписываются?
– Этот граф еще в войну умер, – сказала Вера. – Пойдем в кино?
Здесь же Горбанюк была представлена австрийцу Паулю Гебейзену. Австриец в накинутом на плечи одеяле пил чай в их общей кухне. Инне Матвеевне он доверительно сказал, что у него есть мечта повидать знаменитого русского коллегу господина Давыдовского, которого он, Гебейзен, считает одним из величайших светочей человеческого ума.
– Вы думаете? – неопределенно ответила Горбанюк.
У нее было смутное ощущение, что Давыдовского недавно где-то «долбали», и она не знала, что ответить этому приставучему, похожему на старую птицу австрийцу.
– О! – воскликнул Гебейзен, пораженный холодностью Горбанюк. – Размышления профессора Давыдовского о причинах инфекционных болезней, они, эти размышления, есть высший… как это сказать… наилучший…
– Тут много спорного, – пожала плечами Инна Матвеевна.
Гебейзен рассердился.
– Наука – всегда много спорного! – фальцетом произнес он. – Наука и есть спорность…
После кино Вера Николаевна пила чай с хворостом у Горбанюк. Елка спала, Инна Матвеевна показывала Вере свои туалеты.
В общем, они сошлись, и Горбанюк от Веры узнала порядочно всяких деталей характера Устименки. Ей стало понятно, что с ним не так-то легко справиться.
А вот те, кого он себе «самостийно» набирает? И она в лоб спросила об этом Катюшу Закадычную.
– Народ, конечно, у нас разный, – стараясь попасть в тон Горбанюк, не торопясь начала Катюша. – Совсем даже разный. Всякой твари по паре…
– В каком смысле?
Голос Горбанюк прозвучал не то чтобы металлом, но несколько жестью, во всяком случае, достаточно неприязненно. Катюша сжалась на своем стуле.
– В политическом? – пояснила свой вопрос Инна Матвеевна.
Закадычная кивнула со значительным выражением лица и уставилась на Горбанюк своими тихими глазами с поволокой.
– Как там себя ведет Богословский? – спросила Инна Матвеевна.
– А как? – не понимая, чего от нее хотят, но страстно желая понимать все и быть полезной этой своей заступнице и спасительнице, спросила Катюша. – Где – ведет?
– Разговаривает?
– А как же. Конечно, разговаривает.
– С каким он настроением приехал?
– Настроением? – опять не понимая и желая попасть в яблочко своим ответом, помедлила Катюша. – Настроение, конечно, у него разное… Но больше так себе…
– Как это понять – так себе? Доволен он нашей советской жизнью, хвалит ее, оптимистически настроен или больше замечает недостатки? Вы же грамотная девушка, советская, вы должны разбираться…
– Недоволен! – решительно и быстро, но уже понимая, что она делает и что нужно, быстро заговорила Закадычная. – Нет, нет, товарищ Горбанюк, недоволен. Вот вы послушайте, только послушайте: он как приехал, так в первый вечер и разговорился. А я-то медик, я-то не лаптем щи хлебаю, я-то учение академика Павлова тоже проходила и прошла на пятерку. Вот вы только меня заслушайте, как он этому главврачу Устименке про опыты на собаках рассказывал и какой они антисоветский вывод вывели. Вы только внимательно заслушайте…
И, сбиваясь, радуясь тому, что теперь все понимает и может выполнить все желания Инны Матвеевны, Катюша подробно и толково пересказала рассказ Николая Евгеньевича, но не так, как говорил он, а так, как бы хотелось слышать этот рассказ Горбанюк, чтобы была антисоветчина. И антисоветчина получилась, потому что Закадычная добавила от себя, немножечко, но добавила: «Вот какая наша жизнь, – будто бы произнес Богословский, а Устименко кивал, – над всеми над нами опыты ставят, как над теми собаками!»
Инна слушала, глядя в сторону, нисколько не показывая, что довольна, ей нельзя было ничего показывать. А дослушав, немножко зевнула и велела Закадычной:
– Вот об этом вы мне все подробненько, очень подробненько напишите. Ваши выводы мне не нужны и никому не нужны. Нужен лишь факт, понимаете? Что один сказал, что другой ему ответил, весь разговор слово за словом. И про собачью жизнь нашего советского человека…
Катюша опять часто закивала.
Свою «докладную записку» она писала две ночи, а переписывала все воскресенье. Ни малейшей нравственной неловкости она при этом не испытывала. Объяснила же ей ее покровительница и благодетельница Инна Матвеевна про разные коварные методы, которыми пользуются замаскированные и гнусные враги. А что до того, что Богословский почти потерял ногу на войне в сражениях за Советскую власть, что Устименко тяжело изранен в тех же боях, – разве она об этом думала? Она завоевывала свое право на свою жизнь, по-своему пробиваясь в люди. Писала, измученная процессом складывания слов в фразы на бумаге, злая оттого, что перо царапало и бумага была плохая. Почерк у Закадычной был не детский, но школьный. В понедельник она принесла свою «докладную» Горбанюк.
Та прочитала, исправила две ошибки и спрятала тетрадочные листки в сейф.
– Ну как, хорошо я написала? – осведомилась Катюша.
– Ничего.
– А может, там чего не хватает?
– Нет, там все есть. Все, что вы говорили.
– Я там и дату отметила, – сказала Закадычная, – и час там написан. Теперь повертятся.
Она испытывала сладость и радость мести. Ей казалось, что все произойдет немедленно, как в кино, когда ловят шпионов. А ее наградят.
– Теперь мне еще про что написать?
– Просто наведывайтесь, – пригласила Горбанюк, подавая ей тонкую, всегда холодную руку. – Заходите. И помните: мы с вами делаем нужное, хоть и незаметное дело. Очень нужное.
– Это в отношении бдительности?
«А все-таки ты дура!» – подумала Горбанюк.
Но тем не менее Горбанюк еще произнесла несколько напутственных и высоких слов, а Катюша испытала восторженное чувство верности и преданности этой красивой женщине.
– А они враги? – вставая, спросила она.
– Кто?
– Устименко с Богословским?
– Не знаю, не знаю, – строго глядя на Катеньку, ответила Горбанюк. – Это все очень тонко, тут дело не простое, настоящие враги умело маскируются и умеют скрывать свои истинные намерения…
– Мимикрия, – вспомнив подходящее слово, сказала Закадычная.
«Идиотка!» – отворачиваясь к сейфу, подумала Горбанюк.
Мертвые становятся в строй
– Окаемова как? – спросил Штуб.
– Поначалу боялась и даже какой-то вздор понесла, что она совершенно не в курсе, – сердито сказал Сережа Колокольцев, – а потом, постепенно…
Молодое лицо Колокольцева оживилось, ясными глазами он посмотрел на Штуба и сказал почти счастливым голосом:
– Это замечательно, Август Янович, просто-таки замечательно!
– Что замечательно? – заражаясь состоянием своего выученика и радуясь вместе с ним тому, чего он еще не знал, но во что страстно хотел верить, осведомился Штуб. – Что замечательно-то, Сережа?
Он так же, как и Богословский, в некоторых случаях называл своего ученика по имени.
– Все замечательно, – повторил Колокольцев, – прямо хоть приглашай писателя написать по нашему материалу. Вот соберем все, проверим, перепроверим, и пожалуйста.
– Ты меня, Сергей, не томи, – блестя под очками взглядом, велел Штуб. – И я человек, и мне интересно.
– Бухгалтер этот – пьянчуга, который врагом был Устименко Аглае Петровне, – точно никого не предал. И ее не выдал. Саму Аглаю Петровну, когда им в гестапо очную ставку дали.
– Речь идет об Аверьянове?
– О нем, – ответил Колокольцев. – Он у Окаемовой был и ее стращал, что-де имеет задание от какого-то главного штаба партизан убить того, кто покажет на некую Федорову, что она Устименко. А под именем Федоровой и вошла в город, вернее, была схвачена Аглая Петровна. «Пусть считает себя покойником», – это Аверьянов сказал про того или ту, кто выдаст фашистам Аглаю Петровну.
– Интересно, – с внезапным латышским акцентом сказал Штуб. – Даже Аверьянов…
– Даже Аверьянов, вот именно, что даже такой, как Аверьянов, – подхватил Сережа, – а уж он был совсем никудышный человек, этот самый Степан Наумович. Тут еще важнее, товарищ Штуб, что у него сын остался – Николай Степанович Аверьянов. Ему тяжело: отец как-никак в изменниках ходит, а ведь сведения о нем у меня не только от Окаемовой, то есть об отце Аверьянова, а еще и от Платона Земскова.
– Плох он? – спросил Штуб.
– И он плох, и ему плохо. Впрочем, сейчас получше: я их там, извините, припугнул немного, этих собесовских добрячков.
Штуб по своей манере поднялся и прошелся из угла в угол. Колокольцев продолжал говорить, следя за полковником глазами и зная, что тот слушает внимательно:
– Земсков парализован, совершенно почти неподвижен, со спинным мозгом что-то, на него ведь гитлеровцы облаву устроили, но он все-таки ушел. Это даже понять невозможно как, но ушел. Простите, отвлекаюсь. Теперь по делу…
Август Янович на мгновение остановился, велел:
– А вы отвлекайтесь, ничего. Я как старуха теща, люблю с подробностями, с самого начала, чтобы всю картину видеть.
Колокольцев, улыбнувшись, спросил:
– Как я приехал?
– Точно, – серьезно ответил полковник. – Вот приехал, вот вошел, вот увидел. Кстати, сестра его жива?
– Она одна только Земскова и понимает, словно бы мысли угадывает…
– Погоди секунду! Потом сяду и не стану тебя хождением отвлекать…
Высунувшись к секретарю, он распорядился, чтобы ему не мешали, велел отключить даже главный телефон и, откинувшись в кресле, приготовился слушать. День сменился ночью – Колокольцев и Штуб все разговаривали, уточняли, спорили, опять разбирались в записных Сережиных книжках, в том, как свезти всех в Унчанск, как устроить Платона Земскова и с пенсией и с прожитием, как восстановить историю его замечательного подвига.
– Почему не верят, почему? – истомившись, вдруг рассердился Колокольцев. – Ведь ясная же картина, Август Янович, ребенку ясная.
– А если нет? – осведомился Штуб – Давай-ка пойдем с тобой по этому пути, что и сами шли, но только методом Бодростина. Вопрос: объясните, Устименко, как случилось, что все ваши товарищи погибли, а вы остались живой? Почему именно вы? И кто может подтвердить, что вы не выдали своих товарищей, когда самолет совершил вынужденную посадку? Кто именно это может подтвердить?
– Ну жительница деревни, где они заночевали, – неуверенно произнес Сережа. – Ведь Аглая Петровна ночевала отдельно, она была единственной женщиной на борту.
– Вы не отвечаете на мой вопрос, – довольный тем, что Бодростин получается похожим и Колокольцев явно робеет, продолжал игру Штуб. – И не валяйте дурака, Устименко, мы с вами не дети. Откуда жительница какой-то деревни, то ли Костерицы, то ли Лазаревской – даже название точно не установлено, – женщина, которую вы сами не опознаете сейчас в лицо, может доказать нам, что вы не выдали своих товарищей?
– Но зачем? – почти крикнул Колокольцев. – Зачем, товарищ Штуб?
– Не товарищ Штуб, а товарищ Бодростин, – невесело усмехнулся Август Янович. – И если уж на то пошло, не товарищ Бодростин, а гражданин начальник. А зачем? Вы спрашиваете – зачем? Чтобы получить в подачку от фашистов жизнь вместо смерти. Ясно вам, Устименко? Удовлетворены, товарищ Колокольцев?
Штуб опять встал, сильно, вкусно потянулся, прошелся по комнате и спросил издали:
– Какое, Сережа, на вас произвел впечатление Земсков?
– Замечательное, – ответил Колокольцев. – Замечательное еще и тем, что судьбы товарищей по подполью страшно его тревожат и волнуют. Лежит на койке – в чем только жизнь держится, ведь вы знаете: он еще и горбун… Ко всем болезням и к этой страшной контузии горб – тоже не сахар… Лежит среди беспомощных калек, а глаза так и светятся, все понимает, решительно все. Сестра его мне как бы переводила, она с губ читает то, что он только собирается сказать.
– А про Постникова?
– Про Постникова он ничего, кроме как то, что вам ваша сослуживица доложила, не знает. Действительно, точно, в ночь операции «Мрак и туман» стрелял. И тут я опять сегодня с нянькой говорил. Подтвердила старуха. Постников ее за кипятком послал, но она сразу вернулась и увидела, как сам крюк откинул и засовы оттянул, и тут же начал стрелять в фашистов, а когда они ворвались, он к вешалкам подался, у барьера присел и опять выстрелил, а тогда уже нянька ничего не помнила, «потерялась» – так она сказала. И еще подробность – знаете или нет? – насчет того, что та же нянька слышала, нянька-дежурная своими ушами слышала, как Постников сказал больным в ту последнюю их ночь и даже в те последние минуты, что бургомистр-изменник Жовтяк убит народными мстителями.
– Интересно, – произнес Штуб, – крайне интересно.
Он ходил по своему кабинету.
– Считалось, что Жовтяк сгорел, – напомнил Штубу Колокольцев.
– Но Постников был одиночкой, – перебил Штуб. – Погодите, а какие между ними были отношения? Богословский и Устименко могли знать эти отношения? Хоть в какой-то мере? Ладно, это я сам при случае выясню…
Август Янович еще подумал, потом резко сказал:
– Насчет взрыва в «Милой Баварии» все проверьте и перепроверьте. И насчет Аверьянова и его героического поведения, – есть живые свидетели?
Колокольцев записывал.
– Вновь запрос подготовьте к завтрему насчет Аглаи Петровны Устименко – почему не отвечают? Только без всяких там мотивов. Дескать, проходит по делу, и все, пускай ничего не подозревают…
Сергей быстро взглянул на Штуба.
– Вы ведь Колокольцев, а не Бодростин, – заметил Август Янович.
– Так точно, Колокольцев, – немножко обиделся Сергей.
– И не обижайтесь, – поворачивая в замке сейфа ключ, сказал Штуб. Он легко потянул на себя толстую стальную дверь, еще раз взглянул на заявление Степанова, отцепил от него письмо Аглаи Петровны и некоторое время молча в него вчитывался.
Колокольцев ждал.
– Это – от Аглаи Петровны Устименко, – сказал погодя Штуб, протягивая Сереже листок. – Приобщите, как когда-то говаривалось. Предполагаю – с дороги, опять ее куда-то этапировали, видите, тут ее странствия перечисляются, разберитесь. Разбираете почерк?
Сережа кивнул.
– Нам написано? – спросил он.
– Нет, не нам. Тут «дорогие мои» обращение. Вряд ли мы ей нынче дорогие, – с сухим смешком сказал полковник. – Родственнику адресовано. Ну а родственник – господин осторожный, поспешил мне вручить с соответствующим приложением – отмежеванием.
Читал бы и перечитывал Колокольцев скупые Аглаины строчки до бесконечности, если бы Штуб не поторопил его:
– Пойдем! – И в ответ на недоуменный взгляд Колокольцева повторил: – Может, придется и не поспать нам с вами, подумать, если такое дело имеется, которое в наших с вами силах прекратить.
Голос его был тверд и недобр.
– Потому что есть и не в наших силах. Но что можем – то должны, а это мы с вами можем и потому обязаны. Идите, разбирайтесь, думайте, а я дома постараюсь подумать. Кстати, с Устименкой с этим, с доктором, я сам говорить буду при случае…
Заперев сейф и погасив свет, он вышел с Колокольцевым на лестничную площадку, крепко своей маленькой рукой пожал его руку, подмигнул ему одним глазом под очками, чего Сережа и не заметил, и быстро сбежал вниз. Несмотря на поздний час, Зося еще не спала, читала, жадно разрезая ножницами книжку романа – старую, но почему-то не разрезанную. Алик, как всегда, занимался за письменным столом отца.
– Здорово! – сказал ему старший Штуб, снимая китель и сапоги.
– Здравствуй, папа, – суховато, словно чем-то обиженный, ответил мальчик.
– Задача не решается?
– А я и не решаю.
– Что же ты делаешь?
– Мало ли…
Август Янович подошел ближе. Алик закрыл лист бумаги двумя ладонями. Штуб внимательно посмотрел на сына: детски розовое его лицо нынче выглядело и бледным, и печальным.
– Ты что? Не заболел?
Алик тоже посмотрел на отца – внимательно, пристально и строго.
– Чем это я тебе не угодил? – спросил Штуб, садясь на стул с краю своего письменного стола. – Смотришь на меня, словно я тебе не отец родной, а… враг, что ли?
Ему вдруг стало неловко под этим пристальным взглядом. Потом, несмотря на свое плохое зрение, он заметил ссадину на щеке мальчика, разбитое ухо и две продольные царапины на шее.
– Что это? – спросил Штуб, показав пальцем на увечья. – Дрались, что ли?
Алик потрогал царапины.
– Ну тебя к шутам, – рассердился Штуб. – Я есть хочу, на столе, как мать любит выражаться, «кот не валялся», а тут какие-то загадочные загадки.
– Я тебе пишу письмо, – печально произнес Алик. – Ты мне помешал.
– Ну и пиши.
Зося принесла ему тарелку крайне невкусного супа, которому название она и сама затруднилась определить.
– Суп «фантази»? – осведомился он.
– Да нет, так, хлёбово, – зевнула Зося, – похлебали и ладно. Тебя зачем-то Алик ждал, не объяснил?
– Нет, – сказал Штуб. – Перцу не держим?
– Он же вредный, – опять зевнула Зося.
– Дай горчицы, я в хлёбово подмешаю, – попросил Штуб.
– А что? Здорово невкусно? – обеспокоилась жена. – Ты не думай, это от концентратов он посинел так. А слизистость – от картофельной муки. Я ошиблась, понимаешь, Август, но ведь кисели делают с картофельной мукой?
– Ничего, – бодро сказал он, – не имеет значения. Прекрасная еда. Серную кислоту ты сюда не вливала по ошибке?
Зося обиделась.
– С каждым же может случиться, – сказала она. – Дети ели с сахаром и даже хвалили. А немецкая кухня вся на слизистых супах, я читала в поваренной книге.
– За то я их и убивал, немцев, – нежно сказал Штуб. – Давай второе.
На второе был чай с хлебом и маслом. Но когда Август Янович почувствовал себя не только сытым, но даже отяжелевшим, Зося вспомнила, что завернула его личную, штубовскую, котлету вместе с картошкой в одеяло и кастрюля у нее в постели. Август Янович на всякий случай съел и котлету.
– Из мяса, – удивился он, – подумай-ка! И картошка из картошки. Имей в виду, Зосенька, что я был совершенно удовлетворен «слизистым» с чаем, котлету же съел назло Терещенко. Если я не съем – он непременно умнет. А что ты читаешь?
Зося читала Цвейга.
– Здорово пишет, – сказал Штуб. – Когда плохо написано, ты крахмал не сыплешь вместо муки. Я тебя знаю.
Она опять чуть-чуть обиделась:
– Не смешно!
Он поцеловал ее натруженные, потрескавшиеся руки. Потом, по-стариковски волоча шлепанцы, пошел посмотреть девчонок. Помойная кошка Мушка, как Штуб и предполагал, спала у самого лица Тутушки, под кроватью Тяпы чесал бок гибрид таксы и спаниеля Джек. Его брат Джон спал на тахте.
Заслышав шарканье Штуба, животные приняли исходную позицию, которая обычно заканчивалась изгнанием их из детской по команде – «а ну, все отсюда вон!». Иногда, впрочем, девчонки заступались за свой зверинец, и Штуб сдавался.
– А ну, все вон! – шепотом распорядился полковник Штуб.
Но животные сделали вид, что не слышали приказа. «Может быть, они понимают, что девчонки спят и я кричать не стану? – удивился Штуб. – Ведь не могут же они меня не слышать!»
Кошку Мушку ему удалось вынести за загривок, но, когда он вернулся за собаками, братья-гибриды скрылись под тахту.
– Пош-шли отсюда! – сев на корточки, прошипел полковник.
Из-под тахты раздалось двухтактное постукивание. Это гибриды Джон и Джек заверяли полковника Штуба в своих искреннейших к нему симпатиях мерным поколачиванием хвостами об пол.
Август Янович наклонился совсем низко.
Глаза собак выражали из-под тахты подлинную любовь, даже любовь преданную, но и железное упорство. А помойная Мушка в это мгновение мягкой лапой растворила дверь и тигриной походкой пробралась на угретое место к Тутушке.
– Будьте вы прокляты! – сказал Август Янович и ушел, шаркая туфлями.
Алик сидел за столом отца неподвижно, исписанные листки комкал в кулаке.
– Ну? Давай письмо, – сказал Штуб.
– Я его уничтожил, – ответил младший Штуб.
– Какие слова! – восхитился старший. – «Уничтожил»! Как в кино.
– Не смейся! – попросил сын.
Что-то вдруг послышалось Августу Яновичу такое в словах Алика, что он сразу перестал улыбаться.
– Папа, разве в органах государственной безопасности могут ударить человека? – глядя прямо в глаза отцу, в его очки, тихо и строго спросил мальчик.
Штуб молчал. Он испугался. Может быть, первый раз в жизни. И растерялся. Растерялся и испугался так, как и не имел права теряться и пугаться. Это было куда страшнее внезапной проверки документов тогда, осенью сорок третьего в Берлине, это было неизмеримо страшнее взгляда пьяного эсэсовца, который сказал вдруг: «Нет, ты не портной, вовсе не портной». Это было немыслимо, невыносимо, что теперь не его жизнь находилась в смертельной опасности, в смертельной опасности находилось теперь его бессмертие: дело, которому он служил, и сын.
– Я тебя не понял, – чтобы оттянуть время, сказал Штуб. – Ты хочешь спросить…
– Я хочу спросить, – звонким от обиды и горя голосом, пощелкивая от нетерпения пальцами, вытягивая шею, сказал Алик, – хочу спросить, папа, разве ты можешь ударить врага? Даже врага? Изобличенного? Можешь?
Это было помилование, нежданное-негаданное, – оно пришло, может быть вняв всей его жизни, учитывая каждый прожитый им день, помилование перед самой казнью. Бессмертие сохранилось, Верховный Суд рассмотрел…
– Ты не обижайся только, папа, – воскликнул Алик, и в голосе его Штуб услышал и облегчение и счастье, – пожалуйста, папочка, не обижайся. Но понимаешь, папа, Алешка Крахмальников сказал, что он знает, он слышал…
Алик оттолкнул мешавший ему стул и подошел к отцу. Он хотел, наверное, обнять Штуба, но не посмел, увидев его белое, неподвижное лицо с сильно обнажившимися морщинами, не только не посмел, а и попятился немного, замолчал, судорожно вздохнул и опять заговорил, не в силах кончить этот страшный для Августа Яновича разговор.
– Чекисты – это же самые замечательные люди, – слышал Штуб слова Алика, – они… Правда, смешно, что я тебе это говорю, тебе. Вы же дзержинцы. И вы не можете. Папа, ты ведь никогда не ударил арестованного человека?
– Нет, – тихо ответил Штуб. – Не ударил, Алик, и не ударю.
– Ведь это невозможно?
– Невозможно, Алик, – глухо ответил Штуб.
– Совсем невозможно? Исключено?
– Исключено.
Нет, это не было помилованием. Это было похлестче приведения приговора в исполнение. Если еще учесть то обстоятельство, что Штуб ненавидел ложь…
– Значит, я правильно двинул в зубы этому клеветнику Крахмальникову? Если он утверждает…
Штуб отвернулся. Отвернулся и тупым взглядом посмотрел в стену. «Стенка, – зарегистрировал он. И подумал: – Наступит же час? Не может не наступить? Но нынче? Как мне смотреть в эти глаза? Чем ответить на их огонь?»
И Штуб ответил:
– Дзержинский такого человека поставил бы к стенке.
– Расстрелял? – воскликнул Алик. И добавил тихо: – Вот видишь! Вот видишь же! А Алешка Крахмальников смеет врать…
– Хорошо, – сказал Штуб, – вопрос ясен. Я устал, Алик, прости, стар стал.
Уходя, Алик спросил:
– Ты не сердишься?
– Нет, – ответил Штуб. – Спокойной ночи.
– Спокойной ночи, папа. Ты, правда, не сердись. Я понимаю, что решать вопросы кулаками в нашем возрасте глупо, но…
– Да, да, я понимаю, – мучаясь недосказанностью, сказал Штуб, – понимаю. Но только…
Он не знал, что – только. И вдруг понял.
– Подожди! – велел он сухо.
Алик остановился, обернулся к отцу. Он стоял уже у двери – маленький Штуб, плечистенький, крепенький.
– Этой дракой и тем, что ты ударил Лешку, – раздельно, как в своем служебном кабинете, сказал Август Янович, – ты… ты поступил низко, понятно? Ты сын начальника, работника госбезопасности, ты тоже Штуб. Штуб! – повторил он громче. – Понятно?
Маленький Штуб кивнул скорбно и виновато.
– Понял ли?
– Я же не пень, – шепотом ответил Алик.
– Ступай. И позови на минутку маму.
Зося, конечно, пришла не сразу – лихорадочно дочитывала и, не дочитав, принесла книгу с собой.
– Зоська, – сказал Штуб, – знаешь что, Зоська?
– Что, Штубик? – ответила Зося. Она его иногда так называла – чтобы он отвязался, если ей было интересно читать. – Что тебе, Штубик?
Нет, судя по ее лицу, Алик ей ничего не наболтал насчет Алешки Крахмальникова.
– Ничего, – неслышно вздохнув, ответил он, – устал сегодня. Иногда кажется – лопну!
Зося резко повернулась к мужу. Он никогда еще не жаловался. Только во сне – стонал. И вскакивал, оглядываясь. А сегодня он, видимо, действительно ужасно, нестерпимо устал – даже очки снял, чтобы не видеть ничего, что ли? И смотрел в ее голубые глаза беспомощно, не различая их бесконечно доброго света.
– Все Цвейг, Цвейг, – еще раз вздохнув, сказал он. – А Пушкин? – И прочитал негромко наизусть:
Посадят на цепь дурака
И сквозь решетку, как зверька,
Дразнить тебя придут…
– К чему это? – с тревогой в голосе спросила Зося.
Но Штуб продолжал:
А ночью слышать буду я
Не голос яркий соловья,
Не шум глухой дубров —
А крик товарищей моих,
Да брань смотрителей ночных,
Да визг, да звон оков.
– Перестань, Август, – попросила Зося, – пожалуйста, милый. Что с тобой делается?
Он обнял ее, крепко прижал к себе и сказал, уже посмеиваясь:
– Курить, мамочка, надо меньше. Гулять перед сном. Острое, копченое, соленое – исключено. Ужин отдай врагу. А я съел сам. Вот и расплачиваюсь…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































