Текст книги "Я отвечаю за все"
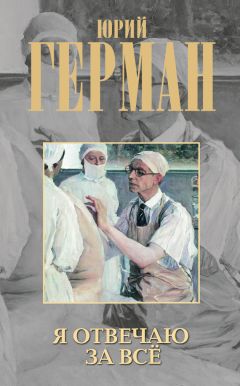
Автор книги: Юрий Герман
Жанр: Литература 20 века, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 55 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
– Я ему в ухо врежу! – пообещал Богословский Устименке.
– Это без надобности! – спокойно ответил Владимир Афанасьевич. – Он сейчас будет морально уничтожен.
– Вы, товарищ главврач, оптимист, – протянув огромные ручищи сестре, сказал Богословский. – У него и рыло-то, как у гаулейтера…
– Я с гаулейтерами не встречался, не приходилось, – ответил Володя и тут перехватил взгляд, которым старый патологоанатом смотрел на профессора-полковника фон Фосса. – Заметили? – спросил он, толкнув Богословского локтем.
– Давно заметил, – ответил тот, – еще там, в околотке. Этот вполне спокойно может полковника Фосса убить. Геноссе Гебейзен, – негромко позвал он старика и так, чтобы фон Фосс не видел, погрозил Паулю Герхардовичу намыленной лапищей. – В рамочках будем держаться!
– Да, держаться, – согласился австриец.
– Начнем? – осведомился Устименко.
Наркоз давала Катенька Закадычная, и, надо ей отдать справедливость, довольно ловко. Операция прошла нормально, даже красиво, с изяществом и блеском, как всегда, когда «правил и володел» Николай Евгеньевич.
– Ну так грыжа или плеврит? Спросите у него, геноссе Гебейзен, – велел Богословский, когда картина стала совершенно очевидной. – Почему этот кретин с ученым званием настаивал на своем даже тогда, когда медик-солдат рассказал ему свою историю?
Фон Фосс облизал красным языком губы упыря и ответил:
– Правы русские коллеги, но этого не может быть.
– Чего не может быть? – тенорком продребезжал Богословский. – Он же видит, глазами!
– То есть? – спросил Устименко. – Как не может быть, когда вы видите?
– Вижу, но то, чего не может быть.
– Теперь-то можно ударить? – постным голосом осведомился Богословский у главного врача. – Я аккуратно. В ухо. Со знанием анатомии.
Устименко запретил старым присловьем деда Мефодия:
– Ни Боже мой!
А Гебейзен все смотрел на фон Фосса не отрываясь, заходил то справа, то в лицо ему заглядывал прямо, то слева. И шептал, и кивал сам себе…
Наконец Рудди унесли, за ним, выкидывая ноги носками вперед, ушагал полковник, видимо, очень гордящийся своей военной выправкой. Доктора размылись. Богословский велел лейтенантику голосом высокого начальства:
– Пусть в лагере в вашем все фрицы и гансы эту историю знают досконально.
Лейтенантик сказал «слушаюсь», но тут же осведомился: зачем?
– А это уж моя забота, – загадочно ответил Богословский.
Но и без лейтенантика в лагере все всё мгновенно проведали, и, когда в понедельник вечером Николай Евгеньевич вышел прогуляться, фрицы и гансы стояли за своей проволокой, словно почетный караул, зазывая генерала-доктора посетить их для важнейшего разговора.
Дальше все пошло как по нотам. Богословский посетил лагерь один – без переводчика. Моросил мелкий грибной дождичек. На утрамбованной площадке, где военнопленные обычно играли в городки и кегли, расселись по-турецки более трехсот человек – Николай Евгеньевич даже посчитал примерно. И от их имени заговорил старый немец, тоже тотальник, суровый, грубоватый, но, видимо, довольно искренний рабочий-металлист, сталевар, по фамилии Гротте. Говорил он медленно, ворочая слова, словно тяжести, и речь его глухо грохотала, как падающие бревна. Богословский слушал немца, один сидя на стуле, словно на троне, вытянув вперед больную ногу, глядя мимо людей, на Унчу, в ту сторону, где были у него когда-то жена и дочь, уничтоженные такими же фрицами и гансами. Слушая «грохот бревен», он думал о своей девочке, он всегда видел ее в нестерпимо горьких, невозможных снах-воспоминаниях. Он видел их – жену и дочь – умственным взором так ясно, как будто они были сейчас с ним, но вместе с тем угадывал смысл слов, похожих на падающие бревна, и ненавидел страстно этих собравшихся тут, их лягушачий цвет, их запах, их расплывшиеся в сумерках все-таки сытые лица, их робость перед ним, даже то, что они принесли ему стул…
И в то же время он переводил себе слова тотальника. Солдат говорил примерно так:
– Отошла в прошлое, кончилась позором и проклятьем всего мира самая гнусная и кровавая война из всех, которые вело человечество. Немцы навлекли на себя гнев всех людей доброй воли, навлекли презрение и ненависть. Сейчас и еще долго никто не будет даже пытаться отличить немца от фашиста. И вот русский старый доктор. Его нога пробита осколком немецкой бомбы. Осколок попал в коленную чашечку тогда, когда русский доктор оперировал раненое сердце русского солдата. А солдат был тоже ранен немцами…
«Откуда они, сволочи, это знают?» – брезгливо удивился Богословский.
И тотчас же вспомнил, что лейтенантик-начальник вчера, после операции, долго что-то выспрашивал у Гебейзена.
Ту часть речи тотальника, в которой старый немец рассказывал о гибели Ксении Николаевны и их дочки, Богословский постарался не услышать. Но наступившую абсолютную тишину он не услышать не мог. Глотку ему сжало, он поперхал и отворотился от собравшихся немцев, опять увидев в воображении Ксюшу живой и вновь не понимая, как это может быть, что он один бедует на свете? А бревна все валились – теперь старый немец подошел к Богословскому вплотную и, глядя ему в глаза острыми, недобрыми, но печальными глазами, сказал, что он не имеет права пожать руку русскому доктору, но не принять от них от всех благодарность русский доктор тоже не вправе. Так вот они благодарят.
Триста человек встали. Их никто этому не учил. Они встали не как фашистские солдаты, а как люди. И не знали, что теперь делать дальше. Но Богословский знал. Он еще вчера кое-что придумал «по коммерческой линии», как определял он для себя такого рода комбинации, называя их почему-то в уме «рокировочками».
Здесь надо отметить еще одно свойство натуры Богословского – никогда, ни в каких случаях, ни по какому поводу не грешил он сентиментальностью, и даже более того: всякая чувствительность в окружающих, или в собеседниках, или просто в атмосфере мгновенно вызывала в нем острую потребность все происходящее переиначить, опрокинуть, исказить и вывернуть наизнанку. Это очень русское свойство доставляло ему немало неприятностей, но побороть свою натуру он не мог, да и не считал нужным, полагая, что чувствительность есть антипод истинной человечности, и не раз подмечая за долгую свою жизнь сентиментальность в людях жестоких, равнодушных и даже в характерах тиранических.
В нынешней ситуации, когда обстановка создавала все предпосылки, как выражаются ораторы, для смягчения душ, Богословский никак не смягчился. И душа его нисколько не открылась навстречу благодарящим, пожалуй, даже искренне, фрицам и гансам. Он приступил к своей «рокировочке» деловито и серьезно, вызвав в помощь юного лейтенантика, который и сюда пришел с томиком своего Гёте.
– Тут мне потребуется некоторая точность формулировок, – отнесся Богословский к лейтенантику, – а я ихним языком владею несовершенно. Так вот помогите мне, пожалуйста.
И он произнес свою отнюдь не патетическую, а сугубо прозаическую, деловую, практическую речь.
– Да, вы, граждане военнопленные, отвоевались! – заговорил он под аккомпанемент переводчика и внимательно вглядываясь в белеющие лица немцев. – Отвоевались, предполагаю, надолго. И ждет вас нормальная, штатская, трудовая жизнь – там, на вашей земле, ибо в конечном счете мы вас от себя отпустим. Но ведь до этой штатской жизни надо еще дожить. А это не так просто. Многие из вас были ранены, другие болели, третьи контужены, а некоторые еще не знают, какие недуги постепенно вгрызаются в их тела…
Немцы тихо и печально прогудели что-то в ответ – слова Богословского соответствовали их мыслям.
– Вот-вот, – произнес Богословский, – мы, кажется, понимаем друг друга. Ну а полковник ваш – доктор хреновый, как бы это перевести точнее?
Лейтенантик перевел по возможности точно, потому что пленные загоготали.
– Хреновый, – повторил Богословский, – я таких повидал: «Да, это есть, но этого не может быть!»
Немцы опять загоготали, толкая друг друга локтями. Теперь они придвинулись совсем близко, чтобы не проронить ни единого слова. Им, несомненно, было понятно, что сейчас нечто произойдет, ибо не станет такой человек, как этот грузный, знаменитый старый доктор, просто болтать пустяки. Немцы понимали, что доктор идет к какой-то своей, загадочной для них цели.
– С такой медицинской обслугой некоторые из вас не дотянут до того срока, когда вам будет надлежать вернуться на родину, – несколько старомодно строя фразы, не торопясь и не разводя фиоритуры, как в старопрежние времена, продолжал Николай Евгеньевич. – Ничего, граждане пленные, не поделаешь – это все правда… Не мы вас к себе звали, не мы вам тут пироги сулили.
Он сделал длинную паузу, прокашлялся, оглядел своих собеседников и вроде бы даже на этом кончил, сильно обеспокоив лейтенантика, который уже попрекнул себя за то, что разрешил это «антигуманное выступление с элементами запугивания», как он определил речь Богословского. Но Николай Евгеньевич, прервав нарастающий тревожный гул голосов, заговорил дальше:
– Ну а теперь не из каких-либо общечеловеческих или там гуманистических соображений, а просто как человек дела, я собираюсь вам предложить коммерческие взаимоотношения или даже сделку, – сказал он, недобрым и прямым взглядом обводя ближайших к нему слушателей. – Именно сделку. Я буду раз в неделю здесь, в вашем околотке, осматривать всех желающих военнопленных…
Фрицы и гансы залепетали что-то восторженно вразнобой, но Богословский не дал этим восторгам достичь своего апогея, а вдруг взял да и повернул темочку эдак градусов на девяносто.
– Но не даром!
Он поднял вверх огромную лапищу, сжал ее и погрозил немцам кулаком.
– Не даром! Это вы разрушили нам больницу! – крикнул он. – Это вы, сукины дети, вот в этом корпусе, бывшем онкологическом, забрали всех больных, вывезли и уничтожили, а здание сожгли. Это вы бессчетно народу побили, и не в честном бою, а «расчищая» земной шар от неугодных вам, сволочам, наций. Это вы… – Он, задохнулся, багровея. – Это вы мне жену и дочку убили, так что – я вам буду гуманизмы гуманные тут разводить и мармелад с вами кушать?
Этот неизвестно откуда взявшийся мармелад вдруг пристал к нему надолго.
– Нет, не будет никаких мармеладов, – сделав тяжелый, грузный шаг вперед, на немцев, сказал Богословский. – Не в мармеладные времена мы встретились. Я вам мармелада не сулю, а предлагаю коммерцию. За мою на вас работу, за мою трудную и тяжелую работу бесплатно! Бесплатно! – громким курсивом, подчеркнуто и тонко крикнул Богословский дважды, чтобы это понятие в них въелось: они насчет чистогана – доки. – Понятно вам? А я еще, кроме того, что вами, поганцами, ранен, я еще и тяжело болен, и мне бы куда лучше полеживать, чем с вами тут заниматься, но, несмотря на все это, я предлагаю вам коммерцию. За мою на вас работу вы в свободное время будете субботниками и воскресниками нам восстанавливать больничный городок. Согласны? Только вы обдумайте, потому что я человек дела.
Весь фронт немцев перед Николаем Евгеньевичем непонятно, вразброд, сердито, восторженно и испуганно одновременно что-то завякал и заспорил, наверное, между собою, не понимая и понимая, пререкаясь и втолковывая друг другу. Богословский послушал, прижав перевязку на животе руками плотнее, сделал еще полшага вперед и, очутившись уже совсем лицом к лицу с фрицами и гансами, опять обещал им, что никаких мармеладов не будет, но если они выделят толковые и сильные бригады водопроводчиков, монтеров, маляров, паропроводчиков и прочих, тогда он, Богословский, ручается им, что за их окаянным здоровьем будет надлежащее смотрение и уж желудок с легкими не спутают…
Немцы вновь, но сдержанно, из вежливости, посмеялись, а Богословский, дав им сроку на размышления до среды, ушел, сопровождаемый растерявшимся лейтенантиком, который на ходу испуганно говорил Николаю Евгеньевичу что-то осторожное в смысле нарушения правил Международного Красного Креста с Полумесяцем, а также воскресного отдыха.
– Ты мне, лейтенант, мармелад не разводи, – сурово сказал ему Богословский. – Здесь ведь все добровольно, на коммерческих началах. Или ты своей властью можешь мне приказать следить за их здоровьем? Ведь не можешь? Кишка тонка? Ну так и молчи, помалкивай в тряпочку. Тут не акционерное общество «Интурист» с первоклассным питанием, друг мой дорогой. Имеем мы на сегодняшний день военнопленных, которые в недавнем прошлом в нас стреляли и на нашей земле хозяйничали. Я это забывать сию минуту не намерен!
Так кончилась эта беседа, а в субботу сто девяносто три фрица и ганса вышли на первый субботник. Их джазовый оркестр самодеятельности играл за ельничком и для оставшихся в лагере, и для вышедших на работу только что разученный вальс «На сопках Маньчжурии». Два хромых – Устименко и Богословский – понесли первыми из сарая батарею парового отопления. Работали и сестры, и санитарки, и доктора. Работали Закадычная и профессор Гебейзен. Приехал на автомобиле большой начальник, Евгений Родионович Степанов, сделал ироническое выражение лица, дал несколько строительных советов и умчался. Немец в квадратных очках подошел к обоим хирургам и сказал, что от имени своих товарищей он просит докторов заниматься более необходимым для людей делом, чем эта черная работа.
– После войны есть… имеется очень много больных людей, – перевел Гебейзен. – Доктора должны иметь… брать… взять… или отдых, или свое… лечить…
Старый немец козырнул и ушел. А наутро Владимира Афанасьевича вызвали к председателю исполкома Андрею Ивановичу Лосому. Лосой помогал Устименке чем мог, но мог он не слишком многое, и помощь его выражалась главным образом в том, что, когда на Владимира Афанасьевича накатывались очередные неприятности, Лосой брался сам «отрегулировать» и регулировал посильно в пользу Устименки.
– Ну чего ты там опять дрова ломаешь? – спросил он, потирая высокий с залысинами лоб. – Каких таких немцев нанял?
– Никто никого не нанимал, – весело ответил главврач. – По собственному желанию они организовали ряд субботников.
– Не врешь?
– Проверьте.
Лосой открыл папку, боковым зрением заглянул в четвертушку бумаги, передернул костлявым плечом.
– А в сигнале не так? – осведомился Устименко.
– В сигнале не так, – спокойно ответил Андрей Иванович.
– Кто пишет?
– Товарищ Горбанюк пишет, Инна Матвеевна наша просит разобраться: будто Богословский их лечить взялся, а за это они тебе, Владимир Афанасьевич, ремонтируют.
– Тут самое главное – мне, – усмехнулся Владимир Афанасьевич. – Именно что мне. Не написано, что личную квартирку? Между прочим, прекрасно работают немцы: не торопясь, не халтурят, старательно. Тут еще, Андрей Иванович, важно то, чтобы они понимали задачу свою – отрабатывают собственную подлость…
– Это психологическая драма чтобы у них получилась?
Устименко запнулся – Лосой умел поддеть.
– Ничего, говори, – сказал Андрей Иванович. – Меня хлебом не корми – дай послушать, как фашиста перевоспитывают. Я даже заплакать могу от такого рассказа.
– Да не перевоспитание – коммерция.
– Трудно тебе на твоем поприще, – разбираясь в почте, сказал Лосой. – Таким, как ты, всегда трудновато. Ты только запомни, Владимир Афанасьевич, везде трудно. И Золотухину нашему совсем край.
– Почему – край?
– Область тяжелая, разорение предельное, а Зиновий Семенович мужчина с характером, у него свои соображения бывают чрезвычайно даже дельные, но и с ним и с соображениями не слишком некоторые считаются. Которые повыше. Так что хоть ты не шуми под руку, не делай из него чиновного бюрократа. И личная беда навалилась…
– Мы говорили в свое время, – сказал Устименко, – да ведь он сына не привез.
– Разубедили, – вскрывая конверт ножом, сказал Лосой. – Большие ученые, заслуженные, лауреаты разубедили. А мы сами, дорогой наш доктор, в этом деле ничего не петрим…
Устименко промолчал. И досадно ему сделалось, и неловко. Но настаивать в таких вопросах, как известно, не положено. И он перешел на другое, на то, что у него болело.
– Вот немцы-немцы, – сказал он, – а строителей всех вы у нас на стадион увели. Универмаг и стадион – ужели это самые наиглавнейшие нынче объекты после такой войнищи? Как очумели с этим стадионом, даже плакаты напечатали – все силы на него, и разное прочее.
– Так ведь интерес к спорту, – неуверенно перебил Лосой, – молодежь это любит и увлекается…
– Правильно, первое дело после войны в футбол кикаться, – со смешком сказал Устименко. – Нет, я ничего, я-то знаю, как вы на меня навалитесь за это высказывание, я не против, но ведь это самое «киканье», два – ноль в нашу пользу, и массовый спорт – вещи разные. Ну, да что…
Он поднялся, не договорив, но не выдержал:
– Неужели это доказывать нужно, что именно больница должна быть на самом первом месте? Ведь это же уму непостижимо, какие элементарные истины нуждаются в доказательствах! Универмаг, стадион, жилые дома…
– Тоже погодить могут?
Устименко чуть застопорил свое обличение.
– Говори, доктор, да не заговаривайся, – добродушно пожурил его Лосой. – И универмаг нужен, и стадион нужен, а вот что твое дело первое – докажи нам по статистике. Докажи по точной, по умной. Не ерепенься, после войны мы сами все нервные, тоже имели переживания, а вот на бюро выступи и расскажи. Мы-то ведь не медики, откуда нам все ваши проблемы знать? Вот водники же существуют, коечный фонд у них приличный, железнодорожники тоже уже эксплуатируют свою больницу, у тебя одно здание пущено. Докажи потребности. Не барствуй, с цифирью в руках докажи. Понял меня? Теперь – как твое хирургическое снабжают?
Покончив с почтой, которую он ухитрялся читать, разговаривая с Устименкой, Лосой сказал как бы невзначай:
– Жалобу твою вчера, доктор, читал – насчет того, что Богословскому еще жилье не выделили. Нелогично получается: на жилые дома, что-де строим, ругаешься, а тут обида. Как нам работать под твоим чутким руководством?
– Насчет снабжения неважно, – вывернулся Устименко, как бы перескочив через последний вопрос. – Мы же еще официально не открыты. А милостыньку мне просить – обрыдло.
– Я, бывает, тоже прошу. Не для себя – не стыдно. Кстати, насчет Богословского: слышно, зашибает порядком?
– Тоже сигналы Горбанюк?
– Чьи бы ни были, доктор, потакать не следует. Он же болен, нам это известно. Потеряешь раньше времени сильного работника – только и делов. Поговори с ним ненароком, не как начальник, а именно как выученик.
– Трудно…
– Что-то деликатен ты становишься не в меру, доктор. Жалостлив. А в молодые лета, я слышал, никого не щадил. Степанов про тебя говорил – железо. Где оно теперь – железо твое железное?
– Железо найдется, – угрюмо ответил Устименко. – Только без особой нужды незачем шуметь-лязгать. Вот тронут мне Богословского – не обрадуются, покажу зубы. Кстати, нужно ему паек выделить получше, он в нем больше, чем мы все, вместе взятые, нуждается.
– Да ведь кто нынче не нуждается? – светло и кротко вглядываясь в собеседника, спросил Лосой. – Такую войнищу выдержали…
И он усталым, приятным, доверительным тоном пояснил в подробностях, как ударила война и по самому Унчанску, и по Унчанской области.
– Это известно, – прервал было Устименко, но без успеха. Лосой продолжал свое повествование, все так же кротко глядя на Владимира Афанасьевича.
Этот взгляд Андрея Ивановича многие унчанские работники не без ехидства называли «пастушеским». Когда-то, в давно прошедшие времена, Андрюшка Лосой бегал подпаском, лихо пощелкивал длинным кнутом и, грешный человек, любил свое горькое детство вспоминать в кругу друзей. Получалось довольно жалостно. Этот же взгляд использовал Лосой и для служебной надобности, ежели готовился отказать просителю. Так и говорили хозяйственники: «И тебя, видать, друг, Лосой на свое пастушество купил, на пастушеский, кроткий взгляд».
– Да ты что нынче такой сердитый? – спросил вдруг Лосой. – Разве плохо мы для тебя стараемся?
– Плохо.
– Но ведь до революции в Унчанске было больничных коек…
– Так ведь и революция, Андрей Иванович, еще и затем делалась, чтобы больничные койки, и больницы, и вообще здравоохранение не к старому примеривать, а с иным совсем размахом создавать. Недалеко мы уедем, если по-твоему считать…
– После войны…
– Известь тут ни при чем. И кафель ни при чем.
– Не получены разнарядки даже…
– Не получены? – сорвался Владимир Афанасьевич. – А поторопить начальство нельзя? Или начальство само знает? А если вдруг да не знает? Забыло? Или не в ту папку мои вопли попали? Разве не случается? Не может такое быть? Осточертело, можешь ты это понять, Андрей Иванович? Ничего не успеваю, ни с чем не справляюсь, не главврач, а толкач, да еще и бестолковый. Шпунт обещали – где он? Леспромхоз не доставляет, ты сам мер никаких не принимаешь, бумаги наши у тебя не подписанные, штаты у меня не укомплектованные, развал полный и безнадежный…
– Обобщаешь, – с усмешкой сказал Лосой. – И мрачно обобщаешь. Ну, имеются некоторые нетипичные, нехарактерные трудности, неувязки – кто спорит? Но бодрее, товарищ доктор, дорогой мой Владимир Афанасьевич, надо смотреть вперед, веселее, перспективу видеть. Горизонт, что ли… Как в кино бывает. Смотришь кино, доктор? Наверное, мало смотришь, а жаль. Вот видел я одно кино – интересное, по твоей части. Про слепых. Приехал доктор в городишко. Наш Унчанск сравнительно с тем городишком – Москва. Маленький городишечка. И пошел открытия делать. Поверишь – ни одного слепого в округе не осталось. Так и чешет. И трогательно до чего – моя боевая подруга изревелась вся. Вот слепой человек, а вот – чик-чирик – и спрашивает: «Это что?» А ему: «Ворона»…
– Ты что, всерьез? – осведомился Устименко.
– Обязательно. Я воспитываться через посредство искусства очень люблю. И тебе советую. В войну, бывало, вернешься благополучно в расположение своего мотострелкового – там кино показывают. Прямо-таки не война, а заглядение, век бы воевал: и чистенько, и сытенько, и командир – голова, ну а фашисты – исключительно мертвые…
– Ладно, – сказал Устименко, – это все очень даже интересно, только вот как с лесопиломатериалами будет? Где обещанный шпунт?
Лосой смотрел мимо Устименки, мимо и выше. И глаза его светились тихим, ласковым, пастушеским светом. Вот для чего был весь разговор о послевоенных трудностях. Чтобы отказать, но «по-доброму», с полным сочувствием и с грустью.
– Или тоже разнарядки не получены? – спросил Владимир Афанасьевич. – Или леспромхоз не отгрузил? Я ведь все отговорки знаю, Андрей Иванович, но только, прежде чем к тебе идти, разведал боем подробные обстоятельства. И заявляю, несмотря на проведенную тобой беседу о послевоенных трудностях: самое первое и главное – больница. На нее никакие жалостные слова распространяться не могут. Ни универмаг, ни стадион, ни всякие там административные постройки…
– А ты, – попытался было перебить Лосой, и пастушеский свет в его глазах сменился свирепостью, – ты бы на моем месте посидел…
– Пиши, – не дал Устименко свернуть в сторону, – пиши. Андрей Иванович, вон моя папка лежит, слева. Пиши резолюцию, покуда не напишешь – не уйду…
– Да ты!.. – вновь перебил Лосой.
– Пиши, иначе не уйду.
– А ты мне не грозись!
– Пиши, Андрей Иванович, невозможно нам больше ждать…
Еще раз пустил Лосой в дело свой пастушеский взгляд, но уж совсем без толку – Устименко пододвинул ему папку, веером разложил нужные бумаги. Лосой зашевелил губами, подсчитывая в уме, взял ручку – писать.
– И не сокращай! – велел Устименко. – До тебя комиссия сокращала.
– А транспорт? Вывезешь ли? – безнадежно понадеялся Лосой. – У нас транспорта совсем нету.
– Не твоя, Андрей Иванович, забота…
Со злым блеском в глазах Лосой взялся подписывать. Устименко обильно вспотел – никак не верилось, что дело окончательно сделано. Потом проверил со всей внимательностью каждую резолюцию, потому что было известно: если Лосой пишет «отпустить обязательно», это значит – вполне могут и не отпустить. А если просто «отпустить» – отпустят без промедления.
– Смотришь, нет ли «обязательно»? – не без грусти сказал Лосой.
– Смотрю, – сознался Устименко.
– Пройденный этап, – вздохнул Андрей Иванович. – Теперь у меня другой имеется шифр. Глубоко засекреченный. Но тебе все сделано чисто. Иди доставай транспорт.
Внизу, в буфете, Устименко выпил клюквенного морса – большую кружку. Только тут продавали этот сладкий морс. Здешние служащие носили его домой в бидонах и стряпали из него кисель.
«Надо бы для больницы бочку взять, – подумал Устименко, – это же без всяких фондов!»
Настроение у него было бодренькое – наверное, Лосой развеселил своим кинофильмом, от которого его «боевая подруга изревелась вся». Всерьез он это или не всерьез?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































