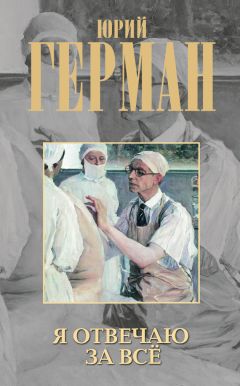Читать книгу "Я отвечаю за все"
– Так вы все-таки зайдите!
– Нет. Не зайду. Штаты – дело мое. Я уже со многими людьми списался, и они ко мне приедут, а не в ваш отдел кадров…
– Значит, вы настаиваете на том, что мы вовсе не нужны?
– Предполагаю, что не нужны. А если хотите знать мое мнение поточнее, то пожалуйста: весьма странно выглядит в нашей системе здравоохранения табличка «Вход воспрещен». Мало это привлекательно. Вот, допустим, если рентгенотерапия или лаборатория, еще понятно, а если ваше заведение…
– Заведение? – поразилась Горбанюк. – Вы можете так говорить? Но поймите же…
– Не хочу, – совсем рассердился Владимир Афанасьевич, – не хочу понимать и не понимаю, почему вы вдруг должны мне кого-то рекомендовать или не рекомендовать. Тогда сами и будьте главврачом, а вместо нашего брата посадите, что ли, смотрителей, как было в прошлом столетии. Какой же я главврач, если даже штат будет не мной подобран, а вами? Вот, например, Богословский, который ко мне едет…
– Ну и что – Богословский? – остро спросила Горбанюк. – Ведь он, насколько мне память не изменяет, другом был некоему отщепенцу Постникову. – Она перешла на шепоток: – Старожилам известно…
– В некоторой мере и я выученик Ивана Дмитриевича Постникова, – отнюдь не шепотом, а даже громче, чем следовало, резанул Устименко. – В той мере, в которой он уделял мне свое внимание. И слухам о нем я верить не желаю…
Тут Горбанюк даже чуть-чуть испугалась: вести такие разговоры ей еще не приходилось никогда.
– Ну уж это вы перегнули, – старательно улыбаясь, произнесла она, – разве могут быть такие ошибки?
– Все может быть, – буркнул он.
– И все-таки мы с вами встретимся, – сказала она, словно прощая ему весь разговор. – Встретимся и поболтаем. Может быть, и ваши соображения…
– А мои соображения простые, – весело сказал он. – Я давно про них толкую: использовать отдел кадров для медицинской статистики. Врачи вы все там, как правило, копеечные, ну а арифмометры крутить сможете. И народу у вас хватает, и ставок, а медицинская наша статистика в ужасном состоянии. И были бы вы не при больницах, а сами по себе, никто бы на вас не давил. Идея? А?
Горбанюк слегка поежилась и улыбаться перестала.
– При коммунизме, может, так и станется, – сказала она, – но пока рановато. Думаю, что вы это сами со временем осознаете и поймете ошибочность и даже вредность ваших взглядов. Впрочем, все-таки надеюсь, что мы повидаемся…
– Я упрямый! – сказал он. – И время рабочее жалею.
– Это можно понимать как объявление войны?
– Пугаете?
– Нет, – спокойно сказала она, – и даже не шучу. Порядок есть порядок. Вы обязаны явиться ко мне и вообще являться ко мне, когда я это буду считать нужным.
– Ну а я это все вовсе не считаю нужным, – ответил Устименко. – Так мы с вами и условимся. У вас свой порядок, а у меня свой.
– В нашей стране один порядок.
– Это с вашей точки зрения. А мне работать не мешайте, это я уже совсем серьезно вам говорю…
И, слегка кивнув Инне Матвеевне, как бы прощаясь с ней, он обернулся к главному терапевту Месьякову, который очень нервничал, слушая разговор Устименки с Горбанюк. У главного терапевта были какие-то свои желчные счеты с местным гомеопатом Внуковым, которого он желал засадить в тюрьму. У Владимира Афанасьевича засосало под ложечкой, и тут его выручил Золотухин и, посадив ужинать рядом с собой, быстро спросил:
– Ничего, что от супруги оторвал? Я бы побеседовать с вами хотел…
Гостей был полон стол: и обкомовские, и исполкомовские, и медицинские, и снабженческие. Еще не подняли первую рюмку, как адмирал заметил, что деда опять за столом нет.
– Что ж папаша-то? – спросил он у Ираиды.
Та, наклонившись над чисто выбритой, сильно загорелой, крепкой шеей адмирала, сказала негромко, что дед в последние годы малость одичал и за общий стол, да еще при гостях, выманить его нелегко. Адмирал сжал челюсти – Алевтина-Валентина припомнилась ему, – поднялся и непривычными еще коридорчиками в мгновение оказался на кухне. Как шилом, больно кольнуло ему в сердце зрелище этой одинокой, собачьей, неприкаянной старости: посасывает самокрутку среди грязной посуды, объедков, под равномерный стук подскакивающей на чайнике крышки, смотрит слепо в стенку старик Степанов – «корень всему степановскому роду», – почему?
Почти зло (он всегда злился, когда болела душа) адмирал рявкнул:
– Ты что, отец? Не знаешь, что гости тебя ждут?
Старик вздрогнул, обрадовался, поднимаясь, слегка поскользнулся калошами, в которые был обут, еще более обрадовался, заметив, что Павла слышит слова сына, заспешил:
– Да мне и здесь, Родион Мефодиевич, не дует, я и здесь вот дамой не обижен, для чего беспокойство?
Но все же и ботинки обул, и кителишко сменил, и бороденку расчесал, и эдак, заложив ладонь за борт кителя над средней пуговицей, слегка вскинув голову, – немного петухом, несколько более Бонапартом – вошел за сыном, который на пороге пропустил отца вперед, в шумную столовую, где никто не понимал, почему это не состоялся первый тост.
– Вот батя мой, – от двери, густым голосом представил Степанов. – Прошу любить и жаловать, Мефодий Елисеевич, здешней губернии старожил и землепашец. Многих войн солдат, не один раз ранен и контужен, специальность военная – артиллерист, вернее – род войск.
Дед еще задержал первую рюмку – пошел вокруг стола, суя всем руку и приговаривая с поклоном свое извечное:
– Стяпанов, Стяпанов, Стяпанов…
Протянул он руку и Владимиру Афанасьевичу, но вдруг оторопел, тонко воскликнул:
– Володечка! Приехал! Ай, ядрит твою…
– Ну-ну, батя, – посмеиваясь, прервал отца адмирал, – ты лучше молчком, а то словарь у тебя замусоренный…
Золотухин не без удовольствия поздоровался со стариком: ему все больше и больше нравилась эта часть семьи Евгения Родионовича, – и продолжил беседу с Устименкой:
– Так я слушаю вас, Владимир Афанасьевич.
Устименко помолчал. То, что он мог сказать, выслушав Золотухина, нелегко выговаривалось. Когда единственный сын – да еще такой, каким он, видимо, был, судя по словам отца, – болен этой болезнью в двадцать три года, – каково предсказание?
– Онкология – дело для меня далекое, – произнес он, не торопясь и глядя в настороженные, темные, глубокие глаза Золотухина. – Да и военно-полевая хирургия, сами понимаете, Зиновий Семенович, несколько отвлекла наши кадры от этой трудной проблемы. Но был у меня учитель, замечательный доктор, имя которого, кажется, здесь сейчас и произносить нельзя…
– Это кто же? – быстро и вдруг хмуро спросил Золотухин.
– Постников Иван Дмитриевич, – как ни в чем не бывало продолжал Устименко. – Меня уже даже сейчас успели предупредить, но я не верю и верить не хочу. Так вот, Иван Дмитриевич – замечательнейший онколог – такими словами незадолго до войны выразился: «Конечно, – сказал, – ухо, горло нос – это и гайморитики, и ангиночки, и аденоиды, и воспаление среднего уха, и даже чудеса с ликвидацией глухоты посредством удаления серной пробки, – совсем не обязательно онкология. Но я почему онкологию избрал? Потому, что насморк, например, лечат семь дней, но в семь дней насморк и без лечения излечивается. Так что можно считать, насморк практически неизлечим. Что же касается до раковой болезни, то статистика моя, – говорил Постников, – если и не оптимистическая, то обнадеживающая, и могу я заявить ответственно – раковая болезнь излечима…»
Золотухин молчал.
– Вы это о ком? – просунувшись между ним и Устименкой, поинтересовался Евгений Родионович.
– О Постникове, – отрезал Владимир Афанасьевич. – Помнишь нашего Постникова?
Евгений, разумеется, не помнил. И даже испуганно не помнил.
– Так, – наконец вздохнул Золотухин. – Но только в институте, где мой Сашка находится, нам ничего не говорят. Ни туда ни сюда. Я же сам совершенно среди книг запутался. Все читаю о раке, совсем голова кругом пошла.
– А вы бросьте! – посоветовал Устименко. – Вы вашего Александра сюда привезите из клиники. Ко мне днями замечательный доктор приедет, здешний старожил – Богословский Николай Евгеньевич. На него вполне можно положиться. Как себя ваш Саша субъективно чувствует?
– Да смеется! – воскликнул Золотухин. – Не верит! «Я, – говорит, – войну протопал, какой такой может быть канцер в моем возрасте?» Смеется и домой просится. Он же к экзаменам абсолютно готов…
Золотухин налил себе подряд две рюмки водки, выпил, не глядя на Устименку, и добавил:
– Старший, Николай, в сорок четвертом в авиации разбился. Так что он у нас один. Вы представляете – мать как?
– Привезите! – решительно сказал Устименко. И, нарочно встретившись глазами с Золотухиным, прибавил: – Скорее везите, не откладывайте! Медлить не следует. Но и считать, что все в полном порядке, тоже не советую. Понимаете?
– Понимаю, – с готовностью ответил Золотухин. – Понимаю. Сейчас, пожалуй, и позвоню жене, не откладывая. А? Отсюда позвоню…
Он выбрался из-за стола – здоровенный, широкоплечий, тяжелый, на его место пересел Родион Мефодиевич, спросил шепотом, напрягшись:
– Про тетку Аглаю – ничего?
– Ничего, абсолютно, – ответил Устименко.
– Как считаешь – погибла?
– Не могу себе этого представить.
– Нужно тут пошуровать, поискать следы. Может, кто что и знает?
– Евгений толкует – искал.
– Этот найдет, как же! – с раздражением буркнул адмирал. – Тут самим надо без передышки…
За столом уже так расшумелись, что трудно было разговаривать. Какой-то плосколицый, ослабевший от спиртного, стал шумно распространяться о своей ненависти к немецкому народу, было слышно, как возмущался он жизнью военнопленных в Унчанске и призывал не кормить немчуру. Степанов, вдруг побурев лицом, спросил:
– А вы в войну в Ташкенте были?
– Нет, в Новосибирске! – крикнул плосколицый.
– То-то оно и видно. Накопленная в вас ярость не реализована, – с неприязненной усмешкой произнес Родион Мефодиевич. – Согласны?
Женька вдруг вызвал Устименку в прихожую. Оказывается, он слышал телефонный разговор Золотухина с женой и пришел в бешенство.
– Ты просто сошел с ума? – спрашивал он Устименку. – Ты понимаешь, что это такое? Зачем нам эта ответственность? Единственный сын! Если они не оперируют, если их консилиум не решается, если…
– Женюра, товарищ Степанов, – холодно произнес Устименко, – не лезь не в свое дело. Ты ведь никогда не был врачом, ты попыхач при медицине и с нее кормишься…
Степанов заныл, как в давние, довоенные еще времена:
– Я на твои оскорбления…
– Помолчи. Оскорблять тебя никто не собирается. А лезть в грязных калошах к себе в лечебное дело я не позволю…
– Лечебное, – все ныл Женька, – а Постников тут при чем? Инну Матвеевну обидел, а она вдова крупного генерала, у нее огромные связи, чего ты ей наговорил? Заявила – с вашим Устименкой сработаться совершенно невозможно. Володечка, прошу тебя, не рассчитывай на то, что анархия мать порядка, у нас тут все аккуратно, не расшатывай нам устои…
– Буду расшатывать! – сказал Устименко.
– Перестань, Володечка, я не люблю даже шуток таких. Постников – сволочь, это всем известно, а ты берешь и Золотухина дезориентируешь…
– Золотухин не мальчик…
– Инне ты тоже про Постникова сказал?
– Ой, Женюра, отойди, – попросил Устименко, – а то подеремся. Я, как все инвалиды, психованный. Как затрясусь…
– Разве мы бы не могли сработаться? – печально спросил Евгений. – Я же не требую ничего особенного, просто прошу: хоть для виду, для чужих, ты должен со мной считаться. Я номенклатурный работник, я член облисполкома, ряда комиссий, меня уважают в городе, а ты поедешь на юморе и шуточках; Володя, прошу…
– Юмора не будет, – со вздохом ответил Устименко.
Степанов осведомился опасливо:
– Что же будет?
– Драка, как обычно, с тобой, вплоть до рукопашной. Пока тебя не снимут.
– Дурак! – возмутился и оскорбился Евгений. – Я же добрый и доброжелательный парень. За меня медработники – горой. И начальство мною довольно. Ты спроси Золотухина самого, Лосого, членов бюро. Ну, чего глядишь на меня, как упырь?
– Я, Женечка, домой пойду, – сказал Устименко, – устал нынче что-то, а ты Веру проводи, она еще посидит. Проводишь?
– Вопрос! – воскликнул Евгений. – Конечно, с удовольствием…
– Ну, будь! – козырнул Устименко.
«Нисколько не изменился, – скорбно поджав губки, подумал Евгений, – нисколько. Пожалуй, еще нетерпимее стал, теперь, наверное, совсем круто гайки завернет. И что это за несчастье мне, для чего я их всех сюда притащил, спросят с меня – пришьют, что он мне вроде родственника. А какой он, к черту, родственник? Аглая? Да не нужны мне все эти темные родства!»
Ему стало душно и жарко, он посчитал себе пульс, что действительно делал с большой ловкостью, потом распахнул дверь и постоял на осеннем ветру, на дождике, глубоко и сердито дыша. Нет, разумеется, нужно было воздействовать на здравое начало в семействе Владимира, на его супругу. Такие все понимают. Такие обязаны понимать!
И, сердито моргая под очками, полный серьезной решимости дружески и сердечно, но сурово побеседовать с Верой Николаевной, он вернулся к сладкому пирогу, к ликеру, к винам и красавице Вересовой.
Люба Габай
В эту же пору вечером, но не осенним, а, как тут говорилось, – «бархатного сезона», Люба Габай, сводная сестра Веры Николаевны Вересовой, шла по белому курортному городку, под тихо шелестящими пальмами, к товарищу Романюку, к которому она дважды писала и который, наконец, вызвал ее сегодня из больницы на двадцать один час телефонограммой.
Вечер был душно-влажный, от длинной поездки в кузове тряского, отработавшего свое за войну грузовика, Люба устала, ей хотелось вымыться и полежать, но она ничего этого себе не могла позволить, так как уже опаздывала, а беседа предстояла решающая, жизненно важная, окончательная.
«Я тебе покажу – по бытовой линии! – передразнивая в уме товарища Романюка и накаляя себя для предстоящего разговора, думала Люба. – Я тебе все нынче объясню, ты у меня пошутишь над моими бедами!»
Ей вдруг вспомнилось, как в последнюю встречу товарищ Романюк, умевший удивить собеседника неожиданной цитатой, сказал ей на ее сетования: «Что за глазищи – мрак и пламень, а сердце мое не камень!» И вспомнилось, как она не нашлась что ответить. Ничего, сегодня на все ответит!
Несмотря на то, что война кончилась так недавно, по выщербленным бомбами и снарядными осколками тротуарам толкалось уже много курортников в светлых брюках и курортниц в ярких платьях, духовой оркестр играл в курзале над морем медленный и значительный вальс, и было странно думать, что здесь лечились фашистские офицеры и чиновники, а на пляжах загорали немецкие девки – «шоколадницы», со скал же, нависших над городом, посвистывали пули партизанских автоматов.
«Ах, да о чем это я?» – рассердилась на свои мысли Люба Габай и показала паспорт заспанному вахтеру в вестибюле того особняка, в котором теперь размещались все руководящие учреждения районного центра. Пахнущий селедкой вахтер бдительно рассмотрел Любину фотографию, потом ее самое, потом еще раз фотографию.
– А обыскивать не будете? – зло осведомилась Люба.
– Поговори побольше! – пригрозил вахтер.
В лопнувшем зеркале на лестничной площадке Люба увидела себя и подивилась, как хороша, несмотря на все мытарства сегодняшнего дня: и глаза блестят, и ровным розовым загаром залиты щеки, и выгоревшие на солнце волосы отливают медью. «Не видел Саинян меня никогда такой, – вдруг печально подумала она. – Все те годы была замухрышкой. Или это мне злоба к лицу?»
В приемной по стенам плавали мерзейшие русалки, сделанные из цветной мозаики, так же как рыбы, глазастые ящеры и водоросли, среди которых протекала жизнь этих дебелых и хвостатых девиц.
И пишущая машинка стрекотала здесь, и посетители сидели под русалками и водорослями, ожидая приема, и местные работники сновали с деловым видом, с бумагами и папками – между стенами, изображающими подводное царство.
Товарищ Романюк, в сильно заношенном армейском кителе, с тремя рядами орденских планок, седой, плешивый, толстый и замученный, все-таки не без галантности поднялся навстречу Любе, пожал своей толстой, мясистой лапой ее руку и сказал угрюмо-угнетенным басом:
– Ну что мне с вами делать, товарищ Габай? Кто мне другого врача даст? Как людям объяснить?
Она молчала, глядя в его доброе, толстое, несчастное лицо суровым взглядом.
– Ну так, – обтирая шею платком и не зная, видимо, как подступиться к тому «вопросу», из-за которого была вызвана Габай, начал Романюк, – значит, так, моя раскрасавица. Пригласил я его, битых два часа мучился. Как вот вы – сидит, молчит. Сам собою бледный, глазищами ворочает и ни единого слова. Я ему заявляю: «Рахим, ты соображаешь, куда идешь, куда заворачиваешь?» Заявляю: «Ты мне участок оголяешь, работу губишь». Представляете, товарищ Габай, моргает. Зашел об эту пору Сергей Андреевич…
– Это кто такой – Сергей Андреевич? – ровным голосом осведомилась Люба.
– Как это кто? Товарищ Караваев!
Но Люба и Караваева не знала. Впрочем, об этом она промолчала.
– И Сергея Андреевича не послушался, – продолжал Романюк. – Нисколько даже не послушался. «Я, – говорит, – ее люблю, а вы, – говорит, – любовь понять не можете. Я, – говорит, – все равно свое семейство брошу, они мне поперек горла сидят со своими пережитками, они мне по психологии чужды. Я, – говорит, – в своих чувствах не волен, моя любовь сильней меня». Мы, конечно, с Сергеем Андреевичем рекомендовали ему в руки себя взять – куда там! У него, видите ли, сдерживающие центры отказали. Тут товарищ Караваев даже тон повысил: «Мы, – говорит, – тебе твои сдерживающие центры так восстановим, что ты себя не узнаешь…»
Романюк напился воды и сказал жалостно:
– Пренебрегите, товарищ Габай!
– Это как же? – осведомилась Люба.
– Пренебрегите обывательскими кривотолками – убедительно прошу.
– Не пренебрегу! – сказала Люба. – Я не могу работать там, где меня считают шлюхой, разбившей семью. Меня учили, что врач должен быть образцовым человеком…
– Да черт бы его задрал, разве мы тебя не знаем? – вспылив и перейдя на «ты», загремел Романюк. – Мы же знаем, что ты ни при чем! Мы в курсе вопроса. Но ради дела прошу, ведь поставила работу на «отлично», прошу по-товарищески: не бросай больничку. Убедительно прошу, и Сергей Андреевич просит…
От непривычных слов и неловкости товарищ Романюк опять обильно вспотел. Люба не ответила ему ни слова, глаза ее блестели недобрым светом. Да бедняга Романюк и не надеялся на ответ. Он только хотел, чтобы все это пронесло. И отпустить врача с участка он не мог, и оставлять ее тут насильно не следовало. Что спросишь потом с Рахима? Застрелит, и все.
– Вы все сказали? – спросила Люба.
Романюк молча развел руками.
– Мне эти оперные страсти вот здесь, – напряженно-спокойным голосом сказала Люба. – Понимаете, товарищ Романюк? Я не трусиха и не истеричка, но когда мне ежедневно пистолетом угрожают…
– Оружие огнестрельное он сдал, – торопливо перебил Романюк, – мы категорически вопрос поставили…
– Ножом станет угрожать, уже было, размахивал, – вдруг устав, сказала Люба, – но не в этом дело. Гадко все это, неужели вам не понятно? Нынче утром на рассвете явился, больных перебудил, сестру напугал. Я более месяца в своей комнате не ночую, живу бездомно – то у акушерки, то у фельдшерицы, то в ординаторской, даже в перевязочной спала. Бродит под окнами, зубами скрипит, спектакли свои всем показывает, стыдно же! Или рыдает на весь двор…
– Но я-то что могу сделать?
– Отпустите меня. Это ведь и не работа и не жизнь.
– Отпустить – не могу.
– Тогда я сама уеду.
– Сбежите? – печально спросил он. – А больные?
– Уеду, – упрямо и яростно произнесла она. – Уеду. Так невозможно.
– А мы не пустим!
– Без вашего разрешения уеду. Позорище на весь район. Вы совладать с вашим Рахимом не можете, а мне каково? Все мне твердят, что у него сильное чувство, а кто знает мои чувства? Ко мне сюда должен был приехать доктор Саинян, и я отменила. Ваш буйный идиот убил бы его, он меня предупредил – убью. Зачем мне это все? Более того, товарищ Романюк, если вы помните, то, приехав сюда, я вам писала насчет доктора Саиняна, но вы заявили, что тут режимная полоса…
– Как же – режимная, конечно, режимная, тут с прописками…
– Для психа Рахима – не режимная, а для великолепного доктора – режимная, – поднимаясь со стула, сказала Люба. – В общем, все ясно. Можете сообщить по начальству, что врач Габай дезертировала…
В ее злом голосе послышались слезы, но она справилась с собой и, стоя перед Романюком, добавила:
– Дезертировала, несмотря на созданные ей замечательные условия. Вы же всегда про бытовые условия говорите, а рахимы – это не быт. Это так! – Кивнув, Люба вышла.
На телефонной станции ей сказали, что Ереван можно получить либо сейчас, если удастся связаться, либо завтра с двенадцати пополудни.
– Сейчас! – розовея от счастья, сказала она. – Пожалуйста, милая девушка, сейчас.
Связаться удалось, но Вагаршака не было дома. Трубку взяла старуха, и пришлось говорить с ней.
– Здравствуйте, Ашхен Ованесовна, – сказала Люба. – Приветствую вас с берега Черного моря.
Опять ее повело на этот проклятый тон уверенной в себе и развязной пошлячки. Она всегда так разговаривала, когда чувствовала к себе иронически-враждебное отношение Бабы Яги. А старуха Оганян ненавидела ее из-за Веры. Хоть и в лицо-то не видела Любу, а терпеть не могла. Впрочем, Люба платила ей тем же.
– Как вы себя чувствуете, Ашхен Ованесовна?
– А вас это действительно интересует?
– Разумеется.
– Сейчас я вам все расскажу.
И Баба Яга из далекой Армении принялась подробно рассказывать про свое самочувствие. И про пульс, и про давление, и про беспокойный сон, и про головные боли…
– Вы меня слушаете, дорогая Любочка?
Ей даже послышалось, что старуха хихикнула басом. И про эту злыдню и ведьму Вагаршак говорит, что она чудо из чудес, а не старуха!
– Продолжать, Любочка?
– Вы, наверное, переедаете ваши острые национальные блюда, – отомстила Люба. – Вам нельзя есть ничего на вертеле…
Теперь замолчала старуха. Полезла за словом в карман. Надо же так ревновать несчастного Вагаршака!
– А что делает наш Саинян? – Она нарочно сказала «наш» и подчеркнула это слово.
– Мой Вагаршак? – спросила Баба Яга. – Мой? – Старуха все еще отыскивала, чем бы отомстить Любе, и наконец отыскала: – Может быть, даже ухаживает за девушками.
– Вряд ли! – крикнула Люба в трубку. – Он писал мне об атрезии пищевода у новорожденных, это его сейчас очень увлекает. Вы не знаете, ответил ему Долецкий из Ленинграда? Насчет раннего выявления порока? У них там оживленная переписка – с Баировым и Долецким…
Уж как заокала и заэкала Баба Яга! Она-то и не знает об атрезии.
– Он должен был получить от них данные Ледда и Левина, получил? – кричала Люба в трубку. – Его это очень занимало!
– Все получил, – после паузы ответила старуха, – все, что ему надо, он всегда получает. До свидания, дорогая, привет вам из Армении. Передам, если не забуду, – у меня совсем плохая голова, а ему много звонят…
– Не переедайте острого! – опять посоветовала Люба – эдакая богачка, которой ничего не стоило наболтать с Бабой Ягой на тридцать два рубля: разговор-«молния» с далекой Арменией стоил недешево.
И все эти трудные отношения – из-за Веры.
Ах, Вера, Вера, всегда уверенная в себе, всегда спокойная, красивая, в меру глупая, в меру хитрая, хорошо тебе, старшенькая! И отчего так по-разному складываются судьбы? Оттого, что у тебя был папа Вересов – положительный инженер-путеец, а у меня папа Габай – ветреная голова, рубаха-парень, лучший друг покойного Вересова, его «второе я», как любил он говорить, приводя домой Габая, женившегося потом на вдове товарища только от доброты душевной? И оба Николаи, так что маме и привыкать не понадобилось. Все было хорошо, даже сводные сестры жили, как родные, только совсем не походили друг на друга. Не походили ничем решительно, кроме как разве резкостью, причем Люба была куда опаснее Веры. Стоило Вере начать, как Люба «развивала» ее точку зрения, и от этого становилось даже страшновато. Если Вера утверждала некоторые житейские истины, то Люба доводила их до предела, до абсурда, до низменного и жестокого цинизма. Если Вера искала, где поглубже, то Люба обосновывала эти поиски сестры. Если Вера легким голосом объясняла, что иначе не проживешь, то Люба подробно обсуждала, почему именно не проживешь, и, исходя из этого, проповедовала как бы именем Веры, как надо жить. Мамаша Нина Леопольдовна от этих высказываний младшей багровела пятнами. Вера потягивалась и посмеивалась, знакомые удивлялись:
– Востра же девица!
– Пожалуй, умна Габай.
– Ум какой-то… Злонаблюдательный. При ней держи ухо востро.
– И точно копит про себя, копит в какой-то кошель.
– Такие в старых девах страшны.
– Ну уж эта не засидится.
– Ой ли? Больно непрощающая.
Люба действительно была из «непрощающих». На самомалейшие людские подлости и даже слабости у нее словно бы был особо наметан глаз. Мгновенно примечала она ханжей и лицемеров, видела их насквозь и для уличения не жалела ни времени, ни сил. Нельзя, конечно, сказать, что это облегчало ее жизнь, но так как была Люба на редкость хороша собой, хотя вовсе на себя не обращала внимания, а еще и потому, что унаследовала от папы Габая какое-то особое, легкомысленное бесстрашие перед тем, что именуется «сложностями жизни», – молодость ее протекала довольно-таки беззаботно, без заметных осложнений и трудностей. В пору эвакуации за ней энергично, а иногда даже грозно-наступательно ухаживали приезжающие в их город командиры – отпускники, военпреды и прочие. Она ела их еду, вкусную, обильную, – шпик, бекон в банках, аргентинские консервы, омлеты из порошка, тушенку, компоты, – ела и подготавливала «нашествие». После первого знакомства и прослушивания «боевых эпизодов» она приводила «в гости» товарищей и товарок по курсу – взбесившихся от недоедания медиков и медичек. Шеф, или военпред, или отпускник, поджидавший в оборудованном яствами номере свою «лебедушку», вначале, увидев ватагу студентов, впадал в оторопь, но погодя произносил внутренним голосом «пропадай все пропадом» и гулял с разбойничьим посвистом, вспоминая, как был тоже студентом или курсантом, и радуясь нравственному здоровью и чистоте той молодежи, о которой еще вчера был куда какого невысокого мнения. Загуляв с молодежью, он и себе казался лучше, хоть порою и бросал на Любу тоскливо-узывные взгляды.
Город был холодный, ветреный, с постоянно свистящими метелями. Тихий в мирное время, не избалованный ни артистами, ни художниками, ни профессурой, он вдруг волею войны оказался тем местом, куда направлялись люди, «эвакуированные как таланты».
Но и столичные таланты, не раз баловавшие Любу своим капризным и усталым вниманием, не производили на нее никакого впечатления. Со своим цепким и язвительным умом она сразу подмечала в них смешное и выспреннее, лицемерное и ханжеское, глупое и важное. Говорящему таланту необходим слушатель – Люба слушать и не умела, и не хотела. Крупнейший артист той поры, известный миллионам и по кинофильмам, и по театру, произнес Любе монолог якобы от себя, но она догадалась, что этот монолог лишь слегка перефразирован по сравнению с кинофильмом, и предложила знаменитости прочитать его на общеинститутском вечере. Артист надулся, однако же Люба съела его пирожки и еще дважды приводила к нему своих сокурсников для «подножного корма»…
Ни разу в те годы ни на секунду не влюбилась она ни в кого, хоть из-за нее многие надолго теряли голову, а один лихой лейтенантик – летчик-истребитель – чуть не угодил в дезертиры, опоздав в часть на трое суток. Со всеми она была дружна, хоть и насмешлива, всем была добрым и легким товарищем, хоть и не прощающим самомалейшей гадости, безропотно и даже весело умела переносить трудности войны, писала в стенгазету курса смешные стишки, училась сносно, хоть и не понимала толком, отчего пошла в медики, спала крепко на соломенном блинообразном тюфяке вплоть до того необычного дня, когда уже на пятом курсе, на заседании СНО – студенческого научного общества, которое она посещала потому, что многие туда ходили, услышала она семиминутный доклад своего сокурсника Вагаршака Саиняна.
Вагаршака она знала недавно, только с нынешнего учебного года. Ходили слухи, что он в самом начале войны с третьего курса был выпущен зауряд-врачом и работал хирургом, а потом что-то произошло, и он оказался у них на пятом, хоть по возрасту был совсем молодым человеком, мальчиком. Про этого длинного и тощего студента, часто засыпающего на лекциях знаменитого своей тупостью профессора Елкина, даже самые злые языки говаривали, что он гений.
«Гений» вел себя скромно и ничем не выделялся, а так как Люба предполагала, что эта порода людей должна непременно выделяться из всех прочих, то в гениальность Саиняна она совершенно не верила. Он даже не острил, как делали это другие студенты, а стоило с ним заговорить – и он не то чтобы краснел, а ярко багровел, так что становилось неловко продолжать разговор.
Известно было также, что студент Саинян совершенно не утруждает себя какой бы то ни было зубрежкой. Он просто никогда не занимался в том смысле, в каком это понятие бытовало среди студенчества. У него не было тетрадок, он решительно ничего не записывал и в дни, предшествующие экзаменационным сессиям, не ходил с опрокинутым лицом, как все прочие студенты. Ему достаточно было вполуха выслушать лекцию любого преподавателя, чтобы знать суть предмета. Впрочем, знал он, даже не слушая. А учебники и специальную литературу просматривал. Однажды Люба слышала, как он сказал:
– Интеллигентный человек обязан уметь быстро найти в книге то, что ему нужно. Мы не научены обращению с книгами. А в них есть все…
Подумал и поправился:
– Нет, не все. Но многое.
Все свое свободное время, а его у него было хоть отбавляй, Саинян проводил в прозекторской, а когда тупой Иван Иванович Елкин, возмутившись тем, что Вагаршак опять дремлет на его лекции, крикнул ему, что он не Пирогов, Саинян невозмутимо ответил:
– Да, к сожалению. Тем больше мы должны работать, как работал он.
– То есть? – фальцетом осведомился Елкин с кафедры.
– Работать в смысле – размышлять, думать…
– Еще успеете – размышлять и думать. Пока – учитесь.
– То, что водопровод и канализация нужны и полезны, мы знаем давно, – отнюдь не вызывающим, даже печальным голосом сказал Саинян. – Но мы знаем также, что можно научиться совсем не думать. Это опасно.
Что он этим хотел сказать, многие не поняли.
Не понял и Елкин. Но насторожился. Он всегда настораживался, если не понимал. А не понимал он часто.
– Что вы этим хотите сказать? – спросил Елкин.
– Только то, что медиком не станешь, выучив поваренную книгу. Я видел такую книгу – «подарок молодым хозяйкам». Впрочем, это длинный разговор…