Текст книги "Сойти с ума. Краткая история безумия"
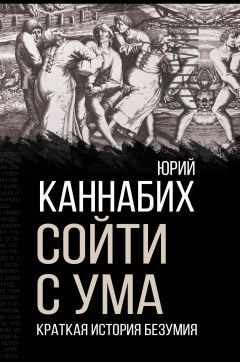
Автор книги: Юрий Каннабих
Жанр: Психотерапия и консультирование, Книги по психологии
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
XVII век
Принцип механистического мировоззрения
Декарт. Бэкон. Атомизм Гассенди. Гарвей и открытие кровообращения. Врачи-механики. Английский эмпиризм. Гоббс и Локк
Наука XVII века все дальше отходила от средневековой метафизики. Огромное расширение географического кругозора и быстрое развитие торговли пробуждало неодолимую жажду дальнейшего овладения предметами материального мира – этими источниками прибылей и наслаждения жизнью. Указанная тенденция получила свое выражение в идеологии Френсиса Бэкона (1561–1626), давшего логическую формулу для процесса, развившегося до него. Однако нельзя отрицать, что идеи Нового Органона все же наложили свою печать на всю последующую науку. От их чисто практического материализма оставалось сделать только один шаг к теоретическому обоснованию последнего. Этот шаг сделал француз Гассенди (1592–1655), напомнивший современникам о древнем атомизме в его наиболее совершенном выражении – философии Эпикура. С этих пор, хотя и медленно, но с неумолимой последовательностью, материалистическая теория, тесно слитая с принципами механистического мировоззрения, стала проникать во все области человеческого познания. В своем «Рассуждении о методе» Декарт писал, что необходимо создать «практическую философию, при помощи которой мы могли бы познать все окружающие нас перемены так же отчетливо и ясно, как мы познаем механические приемы ремесленников». В этих словах творца аналитической геометрии и основателя философского рационализма содержится требование объяснить всю вселенную как закономерную систему движений. Некоторые приемы ремесленников были уже довольно сложны в XVII веке, но зато недавно открытые законы природы оказались гораздо проще, чем можно было предполагать: падение тел, качание маятника, пути планет – все эти движения, как выяснилось, повинуются от начала веков довольно незамысловатым правилам. И осмелевшая человеческая мысль уверенно обратилась к изучению явлений жизни, уже готовая установить и здесь все «естественные причины» и простые комбинации чисел. Крупнейшим успехом в этой области было открытие кровообращения. Уильям Гарвей (1578–1658) навсегда изгнал воздух и «жизненных духов» из полости сердца и кровеносных сосудов. Вместо этих умозрительных выдумок ясно выступила вперед во всей ее стройности простая схема движения крови, строго доказанная при помощи двух-трех остроумно наложенных лигатур. Механика и гидравлика проникли в физиологию. Борелли (1608–1679) учит, что кости – это рычаги, приводимые в движение живыми веревками – мышцами; Паккиони (1664–1726) создает свою гипотезу нервной жидкости, совершающей такой же круговорот, какой делает кровь по артериям, а еще раньше тот же Декарт, в 1633 г., пытается приложить механику к научному познанию высших нервных функций. «Я анатомирую теперь головы разных животных, – пишет он своему другу Марсенну, – чтобы объяснить, в чем состоит воображение, память и проч.». Великому философу не удалось найти то, к чему он стремился, но во время этих занятий он набрел на схему рефлекса, которую и изложил со всей ясностью, свойственной его математическому уму. И тогда же Декарт набросал свои гениальные мысли о животных-машинах, представляющих собой простое скопление лишенных сознания механизированных рефлексов; он предуказал, таким образом, путь, на который вступили впоследствии Ламетри и Гольбах, сделавшие из картезианской физиологии тот вывод, на который в свое время не решился ее гениальный творец.
В то же время из практической Англии шла лишенная всяких примесей материалистическая струя. Томас Гоббс (1588–1679) осуждал Декарта за то, что в конечном счете французский философ еще признавал две субстанции, не сводимые одна к другой, – «вещь протяженную» и «вещь мыслящую». Разве вещь протяженная не может иметь, как одну из своих особенностей или свойств, мысль? Связующим звеном между телом и так называемым духом служит ощущение, эта основа всей психической жизни в ее наиболее сложных формах. Подобно тому, как в пространственном мире движутся и сочетаются между собой вещи и события, так движутся и сочетаются внутри нас ощущения этих вещей; в конечном итоге от таких душевных движений возникают понятия, образующиеся потому, что память не удерживает всех отдельных индивидуальных черт предметов, и потому, что человек изобрел слово, сделавшееся знаком для целого класса вещей. Мышление представляет собой как бы сложение и вычитание этих знаков, – оно является, таким образом, подведением итогов, счетом. Так положено было начало сенсуалистической психологии. Едва ли не главной ее чертой является строжайший детерминизм. Человеку только кажется, что он свободен, а в действительности все его поведение складывается из результата тончайших телесных движений, заложенных в глубине его индивидуальной организации. Во внутреннем мире есть своя механика, аналогичная механике притяжения и отталкивания вещей: удовольствие, любовь, желание – вот проявления притяжения, боль, отвращение, страх – вот проявления отталкивания. В этой механике желаний движущей силой является стремление к самосохранению, причем все так называемые моральные и альтруистические тенденции представляют собой лишь видоизменения эгоизма, вызванные разумом и привычкой. Младший современник Гоббса, Джон Локк (1634–1704), автор «Опыта о человеческом разумении», был самым ярким выразителем английского эмпиризма, оказавшим наибольшее влияние на французское просвещение середины XVIII века; его психологические воззрения легли в основу учения Кондильяка, в свою очередь явившегося учителем наиболее передовых врачей-психиатров в эпоху Великой революции. Коренные перемены в методике научного исследования, начиная с Бэкона и кончая Локком, придают всему XVII веку характер великого подготовительного периода для будущих достижений. Кульминационным пунктом этого периода был 1687 год, когда вышли из печати «Математические принципы натурфилософии» с кратким, но ясным эпиграфом: «гипотез я не измышляю» (hypotheses non fingo). Этими словами было заклеймено вековое злоупотребление произвольными теориями, создаваемыми ad hoc по каждому частному случаю; на их место Исаак Ньютон (1643–1727) поставил одну-единственную великую гипотезу, объединяющую весь ход космических и земных событий. Мир, в котором действует закон тяготения, живет сам по себе, и все перемены, происходящие в его отдельных системах, вытекают как необходимое следствие его закономерного устройства, замкнутого в нем самом. В течение XVII века эта идея абсолютного детерминизма окончательно укрепилась во всех науках о неорганическом веществе и отчасти в медицине, поскольку дело касалось явлений растительной жизни. Детерминизм психического функционирования, хотя и провозглашенный ассоциационной психологией, примыкавшей к Гоббсу и Локку, еще не получил научно-философской санкции. Эту задачу должны были взять на себя последующие два века: восемнадцатый – расчистить почву и заложить фундамент, девятнадцатый – построить здание.
Изучение психозов в XVII веке
Лепуа. Зеннерт. Гельмонт. Сильвий
Отличительной чертой психиатрии XVII века является обилие самостоятельных наблюдений. Хотя и несколько отставая от основных тенденций эпохи, наука о душевных болезнях постепенно отказывается от мистики и метафизики; вместе с этим она обнаруживает критическое отношение к древним источникам, авторитет которых уже не царствует так безраздельно, как раньше. Личный опыт ценится дороже, чем книжная мудрость, и сборники «наблюдений» современных врачей успешно конкурируют с классиками. Шарль Лепуа (1563–1633) перерабатывает все учение об истерии. Он наблюдал эту болезнь у мужчин, и этого достаточно, чтобы заставить его выступить против Галена. Решительно устраняя матку – эту традиционную виновницу судорожных припадков, которую Платон заставлял странствовать по всему телу женщины и доходить до самого горла, Лепуа указывает на нервную систему как на единственную причину расстройства. «Принимая во внимание, – говорит он, – что истерическое оцепенение охватывает все тело, необходимо признать здесь наличие поражения одних только нервов». Но главную роль играет здесь голова. И Лепуа высказывает мысли, замечательно верные по существу, несмотря на наивность его мозговой теории. При истерии, по его мнению, поражен в первую очередь «общий сенсорий» – sensorium commune, т. е. высшие психические функции, вся личность, как сказали бы мы теперь. Интересно отметить, что идея Лепуа была потом забыта и только через два века заново реставрирована как самостоятельное открытие. Самый припадок происходит от сжатия мозговых оболочек, отчего по всему телу распространяется напряженность и судороги. Когда человек очень сильно волнуется от страха или от радости, мозговые оболочки то сокращаются, то расправляются; вот почему истерические припадки часто присоединяются к душевным волнениям. Однако сжатие мозга иногда происходит и помимо таких душевных причин: тогда перед нами эпилепсия, болезнь, по своему механизму ничем не отличающаяся от истерии, за исключением того, что отсутствует первоначальный психический повод. Из клинических симптомов Лепуа отмечает кожную анестезию, немоту, слепоту, афонию. Среди его казуистического материала обращает на себя внимание случай молодой француженки Матурины, уже снаряженной для погребения, которое, несомненно, было бы совершено, если бы она вовремя не очнулась и как ни в чем не бывало, веселая, не попросила бы есть.
В этот век увлечения медицинской казуистикой, следуя принципу: все, что ты видел интересного, ты обязан описать в назидание другим, – Николай Тульпиус (которого потомство знает по знаменитой картине Рембрандта, где он изображен читающим лекцию по анатомии) представляет нам душевнобольную женщину, повторявшую непрерывно пять месяцев подряд одно и то же движение – ритмические удары по собственным коленям, и притом настолько жестокие, что приходилось подкладывать подушку. Автор думал, что он открыл совершенно новое заболевание, названное им malleatio, по сходству с движениями кузнеца. Гефер описывает зобатость, соединенную со слабоумием, у обитателей Штирских нагорий, которые, по его мнению, заболевают потому, что они ленивы и злоупотребляют жирной пищей. Так отовсюду идут научные сообщения.
Зеннерт (1572–1637), виттенбергский профессор и знаменитый химик, рассказывает про юношу, уверявшего, что он царь всего мира, но при этом предусмотрительно отказывавшегося от предложения управлять государством. Тот же автор рисует нам купца, со здравыми мыслями во всех других отношениях, за исключением того, что он считает себя разоренным. Зеннерт перечисляет следующие виды меланхолии: 1) от поражения мозга, 2) от безумной любви, 3) от болезни сердца и других органов, 4) от заболевания матки, переполненной кровью, 5) ипохондрическая меланхолия, 6) меланхолия с наклонностью к бродяжничеству вдали от людей, 7) меланхолия с атоничностью, когда больной словно прикреплен к месту все в одной и той же позе. Во всех этих случаях основная причина – химическая; «меланхолический сок» (если непременно нужно как-нибудь обозначить это вещество, отравляющее мозг человека). Но иногда причина совершенно иная – здесь Зеннерт выступает перед нами как сын своего времени, еще порою оглядывающийся назад на уплывающие видения средневековья: эта причина – демоны. Однако он уже не делает из этого тех выводов, которые способны были бы навлечь на него упреки со стороны последователей Вейера. Своих больных, и в том числе предполагаемых бесноватых, он лечил слабительными и каленым железом, лишь изредка призывая на помощь не слишком фанатичного духовника. Между прочим, он верил, что при некоторых формах мании люди говорят на иностранных языках, которых не знали раньше, а также выбрасывают из своих желудков камни, куски железа и другие предметы, которые никак не могли туда попасть без очевидного содействия дьявола. Такая отсталость у современника Бэкона легко объясняется тогдашним общим положением Германии: изнуренная религиозными распрями и тридцатилетней войной, обнищалая страна еще не могла смотреть на вещи так ясно и просто, как это делала богатеющая Англия, только что пережившая елизаветинскую эпоху и уже готовая к революции.
Если Зеннерт еще не освободился от пережитков чертовщины, то его голландский коллега по химическим изысканиям, ван Гельмонт (1577–1644), создатель учения о газах (ему принадлежит и самое слово «газ»), не уберегся от соблазна поспешных теоретических построений. Такова была особенность этого амбивалентного века, двуликого Януса, смотревшего и вперед и назад: разрешавшего одновременно ставить медицинские эксперименты по точным предписаниям индуктивного метода и вместе с тем придумывать различные «сущности», давно уже изгнанные из физики и химии. Гельмонт учил, что в основе каждого физиологического процесса лежит особое духовное начало, которое он называл археем. Душа человека, по его мнению, заболеть не может, заболевает всегда только архей, или anima sensitive. Если из этого метафизического тумана выделить основное ядро идеи Гельмонта, то перед нами окажется нечто очень простое и ясное: душевное заболевание происходит от различных нарушений растительных функций, т. е. является чем-то вторичным, находящимся в зависимости от материальных процессов во всем организме человека. Прогрессивная мысль была облечена Гельмонтом в явно реакционную форму. По его словам, ему приходилось самому наблюдать немало душевнобольных. Этиологическими моментами помешательства он считает сильные волнения, нарушающие равновесие архея, далее – все телесные заболевания и, разумеется (что и следовало ожидать от химика), отравление ядовитыми веществами. Сам Гельмонт однажды испытал кратковременное душевное расстройство: делая опыты с дигиталисом, он наглотался этого вещества, после чего у него вскоре появилась нелепая мысль – demens idea, – будто он не может думать головой и все умственные способности его опустились в желудок. Лечение психозов, по Гельмонту, должно состоять в неожиданном погружении больного в воду (причем не следует – из опасения, что больной утонет, – слишком рано вытаскивать его из воды!). Для иллюстрации он приводит пример некоего столяра в Антверпене, который бросился в озеро, после чего поправился.
Другим выдающимся представителем голландской медицины был лейденский профессор Франциск Делебо, более известный под именем Сильвия (1614–1672). Он выгодно отличается от Гельмонта почти полным отсутствием произвольно умозрительных построений. С большой симпатией относившийся ко всем механистическим объяснениям жизненных процессов, Сильвий сделал для распространения идей Гарвея то, что в твое время великий хирург Амбруаз Паре сделал для идей Везалия. Он говорил, что «кто не умеет лечить болезни ума, тот не врач», прибавляя о себе следующее: «Я имел случай видеть немало таких больных и многих вылечил, притом большей частью моральным воздействием и рассуждениями, а не посредством лекарств». Вот некоторые мысли Делебо: больные с идеями тщеславия и власти неизлечимы; ошибки суждения нередко исчезают во время какой-нибудь лихорадочной болезни, а потом возвращаются вновь; меланхолия часто бывает наследственной; слабоумие иногда следует за тяжкими телесными болезнями, и тогда оно с трудом поддается лечению. Эти отдельные искры правильных наблюдений рисуют нам Делебо как опытного практика и трезвого мыслителя; и действительно, Сильвий был крупным ученым, великим анатомом, одним из блестящих представителей лейденской школы врачей: ему принадлежит описание синусов твердой мозговой оболочки, боковых желудочков, четверохолмия и водопровода – aqueductus Sylvii.
Сиденгем. Уиллис
В эту эпоху в Англии жил и работал Сиденгем (1624–1689), британский Гиппократ, как его называли, признававший, в согласии с Лепуа, истерию у мужчин и давший настолько точное описание хореи, что имя его осталось навеки связанным с этой формой болезни. Непосредственного значения для психиатрии Сиденгем не имел, но его строго клинический метод и большая школа врачей, группировавшихся вокруг него, оказали сильное влияние на развитие медицинской мысли. Его современником был знаменитый Томас Уиллис (Вилизий, 1622–1678), в лице которого научная психиатрия вплотную подошла к одному великому открытию. В своей книге «О душе животных» Уиллис говорит о болезни, представляющей замечательные особенности. Вот его подлинные слова: «Я наблюдал многочисленные случаи, где сперва появляется общее недомогание, потом понижение умственных способностей, утрата памяти, после чего развивается слабоумие, которое заканчивается общим истощением и параличом (что обычно я даже предсказывал)». Быть может, Уиллис размышлял над названием для этих случаев, которые он наблюдал; вероятно, последнее, если бы оно было запечатлено им на бумаге, мало отличалось бы от придуманного через полтораста лет. Бейль, впервые описавший прогрессивный паралич, считал Уиллиса своим прямым предшественником.
Автор «Анатомии мозга» (1664), представлявшей для того времени наиболее полное и точное изложение предмета, Уиллис был убежденным сторонником теории мозговых локализаций. По соображениям, на которых он не останавливается подробно, Уиллис рассматривает corpus striatum ощущений; в белом веществе сосредоточены фантазия и память, а на мозолистом теле, – учит он, – отражаются, как на белой перегородке, идеи. Он разделяет взгляды Лепуа и Сиденгема на истерию. Совершенно свободный от всякой теологии и наивной метафизики, великий английский исследователь является одним из родоначальников неврологического направления в психиатрии: Мейнерт и Вернике, Альцгеймер и Бродман – все это прямые потомки знаменитого Вилизия, описавшего артериальную сеть на основании мозга, nervus accessorius и создавшего первую, хотя и фантастическую теорию локализации психических функций.
XVII век дал медицине первый опыт патолого-анатомической монографии, автором которой был Теофил Боне (1620–1689), уроженец Женевы. Его знаменитая в летописях науки книга послужила основанием, на котором впоследствии итальянец Морганьи воздвиг стройное здание своей патологической анатомии. Боне, видимо, очень интересовался психическими расстройствами. В 1684 г. он опубликовал сочинение Medicina septentrionalis, в котором собрана целая коллекция примеров душевных расстройств из личной практики и литературы. Автор говорит, что случаи бредовых идей богатства и власти приходится наблюдать все чаще и чаще. Он описывает ювелира, который в первую половину года здоров, а во вторую – считает себя царем; рассказывает о купце, уверявшем его, что он король Польши, император Московии, князь Литовский, имеющий 700 жен (350 законных и 350 наложниц) и, кроме того, владеющий всеми человеческими знаниями, превосходя, таким образом, всех ученых земного шара. Лечение душевных болезней сводится, по Боне, к тому, чтобы умелой диалектикой разрушать ложные представления; но это надо делать очень осторожно, чтобы не вызвать приступа злобы, который может перейти в манию. Врачи, применяющие грубые меры, сами должны считаться безумными. В качестве профилактики Боне проповедует самообладание и умеренность во всем. Нервному человеку он дает следующий совет: «не выписывай лекарств из каких-нибудь дальних стран и не обращайся к Эскулапу: в тебе самом содержится противоядие от всех зол, и никто не может быть для тебя лучшим врачом, чем ты сам». В четвертой книге своей Medicina septentrionalis Боне приводит случай чередования меланхолии и мании: зимой было подавленное настроение, летом возбужденное. Такого человека, – говорит автор, – можно было бы назвать «маниакально-меланхоличным».
Павел Заккиас и основание судебной психопатологии
Было еще несколько психиатрических вопросов, которыми интересовался XVII век. Людям всегда казалось, что можно найти какие-то особенно подходящие вразумительные слова или действия, способные уничтожить бредовую идею или разогнать страх. Закутус Лузитанус (1575–1642), португальский еврей, вынужденный бежать в Голландию, где он и обосновался, плодовитый компилятор и один из первых историков медицины, сообщает нам несколько примеров такого психического лечения. Больной мечтал об огне, чтобы вылечиться от смертельного холода, и вот Лузитанус зашил его в шубу, которую потом зажег; другой больной утверждал, что ему не избегнуть ада, и тогда подослали человека, наряженного ангелом, возвестившего ему полное отпущение грехов. Такие психиатрические анекдоты о тонкой изобретательности врачей и о больных, благополучно обманутых в их собственных интересах, постоянно встречаются в различные эпохи истории психиатрии, все в тех же немногих вариантах – безжизненные клише, механически переносимые из книги в книгу. Человек с широкими умственными интересами, Лузитанус интересуется, между прочим, старым вопросом о том, обязательно ли талантливые люди страдают меланхолией, как об этом говорил Аристотель. И он отвергает это чрезмерно широкое обобщение. Меланхолический сок вызывает в человеке тяжеловесную обстоятельность и неподвижное упорство. Великие люди вовсе не обладают названными чертами: у них острота мысли, быстрое схватывание сути вещей – характерные черты, указывающие на присутствие зеленой желчи, т. е. на холерический темперамент. Можно, однако, думать, что если зеленая и черная желчь находятся в гармоническом равновесии, лишь тогда в результате получится истинная мудрость, ибо мудрым мы называем того, кто легко и быстро схватывает, но судит обстоятельно и спокойно. Такими биохимическими формулами оперировал XVII век.
Еще один важный вопрос не был освещен в психиатрической литературе того времени, но и этот пробел был восполнен. Крайне заинтересованный в развитии медицинской науки, живший, по-видимому, ею и ради нее, Лузитанус однажды послал письмо в Италию, где просил одного римского врача обнародовать наконец драгоценные рукописи, хранящиеся у того в ящике. Это были существенные добавления к великому делу его жизни: основанию судебной психопатологии и психиатрической экспертизы. Местом рождения этой отрасли знания был Рим, творцом ее – Павел Заккиас. К нему и обратился из Голландии с почтительным посланием Лузитанус.
Автор замечательного сочинения – Questiones medico legales, – вышедшего в свет в 1624 г., Павел Заккиас (1584–1659) был семнадцатилетним юношей, когда закончилось XVI столетие; он мог быть очевидцем сожжения Джордано Бруно, если только его потянуло на Кампо-Фиори 19 февраля 1600 г. Одновременно и врач, и юрист, и художник, Заккиас был одним из тех разносторонних умов, каких было так много в эпоху Возрождения в Италии. Один из популярнейших людей в Риме, современник Микеланджело и Рафаэля, Заккиас был старшиной врачебной корпорации Вечного города, главным врачом больницы св. Духа, лейб-медиком нескольких пап. К его голосу, как авторитетнейшего эксперта, внимательно прислушивались те 12 членов судебного трибунала, которые делегировались в Рим от всей Италии, Франции, Испании и Германии. Интересны некоторые отдельные замечания, рассеянные на страницах «Судебно-медицинских вопросов». Если болезни, – говорит Заккиас, – отличаются одна от другой, то не менее отличается одна и та же болезнь у разных людей, так как на ее симптомы влияет темперамент больного. Он советовал тщательно наблюдать мимику, жесты больного, манеру держать себя; учил не жалеть времени на подробное изучение прошлой жизни больных. Наконец, он подчеркивает необходимость отдавать себе самый детальный отчет в соматическом состоянии больного, так как некоторые внутренние болезни вызывают несомненные отклонения в душевной деятельности. Заккиас предложил следующую классификацию психических расстройств:

Крайне интересны некоторые соображения Заккиаса об отличии мании от меланхолии. В этом вопросе, – говорит он, – до сих пор не было ясности: Гиппократ пользовался обоими терминами как попало, для обозначения одних и тех же расстройств; у Аретея, Целия Аврелиана и Павла Эгинского мания и меланхолия также сливаются между собой. Цицерон указал на то, что меланхолия и неистовство (furor) у римлян означали одно и то же; с другой стороны, неистовство равнозначно мании; две величины, порознь равные третьей, равны между собой, следовательно, меланхолия равна мании, и, действительно, древние авторы никакого различия между этими двумя терминами не проводят.
Нельзя не согласиться, что такая критика была вполне обоснована. Это было первое в истории психиатрии откровенное и прямое указание на полнейшую неясность старинных терминов и на крайнюю трудность их адекватного приложения к целому ряду живых конкретных случаев. В настоящее время мы знаем, отчего это было так. Но, очевидно, надо было обладать большим критическим умом (а может быть, умом, изощренным схоластическим воспитанием, которое не было лишено положительных достоинств), чтобы почувствовать недостаточную определенность в содержании этих двух исторически-основных обозначений в науке о душевных болезнях. Для самого Заккиаса обе болезни различны не только по симптомам, но и по причинам. Симптомы меланхолии – тоска и неподвижность, симптомы мании – ажитация и возбуждение. Таким образом, Заккиас в этом вопросе является убежденным дуалистом. И старинное наблюдение Аретея Каппадокийского, Целия Аврелиана, Павла Эгинского, что обе болезни могут переходить одна в другую, даже не подвергается с его стороны обсуждению.
Трибунал обращался к Заккиасу по самым различным поводам: можно ли посвятить в священники эпилептика, оправившегося от своей болезни? Можно ли считать ответственным за преступление маниакального больного, произносящего бессвязные речи? Действительно ли болен такой-то каноник и нет ли здесь симуляции? Надо ли признать ответственным человека, совершившего убийство в сонном состоянии? На некоторые из подобных вопросов Заккиас давал ответы, ничем не отличающиеся от судебно-психиатрических заключений позднейших времен. По его мнению, степень правоспособности и уголовной вменяемости эпилептика зависит от целого ряда моментов. Кроме тяжести, частоты и длительности припадков здесь играют существенную роль послеприпадочные состояния в виде оглушенности, отупения и потери памяти. Маньяк во время приступа возбуждения лишен всяких прав и ни за что не ответственен, но в промежутках между приступами ему разрешается составить завещание; он не может занимать общественных должностей, совершать богослужения и, уж во всяком случае, не подлежит посвящению в епископы. Маньяк не должен давать свидетельских показаний о событиях, случившихся во время его приступа, ему не следует разрешать вступать в брак, и болезнь его может служить законным поводом к разводу. Уголовное преступление может вменяться ему в вину, если оно было обдумано заранее в здоровом состоянии. Человек, совершивший преступление во сне, должен быть наказан, если, зная за собой подобные припадки, он не принял никаких мер, не спрятал оружие, а тем более если он остался ночевать в доме человека, к которому питает враждебное чувство, или у женщины, от которой он в состоянии бодрствования мечтал отделаться какой угодно ценой. Женщина в истерическом припадке, в противоположность эпилептичке, хотя и падает на землю полумертвая и не говорит ничего, однако ясно воспринимает слова окружающих и способна отвечать знаками. Так как здесь всегда имеется некоторая неясность восприятия, то женщины, страдающие истериками, должны быть приравнены с юридической точки зрения к мертвецам или отсутствующим, даже в том случае, когда они отвечают на вопросы кивком головы или иными движениями. Рассматривая страсти, гнев, страх и т. д., как кратковременные душевные расстройства, Заккиас считает преступления, совершенные в этих состояниях, заслуживающими более снисходительного приговора. Большой интерес представляют судебно-психиатрические воззрения Заккиаса на симуляцию и диссимуляцию. Он советует обращать особое внимание на объективные признаки, например на сон, расстройство которого так часто наблюдается при мании и меланхолии: длительную бессонницу нет возможности симулировать. Один из способов обнаружения симуляции – это пробудить у подозреваемого субъекта какое-нибудь сильное чувство; известно, как равнодушны настоящие меланхолики к реальным жизненным впечатлениям – симулянт в таких случаях не сумеет удержаться от радости или досады. При подозрении на искусственный припадок падучей полезно воспользоваться каким-нибудь порошком, вызывающим чихание. Но как раз эпилепсию чаще диссимулируют. В таком случае надо предложить испытуемому вдыхать дым оленьего рога или дать ему внутрь истертую в порошок сухую бычачью печень – эти субстанции считались тогда специфическими средствами для вызывания припадка.
Таковы основные идеи этого крупного римского врача, умершего семидесяти пяти лет, в 1659 г., накануне своего третьего избрания на должность старшины врачебного цеха, и похороненного в церкви Санта Мария Ин-Ватичелла. Questions medico legales были замечательным достижением XVII века. Не переведенные, к сожалению, ни на один из новейших языков, они послужили предметом обстоятельной монографии Шарля Валлона и Жениль-Перрена, извлекших из их второй части все, что относится к психиатрическому мировоззрению Заккиаса.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































