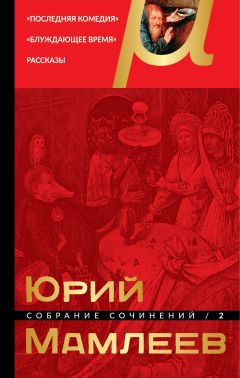
Автор книги: Юрий Мамлеев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Под конец Панарель взмолился. Отойдя от всех к реке, белой, словно слёзы, Он, прислонившись к дереву, возопил:
– Отче! Не о себе молю, а о том, чтобы Слово Божие пришло к ним. Пусть, если надо, оно оденется во все земные, глухие одежды: пусть это будет стон кошки, крик птицы, мычание коровы. Если через Меня недоступно им это, обрати Меня в змею, в барабанного идола, во что хочешь, лишь бы Оно пришло к ним во спасение их. Пусть они поверят ему в устах идиота или ребёнка, в устах женщины или ослицы, но пусть придёт!.. Святый Отче!
После молитвы мало кто видел Панареля. Часто Он оставался один. Изредка – в стороне – замечал людей, играющих в футбол или свистевших про себя. Какой-то голос шептал ему: «Если ты даже спасёшь их от ига материи и скотоумия, о их ада и от их небытия, то уверен ли ты в том, что высший мир в конечном итоге дарует им благо? Выдержат ли они там непосильную ношу? Не уничтожит ли их свет? Может быть, есть возможность для них здесь обособиться, храня лишь горстки света?»
Этот голос удивил Его: как будто кто-то упорно не желал понимать Его миссию. Но больше всего поразило его молчание Отца. Он всегда чувствовал: Я в Отце и Отец во Мне, и это «чувство» было больше, чем обычное горение духа в нём. Горение, которое всё-таки распаляло его тело, перенося в бездную, бессмертную реальность, с которой Земля с её хлопушками и взрывами была видна только как грязный и зловонный плевок. Это было пламя, благодаря которому Он мог сказать: «Радуйтесь, Я победил мир!» Но связь с Отцом была ещё беспредельней; в Отце он видел себя вынесенным в столь мощную, но далёкую от мира область, о которой бессмысленны всякие вопросы, но которая несла его в себе, как серебристую звёздочку. И в то же время была каким-то непостижимым образом в нём. Но теперь эта связь неожиданно и грозно порвалась. Он чувствовал в себе всё тот же дух и огонь, и свет вечности, но то самое запредельное вдруг померкло для него. Это было настолько неожиданным, что Он и не знал, что решить. Погрузившись в Себя, Он слушал вращение времени, шёпот духов, вздох Неизречённого, тайны стирающихся клише; видел мерцание ада и пересечение сил, игру знаков; но теперь Он был один. Почему?
Однако ничего не оставалось, как продолжать свою миссию. Надеясь, что связь восстановится, вспыхнет снова…
В миру продолжалось всё то же… Учеников не было… Но слава его росла… Однажды Укусов обомлел: он увидел Панареля стоящим на балконе второго этажа; балкон выходил в тесный проулок между высокими заборами. По этому проулку или, вернее, канаве шли толпы людей и приветствовали Панареля; некоторые плясали, но большинство очень резво пело лихую песню: «Он хороший парень, он хороший парень» и хлопало в ладоши; Панарель же, стоя на балконе, преобразился: он выглядел не то обезьяной, не то монстром, не то просто каменной глыбой. Дети махали ему ручками.
Укусов обернулся к проходившему мимо Грелолюбову и кивнул головой:
– Дальше идти уже некуда… Это последняя точка. Даже когда Он лакал из миски и оборачивался псом, было не то.
А на следующий день у Панареля появился двойник: откуда-то из помойки вылез человечек, точь-в-точь похожий на Панареля, в таких же жестах и одухотворённости, но как-то уже в иной интерпретации.
Первым делом он подскочил к двум здоровым, отолстевшим от одурения котам и, потрепав одного по белой мордочке, провизжал:
– Помните, что вы – боги!
И потом быстро скрылся за помойкой, подмигнув напоследок истинному Панарелю.
Иров прозвал этого двойника очень просто и коротко: Саша.
Иной раз этот Саша грозился кулаком из-за какого-нибудь прикрытия – самому Виталию.
Панарель неожиданно исчез.
В этот же день уставший от своих операций Иров наткнулся около забора на пятерых старичков, несущих кое-как холодильник. Про них с подобострастием говорили, что они уважают холодильник, как божество и отчитываются перед ним, стоя на четвереньках.
– Ну… Ну, – сказал Иров, когда старички остановились, чтоб передохнуть. – Вы считаете себя ниже холодильника и его – вечным!
– Конечно, – пугливо ответил один старичок. – Он нас переживет… А потом: по нему топором ударишь – и ему ничего, а по нам топором – и нас не будет… Разве нас с ним сравнишь!
И старички двинулись с места.
Старичков этих, поклоняющихся холодильнику, однако ж, скоро сурово одёрнули за ересь. Но Панареля никто из милиции и других местных властей не разыскивал: они его принимали за затейника и даже собирались наградить. Так что тюрьма ему не грозила.
4
Панарель снова, через несколько дней, появился у дома № 7, утром, как раз, когда там разыгралась известная сцена с котом Аврелием, и старичок Панченков, выглянув в окно, покричал: «Никак Мессия опять во дворе, Мессия!»
Этот крик равнодушным эхом отозвался в коридорах дома № 7: его обитатели никогда не ходили на проповеди и чудеса Панареля – точно чувствуя на себе – во сне – тяжёлый взгляд Виталия.
Лизонька – когда Сыроедов унёс кота – укатила к себе: плакать. Костя ушёл за пивом. Кажется, был выходной, и наступила своеобразная тишина.
Что творилось за окнами дома? В три часа дня раздался, однако ж, стук в квартирную дверь: то ломился Грелолюбов. Его по неестественности уважали в этом обществе. В хохотке, по тёмным уборным, рассказывали друг другу, что-де у Грелолюбова – ушастый член. Ушки-де рудиментарны и маленьки и находятся у основания члена, однако же перед соитием разбухают, и Грелолюбов помахивает ими, как слон, перед тем как броситься на женщину. Ещё говорили, что он может подслушивать этими ушами. Более тайные уверяли, что во время соития ушки уходят внутрь, словно бестелесные, и Грелолюбов ими там непрерывно махает, так что женщине кажется, что она летит на шабаш. «Люблю ушки евойные», – говорила обычно Екатерина Ивановна, которую Грелолюбов чаще других выделял.
На сей раз Грелолюбов был немного не в себе. Повертев головой, он посторонился и всё спрашивал про Лизонькиного кота Аврелия. Сыроедов, позабыв обо всём, тут же выскочил из какого-то угла со своими расспросами. У него была привычка криком обо всём расспрашивать, больше о непостижимом. Грелолюбов еле укрылся от него в закутке. Сам он был пьян и плохо держался на ногах, но внутренне был трезв, так как всё утро чувствовал своей задницей нацеленный на неё невидимый член. Перепутавшись в уме, Грелолюбов вилял задом, куда-то скрывал его, гладил, обливал одеколоном, но ничего не помогало. Из своей комнаты Екатерина Ивановна гулким, грудным голосом зазывала его.
– Не до тебя, не до тебя, Катька, – бормотал Грелолюбов, путаясь в тайнах своих последних снов.
Дикий крик застал его где-то у света. Неподалёку стоял Лепёхин и, повернув своё серое лицо к окну, в котором виделись смутные черты какого-то явления, мёртво орал – он всегда орал, когда видел что-нибудь вечное. «Опять, опять эти узоры», – бормотнул Грелолюбов. Землистость поглощала лицо Лепёхина, но из маленького, красно-сморщенного рта, всё время уменьшающегося, лился крик, точно вечность была непознаваема. Чей-то мелкий-мелкий хохот раздавался то там, то сям. Но как только появлялся Грелолюбов – все в страхе разбегались.
Вдруг Грелолюбова рвануло к Екатерине Ивановне. Она, распустив свои пышные руки, тянулась к нему, приподнимаясь с постели (дверь была полуоткрыта). Чёрным кустом мелькнул ничего не понимавший Николай. Грелолюбову же захотелось вылить себя в Екатерину Ивановну, может быть, тогда не так остро будет чувствоваться этот невидимый член, нацеленный ему в задницу. В ней – в заднице – он предощущал холод адского соития с потусторонним. Извиваясь спиной, как будто она превратилась в змею-искусителя, подмигивая затылком Невидимому, он с визгом бросился на Екатерину Ивановну. «Зад, зад утепли только… руками, руками!» – визжал он каждую минуту, словно чувствуя себя не только в Екатерине Ивановне, но и ощущая на себе – сверху, у зада – слепую волю холодного сладострастия.
Крик стоял во всём коридоре. Только одна Семёнкина драила на кухне свои кастрюли. Когда вопли стали затухать, из комнаты с измученным, воспалённым лицом вышла Лизонька. Аврелий мяукал где-то на чердаке. Дверь в квартиру была почему-то открыта, словно обозначая перелом, и какие-то типы то и дело мелькали на лестничной клетке, заигрывая со своей тенью.
Вдруг в дверях обозначилась фигура Панареля. Курчавое дитё бросилось от него в сторону. Усталый, с горящими глазами, Панарель тяжело шёл по коридору. Супруги Мамоновы юркнули перед его носом – в клозет. «Я умру, умру скоро!» – завыл в своей комнате старичок Панченков. «Скоро!» – точно отозвались все стены. Савелий, проснувшись, глотно урчал, глядя на Панареля и приглашая его выпить на двоих. «…а тому радуйтесь, что имена ваши написаны на небесах», – говорил Панарель, словно про себя. У какой-то лестницы, опять ведущей во двор, его остановил взъерошенный, астеничный, с бледным, точно лающим лицом, человек. Он уже давно преследовал Панареля, и фамилия его была Ферченко.
– Я хочу вас спросить! – закричал он. – Укусов… Укусов…
– Что Укусов?
– Укусов повадился, говорят, маленьких девочек пятилетних насиловать… Но ведь это же бонапартизм, – завизжал Ферченко, меняя свой голос на другой, нечеловеческий. – Да, да… бонапартизм… Потому что я могу насиловать только их куколки… Да, да, я брожу по детям, когда они играют у песка, краду их куколки и тотчас убегаю… Насилую рядом, где-нибудь в кино… Если не нравится, то несу обратно, девчонкам… Расколдуйте меня, освободите!
– Веруешь? – спросил Панарель.
– Расколдуйте!!
– И хочешь освободиться?
– Не хочу, не хочу! – вдруг заверещал Ферченко уже третьим голосом. – Я только завидую Укусову. Ведь бонапартизм: насиловать малолетних… А я только куколки! Да ещё за мной бегут!!! Не хочу, не хочу, не хочу!
Панарель молчал. Странные, сверхживые глаза его были в глубокой тоске и точно по стенам.
Откуда-то сверху послышался вопль Лизоньки и её мутное хихиканье, мигом она оказалась около Панареля. Снизу, из щели, выглянула голова Савелия.
Лиза с ненавистью взглянула на Панареля.
– Пошёл вон! – закричала она. – Опять пришёл в наш двор проповедовать?.. Люди, люди! – завыла она, обращаясь к голове Савелия. – Он хочет съесть моего кота!.. Да, да, он его выслеживает и скачет за ним по ночам по крышам!.. Чорт немазаный, на кого ты руку поднимаешь?!
Появился, как тень, Лепёхин. Панарель молчал.
– Помалкиваешь, – злобно взвилась Лизонька. – Я тебе покажу, Сын Божий! – подступилась она к нему, заглядывая в лицо. – Ишь… Мой кот – и Сын Божий, и Дух, и Отец, и возлюбленный мой во плоти… А ты – нечисть, водяной, оборотень, загогулинка! А ну, поцелуй меня, если любишь моего кота…
И Лизонька пристукнула ножкой.
Панарель был недвижим.
– Убирайся вон! – взвизгнула Лизонька, как-то неестественно подпрыгнув.
Сверху, с каких-то дыр и провалов, послышалось шмыганье Кости – он по обыкновению измерял логарифмической линейкой тело Лизонькиного кота. Голова Савелия погрузилась в сон: он умел спать стоя. Лепёхин изумлённо, как на несвойственную вечность, смотрел на Панареля. Его маленький рот совсем вобрался в себя, а большое, серое лицо было, как землистая луна, светившаяся своим мутным светом.
Панарель стал удаляться. Все трое – он, Лепёхин и Лизонька – оказались во дворе. На лестнице осталась одна сонная голова Савелия, торчавшая снизу. Ферченко же куда-то исчез.
– Я натравлю на него своего кота! – вопила Лизонька, распустив руки в воздух. Взгляд её стал тяжёл и упёрся в одну точку. – Да, да… Он будет лаять и гнать тебя со двора!
Панарель уходил в сторону. Из-за помойки высунулось личико его двойника и прокричало, обращаясь к Лизоньке:
– Дерзай, дщерь! Вера твоя тебя спасла!
Лепёхин сел на траву.
День окончился как-то сумрачно и непонятно.
Следующие дни потекли, как во сне в снах и в то же время реально, словно обнажилась бездна. Всё смешалось – и трупы, то есть обычные жители, и Панарель, и гностики, и обитатели дома № 7. Панарель совершал какие-то таинственные, может быть, не предусмотренные им самим обряды. Сонмы котов вились около его ног. Но молчание Отца становилось всё глубже, словно верхняя связь между ними теперь отсутствовала. Лизонька среди оргий (кот Аврелий казался сонным) бросалась на Панареля: «Кто Тебя послал – знаешь. А кто нас послал, таких мерзких? Ответь!» – и смотрела на него взлохмаченным, словно сквозь сетку, ненавидящим взором. Костя вдруг стал совсем сморщен: то ли его добило Лизонькино отношение к коту (он уже не мог с ней полноценно совокупляться, а только кричал, как кошка), то ли ещё что. Он стал более приземист, ручки сделались, как слабоумные крылышки, которыми он только махал, бездействуя, глаз же получился сосредоточен и словно оторван от его существа. Он начал почему-то голыми руками охотиться на голубей, и иногда ему удавалось поймать. Душить же не душил, а только поглаживал, сидя на корточках, и приговаривал: «Глазки у голубей мерзкие, как у ангелов; недаром они имеют к ним отношение».
Стоявший обычно рядом с ним Ферченко, вожделея, смотрел на голубей: ему казалось, что пуговичные, жестокие в своей вещественности и отчуждённости глаза голубей отражают отношение ангелов к человеку. От этого у него незримо, словно у богини, вставал член и ум мутился от желания изнасиловать голубя, особенно эти пуговичные стеклянные глазки. Это была бы победа над его слабостью к куколкам.
Не раз Костя приподнимался и махал издалека руками Панарелю: тот призрачно виднелся где-то за деревьями. Ферченко же весь дрожал: задница его подрагивала, глаз стремился к голубке, а из кармана торчала куколка.
Однажды разыгралась совсем уже безобразная сцена. Костя поймал голубку и, ужаснувшись через её глазки Подножию Ангельскому, возопил от радости, что ангелы не воплощены и им нет доступа в физический мир. «Вот уж воистину – бодучей корове Бог рога не даёт!» – кричал он. От счастия он предложил млеющую голубку на изнасилование Ферченко. Ферченко смущённо повёл ушками и даже раскраснелся от стыда. Но Костя был настроен по-доброму: бери. (Сам Ферченко почему-то не решался ловить голубей). Панарель виделся где-то далеко за заборами, как шагающая башня. Но из-за помойки уже вылезал, готовый на всё, его двойник Саша. Через некоторое время картина получилась несусветная и жуткая: Ферченко упал на колени, куколка выпала на траву, и сам он, накрыв голубку, являл собой престранно и вполне непристойное зрелище; а вокруг чуть ли не хороводом кружились какие-то люди. Некоторые падали. Дело в том, что Грелолюбов решил немного оживить трупы. Он так устал от бесконечного томления в заднице, от неги, от ожидания совокупления с незримым, что почти заболел: то есть решил пообщаться с людьми. Ничего, разумеется, не вышло. Только самые лучшие, и то под хмельком, положительно и с хохотом восприняли внешнюю сторону соития Ферченко с голубем. Их пришлось чуть ли не ткнуть носом в эту сцену, иначе они решили бы, что ничего нет. Пьяненькие, весёлые, одурманенные водкой, они подумали, что Грелолюбов нарочно подкупил Ферченко для их веселия. Как людовидные столбы, они подплясывали вокруг свернувшегося в клубок и раскрасневшегося Ферченко. Лепёхин, раздув рыло, серое, как туман, грозился на них кулачком, ни в чём не принимая участия. Вдруг из угла вышел вечно молчащий Николай с гитарой. Сел около Ферченко, у бревна, и запел. Грелолюбов изумлённо уставился на него. «Как-то идёт не так!» – остолбенело подумал он.
Но он был доволен. Вскоре выползла сама Низадова с миской каши: погреться на солнышке да посмотреть на умом ретивого Ферченко. Но больше смотрела в миску, которая ей казалась миловидным зеркальцем. Хохотал Костя. Где-то из щели появилась настороженная голова Савелия. Из-за помойки шелестел двойник Панареля Саша и приговаривал: «Не чтит, не чтит Панарель своего Папеньку… Папа велел всем во мраке жить…» С крысой в зубах перебегал дорогу почему-то встряхнувшийся кот Аврелий. Уже слышно было томное, изнебесное, но с провалами, пение Лизоньки.
Грелолюбов, распустив брюхо, словно командующий, бродил вокруг своего хаоса. «Люблю зло наше», – похрюкивал он, похрюкивал он, поглаживая себе живот и лоснясь от непознаваемого. Изредка он слегка подпрыгивал и делал плавное движение рукой около своей задницы, словно отгоняя нацеленный на неё член. При этом глазки его теплели от удовольствия во безумстве. Дрыгнувшись, осмотрел мир: шипение извивающегося Ферченко, столбовидных людей, мадам Низадову, чтящую самоё себя в миске с кашей, безмолвного Панареля вдалеке, Свершающего свои непонятные действа. С особенной неприязнью взглянув на Панареля, Грелолюбов ещё раз оглядел всё и вздохнул, обращаясь к своему Богу: «Обрати, Господи, их всех в тени, а оставь только меня».
Скоро как-то стало нехорошо, словно между разномирностью появились щели, и подул ветер. Ферченко, нелепо улыбаясь, встал на ноги, и голубка выпорхнула из-под его мокрых ног. Вдруг из-за подвалов, из-за заборов, просто из травы стали вылезать какие-то потные, разгорячённые люди. То были воскресённые. Шум стоял вокруг, точно пространство изменилось. Так просто и вместе с тем уже не отсюда. Среди воскресённых виделись всякие: Грелолюбов различал даже необычайных. Костя, покраснев, сжав кулачки, уже бросался на огромного рыжего дядю, вылезающего с упорным выражением глаз. Но вдруг откуда-то появился Виталий. Он взмахнул рукой, точно ударяя всех, и сказал:
– Предоставьте мёртвым оживлять своих мертвецов.
5
Одним летним, нечеловеческим в своей отрешённости утром Грелолюбов вышел на полупустынный двор дома № 7. В окне Кости и Лизоньки кто-то махал длинным платком. Поглядев на кота Аврелия, Грелолюбов, обнажившись, присел на столик: погреться и помечтать. Иногда одиноко махал ручкой, словно отгоняя от зада что-то невидимое, но в то же время антропоморфичное. Хохотал, глядя на солнце. Но личико было в тоске по неслыханной, трансцендентной мерзости. Тенью почувствовал где-то сбоку Виталия; тот шёл мимо, точно на чей-то зов из глубин потустороннего пространства. Только ушки невидимо морщились. (Майка сползла ему с плеч, обнажая неестественное в своём самодовлении тело).
Грелолюбову показалось, что Виталий совершил перед этим такую чудовищную мерзость, которую нельзя выразить даже на языке ангелов. «Как он огромен, как до дрожи огромен… там, на закате», – подумал Грелолюбов. Одинокая фигура Виталия виднелась где-то у черты, точно ничего рядом с ним не существовало. Не хватало ещё, чтобы он поднял руку, как бы приветствуя то, что должно появиться на горизонте.
– О зле, о зле нашем, – воздыхал между тем в уме Виталий. – О двуединстве молюсь: о Боге и Тьме… О том, что отрицает самого себя и открывает бездну… Об абсолютном отрицании молюсь: об отрицании Богом самого себя и об истечении этого отрицания к нам, к тварям… Полюбить хочу это зло до конца, ненасытно… Ибо в любви этой нет уничтожения зла и она абсурдна… Она есть разрыв, свет перед тьмой, который не разгоняет тьму, а, напротив, её сгущает; любовь эта есть светильник тьмы, и возгорание её и сладко, и коротко… Двуединый, пошли мне эту любовь, чтобы она повела мой разум во мрак… Дай мне светильник тьмы!
На этом закончил Виталий. И вдруг пошёл, пошёл не только по земле, но куда-то ещё, хотя по видимости просто шёл. «Скоро, скоро… увидимся», – махнул он рукой Грелолюбову.
Грелолюбов так и замер, оставшись. Его доброе лицо и толстая задница точно подёрнулись грустной дымкой.
Между тем вдали от дома № 7, там, где обрывался город и начиналась поляна, небольшой лес и овраг, бродил одинокий Панарель. Его мысли были об одном: об Отце и о великом разрыве с Ним. «Я в Отце, и Отец во Мне», – вспоминал он, и ему виделись огромный круг, незаходящее солнце и то, что Он и Тот, который за пределом мира сего – одно. Как бесконечно ему было быть ещё до сотворения в предмирном круге, в руках Того, Кто был Им. И пылать в сверхнебесном, солнечном море любви, идущим от Себя, который больше, к Себе, который рядом. И потом, здесь, на земле, хотя многое исчезло, этот жар не оставлял его: он чувствовал его в сиянии, исходящем от своего лица; чувствовал, когда смотрел в холодное, пустое небо; ибо Он был не только в Себе, но и ещё где-то далеко-далеко, перед миром, у самого исхода, и в то же время у Себя. Он любил себя в Отце и Отца в Себе. Но «Я и Отец – одно» и «Я люблю Отца» и «Отец возлюбил Меня», и это так торжествующе, так безмерно отрадно, так беспредельно, ибо Любящий и Любимый сливались в одно, и в сути это была Любовь Самого Себя, который больше, к Себе. Он был там и в то же время был здесь, и тот, который был там и который был беспределен, лелеял его в своих руках. Здесь, на земле, это была его личная религия, в отличие от той, которую он хотел оставить людям во спасение их. Их спасение было его главной задачей на земле; его же религия или, скорее, сверхвера, могла быть только для него. Да, да, Он любил Себя Собою, любил прежде основания мира такой бесконечной любовью, что сейчас ему казалось странным, каким образом Её можно было вынести… Но и здесь, на земле, до разрыва, эта сладчайшая радость единства с Отцом, то есть единства с Собою, была с ним!! Но ведь не для этого Он пришёл сюда, в мир, это с большим блеском существовало и в вечности, нет, он пришёл «спасти погибшее». И Отец, несмотря на всю свою любовь к нему, послал его в этот бездонный мрак, называемый миром, в окружающий подземный холод, где слышалось даже внебожественное пение!! Да, да, ради этой чаши он и пришёл. Но почему тогда вдруг всё переменилось, точно его Я, которое больше и которое был там, ушло от него, почему померк свет, что сдвинулось во вселенной?!! Всё шло, как было задумано, до того как померк свет. Но теперь всё переменилось. Уже нет учеников, а одни беззубые, хохочущие трупы. Уже нет знания оттуда, а есть только стон из бездны. Неужели Отец оставил его одного?.. Неужели здесь он не восполнил чего-то в Отце? Как он может быть разлучён – даже на время – с Тем, который «возлюбил Меня прежде основания мира»? Новая тайна угнетала его, и взор был обращён в Самого Себя; дул ветер, и несуществующие деревья покачивались, как призраки; и вместе с тем нужно было завершать свою миссию уже Одному, без Него. Мимо, не обращая внимания, проносились некие человечки, гоняясь друг за другом в каком-то странном, неестественном подскоке… Прошёл парень, дующий в трубу. Быстро юркнула чёрно-красная кошка.
Особенно потрясло Его изменение предначертаний. На Его глазах – на глазах у всех потрясённых ясновидцев – рухнуло астральное клише будущего. Уже не быть Ему преданным и распятым, не быть вознесённым на небо. Не восстать из мёртвых и не встретить Марию на дороге. Не стонать на кресте рядом с распятыми разбойниками. Некому будет сказать: дети. Но за всем этим разрушением уже виднелись новые черты… Взамен Голгофы и распятия и казни еле прозревал иная страшная картина… И темнело у Него в глазах, не потому что он не хотел идти до конца, а потому что не знал, что всё это значит. «Ибо Отец мой покинул Меня». Но нужно было совершить и выпить чашу до дна, несмотря на катастрофу в потустороннем. И Он решился не противиться новому, непонятному предначертанию, хотя перед глазами стояла всё более выявляющаяся в своей чёрной безысходности и вырванности картина, картина, имя которой было: Его будущее.
Медленно Панарель удалялся от этого запустелого места. Мелькнул человечек, убегающий от самого себя. А как же те, ради которых Он пришёл, малые сии посреди чёрного неба?.. Но их судьба была уже вне.
…Через несколько дней Иров решил поговорить с Ним. Его каменно-блуждающее лицо было воспалено от злобы.
– Я ненавижу тебя, – тихо сказал он, приблизившись к Господу.
Они были одни за пустынными домиками, у леса.
– Прежде, нежели пропоёт петух, полюбишь меня так, что не сможешь этого вынести, – ответил ему Господь.
И Иров ушёл к себе, во тьму.
Там, ворочаясь в самом себе, ночью, почувствовал он прилив нечеловеческой любви к Господу. Словно его существование раскололось надвое.
К утру он вышел в сад и встретил там Валерия… в светлом миру – Укусова.
– Ты скорбишь, потому что полюбил Его? – содрогнувшись, спросил у него Иров.
– Его невозможно не любить, – заплакал Валерий, как женщина. – Я не могу теперь целовать своих деток!! – закричал он высоким голосом, в истерике, поднимая лицо вверх, к небу. – Его образ стоит передо мной… Что-то уходит от меня… Я люблю Его, и этого я Ему никогда не прощу.
– Этого и я Ему не прощу, – медленно ответил Иров, и его неподвижное лицо с водянистыми глазами сдвинулось.
– Что же ты предлагаешь?
На следующий день Господь появился один на поляне, у реки, вдали от домов. «Сыну человеческому суждено быть съеденным, – думал Он. – Вот скоро солнце опустится за деревья, и там, на дороге, покажутся они… Отче! Избавь от часа сего, и для сего ли часа Я пришёл?!.. Но пусть будет воля неведомая!»
Там, на дороге, показались одинокие фигуры Ирова и Валерия. Как чёрные, потусторонние точки надвигались они. Когда спутники приблизились к Господу, Иров бросил на Него взгляд, прямо в глаза, и заплакал, потому что понял, что Господь знает всё. Знает, что суждено Ему здесь, на земле, и не хочет этому противиться.
– Что делаешь, делай скорее, – сказал им Господь.
Валерий пошёл в лес за сучками. Иров разгрёб яму. Когда всё было готово, Иров, зарыдав, ударил Его несколько раз ножом в грудь и руки. Господь стоял, прислонившись к дереву. Его мысли были о Небе и о Себе – там. Его миссия спасения была закончена, и завеса опустилась, но оставалась неразгаданной тайна: разрыв с Отцом, обозначивший чёрную перемену на земле; оставалась будущая жизнь в Нём. «Отец мой имеет жизнь в самом себе», но, может быть, и в самом чистом свете заключена тайная трагедия, недоступная всему воплощённому??..
Когда Иров, словно в забытьи, наносил свои последние удары, глаза Господа были уже закрыты для мира: Он в духе посылал только предсмертные лобызания Себе, Небесному, столь внезапно отдалившемуся от Него, и видел бездонный свет, в котором были глубина и тайна, столь далёкие от всего живущего… Последнее Его слово было: «Свершилось…»
Иров и Валерий, мокрые от слёз, поедали тело Господа, отрезая от него кусочки и поджаривая их на костре. Земля была пуста и мертва.









































