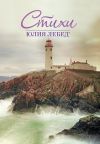Текст книги "Лирика: поэтика и типология композиции"
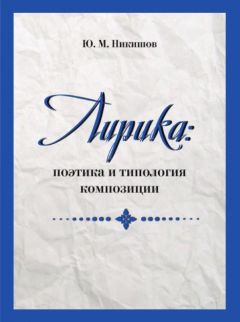
Автор книги: Юрий Никишов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
К слову сказать, довольно устойчивую композиционную структуру мы наблюдаем в элегиях старшего современника Пушкина – Жуковского. Обычно они трехчленны по построению: начинаются эмоциональным пейзажем (угасающий день), продолжаются пейзажем-обстановкой (кладбище, могила) и венчаются монологом певца. Ясно, что кульминация приходится именно на прямую речь певца, которая основательно готовится. Действует принцип ассоциации по смежности; элегию пронизывает единое настроение, которое лишь нагнетается. Уже меркнущие краски заката воспроизводят картину умирающего дня; кладбище – та обстановка, где мысли о неизбежной смерти ассоциативно посещают любого человека, независимо от его возраста и состояния здоровья; именно мысль о бренности земного существования, скоротечности жизни составляет основу авторского переживания. Одна часть элегии сменяет другую почти с автоматической необходимостью.
В пушкинской элегии тоже действует принцип ассоциативности, только не ассоциации по смежности, а ассоциации по контрасту. Мысль о неизбежной смерти преследует поэта в обстановке, прямо противоположной содержанию мысли. На это обратил внимание Л. С. Выготский в книге «Психология искусства». Шумные улицы, компания юношей, могучий дуб (символ если не бессмертия, то долголетия), младенец – все эти проходящие через сознание поэта предметы по прямой ассоциативности должны были бы возбуждать иное, оптимистическое настроение. Единственный более многозначный предмет в этом ряду – храм; но в храме не только отпевали усопших, но и благословляли браки во имя продолжения жизни, служили молебны не только за упокой, но и во здравие. Эпитет «многолюдный» заставляет и храм воспринимать в одном ряду с «жизнеутверждающими» деталями. Следовательно, в каждом случае мысль о близости смерти возникает не в связи с окружающей обстановкой, а вопреки ей. Но именно потому, что мысль возникает неожиданная, становясь тем не менее неотвязной, неотступной, она и варьируется в начальной половине стихотворения неоднократно; настойчивость повторения передает силу переживаний поэта, а с другой стороны, именно своей последовательной постепенностью производит необходимую работу по организации восприятия читателя. Высказанная мельком, неочевидная для читателя мысль могла бы пройти вскользь, не затрагивая в должной мере его сознания. Вот почему Пушкин не гонится за самоцельным лаконизмом, не чурается повторений.
Относительная «неэкономность» пушкинской элегии не воспринимается потому, что части ее гармонически уравновешены, вторая ее половина развертывается по принципу обратной симметрии по отношению к первой.
Очередная пара строф содержит новую «информацию», образует новый этап в развитии основной, опорной мысли. Если вначале эта мысль носила универсальный, общефилософский характер («Мы все…»), теперь переживание переключается в индивидуально-личностный план.
День каждый, каждую годину
Привык я думой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараясь угадать.
И где мне смерть пошлет судьбина?
В бою ли, в странствии, в волнах?
Или соседняя долина
Мой примет охладелый прах?
Обратная симметрия строф, открывающая вторую половину стихотворения, в отношении к двум начальным состоит в том, что теперь «информационной» стала первая строфа, вторая же конкретизирует, детализирует ее содержание, первая представляет собой образ-рассуждение, вторая – картину.
Переход от первой половины элегии ко второй отмечен резким ритмическим «сбоем», включением спондея, двухударной двусложной стопы («дéнь кáждый…»
В содержательном отношении пятая и шестая строфы развивают, усиливают парадокс, который обозначился уже в начальных строфах элегии. Таким парадоксом можно считать нестандартное переживание поэта, который в самой гуще жизни поглощен мыслью о неотвратимости смерти. Л. С. Выготский писал: «Стихотворение построено на соединении двух крайних противоположностей – жизни и смерти; в каждой строфе это противоречие раскрывается перед нами, затем оно переходит к тому, что бесконечно преломляет в одну и другую сторону эти две мысли»[8]8
Выготский Л. С. Психология искусства. М., 1968. С. 281.
[Закрыть]. Это глубоко верное наблюдение; сам механизм переходов пушкинских настроений подтверждает его.
Мысль о неотвратимости смерти в элегии настолько навязчива, что живой человек в сущности отрешен от земных забот, погружен в созерцание предстоящей собственной смерти; продолжая жить, он мысленно, в сознании своем уже переступает незримую, но существующую черту, разделяющую жизнь и смерть. Ведь именно таким – помертвевшим – взглядом увиден и дуб уединенный, и милый младенец, и даже собственный охладелый прах.
Но этот сильный парадокс все-таки уравновешивается, и опрокидывается, и перекрывается сильнейшим парадоксом концовки:
И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне всё б хотелось почивать.
И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.
Герой стихотворения – живя – эмоционально не живет, парализованный сознанием неизбежной и даже близкой смерти. Но происходит новое чудо. Охладелый прах, бесчувственное тело, как оказывается, не лишены ни тепла, ни чувств, испытывая желания. Происходит невероятное, неожиданное возвращение из-за роковой черты небытия снова в жизнь. Удивительные превращения!
Парадокс предполагает игру резкими, неожиданными переходами. Они есть и в пушкинской элегии – уже в столь свободном снятии границ между полярными понятиями жизни и смерти. Однако опять-таки Л. С. Выготский заметил: «…Последняя катастрофическая строфа дает не противоположение всему целому, а катарсис этих двух противоположных идей… Таких острых противоречий и соединений этих двух тем у Пушкина мы найдем довольно много» (с. 281). Да, в самом стремлении поэта не столько противопоставить антонимы, сколько сблизить их, объединить каким-то фантастически единым переживанием заключен источник светлой гармонии, которая и примиряет крайности.
При чрезвычайно крутом повороте настроения концовка строится на весьма родственном началу лексическом материале и его поэтической обработке. Повторяется эпитет (младенец милый – милый предел), перифраз (под вечны своды – у гробового входа), ассонанс (только теперь броскому начальному ассонансу на «у» соответствует более тонкий, различаемый лишь чутким ухом; первым Юрий Олеша услышал отголосок эха под сводами склепа в сочетании «у гробового входа»: здесь пятикратное «о» – дважды в ударном положении в сочетании с безударным, т. е. редуцированным «а»); повторяются целые образы (младенец милый – младая жизнь, патриарх лесов – равнодушная природа; в смене образов одинаков путь от конкретной детали к обобщению); повторяется характер построения образов (по сближению, сплетению образа-картины и образа-рассуждения итоговые строфы напоминают третью-четвертую строфы, завершающие первую половину элегии). И в контрастных по своему существу переживаниях преобладает то же самое стремление к гармонической уравновешенности и сбалансированности. Вот почему в начальном утверждении о неизбежности смерти начисто нет надрыва, нет ощущения трагической обреченности, нет пессимизма, а есть мужественное рассуждение сильного духом человека о всеобщем законе природы; Пушкин умел быть «покорным общему закону» («Вновь я посетил…»). С другой стороны, конечная здравица жизни не звучит торжественным тоном гимна, она по-своему сдержанна. «Вечная краса» холодна; в эпитете «равнодушная природа» нельзя не услышать хотя бы нотки критического ослабления приятия; и тут память возвращает к «патриарху лесов», чей жизненный срок вбирает сроки многих человеческих поколений; дуб равнодушен, а человек неравнодушен – и не в том ли причина относительной краткости человеческого бытия, что человек сгорает до срока, кровью и нервами, сочувствием и состраданием оплачивая только им из всех живущих от природы же полученный дар «мыслить и страдать».
Доктор Арендт, профессионально видевший множество смертей, был поражен предсмертным стоицизмом Пушкина. Но философское и нравственное кредо поэта и человека вырабатывалось не только в жизни, оно оттачивалось и определялось также в его стихах, исполненных благородства и достоинства, пробуждающих чувства добрые.
Кольцевая композиция
Кольцевой тип композиции продуктивен, популярен. Данная структура прозрачна и не требует развернутых пояснений. Внешняя выраженность кольцевой композиции (ср. с кольцевой рифмой в четверостишии) – возвращение в конце стихотворения к его началу. Стало быть, начало того стоит, содержит значимую мысль или эмоциональный тон.
Если типовая структура (возвращение концовки к началу) устойчива, то способ возврата к началу поэтами неистощимо варьируется. На этом и хочется сконцентрировать внимание.
Для начала приведу стихотворение Тютчева: оно точно соблюдает форму рассматриваемого типа композиции.
О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!
Давно ль, гордясь своей победой,
Ты говорил: она моя…
Год не прошел – спроси и сведай,
Что уцелело от нея?
Куда ланит девались розы,
Улыбка уст и блеск очей?
Все опалили, выжгли слезы
Горючей влагою своей.
Ты помнишь ли, при вашей встрече,
При первой встрече роковой,
Ее волшебный взор, и речи,
И смех младенчески-живой?
И что ж теперь? И где все это?
И долговечен ли был сон?
Увы, как северное лето,
Был мимолетным гостем он!
Судьбы ужасным приговором
Твоя любовь для ней была,
И незаслуженным позором
На жизнь ее она легла!
Жизнь отреченья, жизнь страданья!
В ее душевной глубине
Ей оставались вспоминанья…
Но изменили и оне.
И на земле ей дико стало,
Очарование ушло…
Толпа, нахлынув, в грязь втоптала
То, что в душе ее цвело.
И что ж от долгого мученья,
Как пепл, сберечь ей удалось?
Боль, злую боль ожесточенья,
Боль без отрады и без слез!
О, как убийственно мы любим!
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!
Стихотворение строго выдерживает форму кольцевой композиции, начинаясь и заканчиваясь буквально повторенной строфой. В пространстве между зачином и концовкой – развернутое описание неожиданно гибельного воздействия страстей. И получается так, что дословно дублируемый текст интонационно звучит всякий раз по-своему. Вначале сообщение, ошеломляя горечью, не кажется безусловным. Поясненное опытом, оно обретает категоричность приговора.
Констатационно вступительное четверостишие в стихотворении Сергея Есенина.
Не бродить, не мять в кустах багряных
Лебеды и не искать следа.
Со снопом волос твоих овсяных
Отоснилась ты мне навсегда.
Тут, как и в стихотворении Тютчева, ясно одно: произошла сердечная драма. Но у Тютчева далее передается нынешнее состояние того, что происходило год тому назад. Есенин идет другим путем, он погружается в воспоминания.
С алым соком ягоды на коже,
Нежная, красивая, была
На закат ты розовый похожа
И, как снег, лучиста и светла.
Все-таки и нынешнее состояние (печальное!) прорвется, но окажется исчерпанным всего лишь двумя строками:
Зерна глаз твоих осыпались, завяли,
Имя тонкое растаяло, как звук…
Далее вновь воспоминание:
Но остался в складках смятой шали
Запах меда от невинных рук.
В тихий час, когда заря на крыше,
Как котенок, моет лапкой рот,
Говор кроткий о тебе я слышу
Водяных поющих с ветром сот.
Пусть порой мне шепчет синий вечер,
Что была ты песня и мечта,
Все ж кто выдумал твой гибкий стан и плечи —
К светлой тайне приложил уста.
Тут (без изменений) возвращается закольцовывающая стихотворение строфа.
Не бродить, не мять в кустах багряных
Лебеды и не искать следа.
Со снопом волос твоих овсяных
Отоснилась ты мне навсегда.
И надо считаться с волей художника! Кольцевая строфа выступает жестким императивом, не признающим возражений. Между тем описание былого остается возвышенным, ничуть не предвещающим драмы. Но стихотворение и не может дать полную картину. Сам поэт вводит слово «тайна» с пояснением – «светлая». Категоричность кольца становится средством выражения непререкаемости авторской позиции.
Связка стихотворений Тютчева и Есенина дана для того, чтобы подчеркнуть: строй, тип композиции двух произведений одинаков, содержание переживаний резко индивидуальное.
Обратимся к стихотворению Пушкина «Зимний вечер».
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко постучит.
Наша ветхая лачужка
И печальна и темна.
Что же ты, моя старушка,
Приумолкла у окна?
Или бури завываньем
Ты, мой друг, утомлена,
Или дремлешь под жужжаньем
Своего веретена?
Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.
Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла.
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя.
Выпьем, добрая подружка,
Бедной юности моей,
Выпьем с горя: где же кружка?
Сердцу будет веселей.
Стихотворение Пушкина состоит из четырех строф: строфы представляют собой синтез двух четверостиший, они пронизаны единством интонации. 1-я строфа – описание шумов грустного зимнего вечера. 2-я строфа – вопросы к няне, приумолкнувшей у окна. 3-я строфа – продолжение разговора с няней: предложение выпить с горя и спеть песню. 4-я строфа, заключительная, дословно повторяет начальное четверостишие 1-й строфы и начальное четверостишие 3-й строфы, т. е. как бы синтезирует опорные фрагменты стихотворения; не прибавляя нового содержания, она подводит эмоционально-смысловой итог. Вместо обычного для кольцевой композиции возвращения именно к 1-й строфе заключительная строфа носит «сборный» характер.
Текстуальный повтор кольцевой композиции именно закругляет разговор: кольцо графически замыкает мир стихотворения. Отношения центра и очерченного вокруг него пространства бывают разнообразными и требуют индивидуального осмысления.
В «Зимнем вечере» пространство вокруг дома, где беседуют двое, оказывается необозримо широким: здесь живут звери и птицы, ходит за водой девица, бродит запоздалый путник, здесь вольготно гулять буре, здесь есть моря и жизнь за морями. Эта несоизмеримая беспредельность пространства, конечно же, контрастирует с замкнутым миром ветхой лачужки под обветшалой соломенной кровлей.
А в центре двое и, вроде бы, тоже в контрастном положении: старушка и молодой человек. Старость и юность многократно в стихах Пушкина представали как антитезы, но здесь контраст сглаживается: старость слаба, но и юность бедная; возникает не отталкивание, а притяжение. Союз двоих им необходим. Лачужка темна, но за окнами, где буря мглою небо кроет, еще темнее. За окнами холодно, крутятся снежные вихри, а здесь тепло – от камина ли, от сердечной ли теплоты (моя старушка, мой друг, добрая подружка).
Пушкин много писал о дружбе сверстников и единомышленников, уточняя попутно, какие интересы людей сближают; всякие представали, и глубинные, и поверхностные. Подобные критерии не отменяются, но конкретизируются. Беседуют поэт и поэтичная няня, кладезь народной мудрости: есть база духовной общности. Есть и побочные мотивы: «Выпьем с горя…» В другом стихотворении про вино сказано: «Минутное забвенье горьких мук» – нужна и такая минута, но деталь остается саднящей.
Печальна лачужка, печален элегический тон стихотворения. Перед лицом огромного и холодного мира тянутся друг к другу одинокие люди. Беззащитные, они ищут опоры и находят ее в сердечном общении.
Кольцевая композиция далеко не всегда требует буквального, текстуально точного возвращения к началу. Возможен вариационный мотив: он бывает не менее выразительным и сильным.
Известное блоковское стихотворение (цитируется ниже) в последней строке варьирует первую строку: перестановка предметов, создающая видимость каких-то перемен, как раз выявляет ничтожность этих перемен, что и доказывает жуткую неизменность мира, о чем и идет речь в стихотворении:
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Всё будет так. Исхода нет.
Умрешь – начнешь опять сначала,
И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.
Блоковское стихотворение – миниатюра: оно всего-
то состоит из двух строф. Кольцо в объеме строф здесь просто невозможно. Вначале весь объем кольца поместился в первую строку; двустишие продолжило перечень. В концовке одна деталь «кольцевого» перечня (односложное слово) ушла в другую строку описательного двустишия, нарушение ритмики предотвращено за счет перестановки деталей, что к тому же устраняет тавтологию рифмы (и даже позволяет женскую рифму заменить на мужскую). Аналогичность кольцевого текста закрепляется дублированием номинативных синтаксических конструкций.
Наблюдается неостановимое движение – но по кругу? Грустно. Тут описывается нечто, происходящее помимо воли человека. Но вот другие стихи того же поэта, где волевое начало выходит на первый план.
О, весна без конца и без краю —
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!
Принимаю тебя, неудача,
И удача, тебе мой привет!
В заколдованной области плача,
В тайне смеха – позорного нет!
Принимаю бессонные споры,
Утро в завесах темных окна,
Чтоб мои воспаленные взоры
Раздражала, пьянила весна!
Принимаю пустынные веси
И колодцы земных городов!
Осветленный простор поднебесий
И томления рабьих трудов!
И встречаю тебя у порога —
С буйным ветром в змеиных кудрях,
С неразгаданным именем бога
На холодных и сжатых губах…
Перед этой враждующей встречей
Никогда я не брошу щита…
Никогда не откроешь ты плечи…
Но над нами – хмельная мечта!
И смотрю, и вражду измеряю,
Ненавидя, кляня и любя:
За мученья, за гибель – я знаю —
Всё равно: принимаю тебя!
Эмоциональную атмосферу стихотворения нельзя определить иначе, нежели праздничная. Это при том, что буквально все отсылки сопровождаются своими антиподами. Каково делать выбор, «ненавидя, кляня и любя»? А выбор делается непререкаемо: «Всё равно: принимаю тебя!» Для такого предпочтения надобно обладать мужеством. А еще умением любить сильнее, чем ненавидеть.
Выделим еще удивительные стихотворения, где повторяется не просто фрагмент текста, но мысли поэтов совершают зигзаг и неожиданным и в то же время понятным путем возвращаются к своему началу.
Вот стихотворение Лермонтова «Сон».
В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана,
По капле кровь точилася моя.
Лежал один я на песке долины;
Уступы скал теснилися кругом,
И солнце жгло их желтые вершины
И жгло меня – но спал я мертвым сном.
И снился мне сияющий огнями
Вечерний пир в родимой стороне.
Меж юных жен, увенчанных цветами,
Шел разговор веселый обо мне.
Но в разговор веселый не вступая,
Сидела там задумчиво одна,
И в грустный сон душа ее младая
Бог знает чем была погружена;
И снилась ей долина Дагестана;
Знакомый труп лежал в долине той;
В его груди, дымясь, чернела рана,
И кровь лилась хладеющей струей.
Стихи успешно соединяют несоединимое!
…Есть только одна группа людей, которые – синхронно – могут видеть чужие сны: это эпические писатели (без особой разницы – и работающие в эпической манере поэты). Мотивировок, откуда берется это интимное знание, не дается: просто предполагается, что писатель о своих героях может знать (он и знает) всё, что хочет знать; эпик при этом ничуть не обязан обозначать свое присутствие, он может оставаться незримым.
Встречается и упрощенное решение проблемы, когда приснившийся сон рассказывает (не важно – устно или письменно) человек, которому этот сон и приснился; тут наружу выходит источник информации.
Начало лермонтовского стихотворения выявляет взгляд автора-рассказчика. Излагается состояние личного характера – и очень скоро выясняется, что автор-рассказчик (одно лицо, как подсказывает элементарная логика) не может вместиться в одно лицо. Человеку не дано превзойти то, что ограничено его физическими возможностями. Чувствовать свое состояние после глубокого ранения, ощущать жжение солнца человек может; «с натуры» и дается описание первых двух строф. Концовка фрагмента выходит из рамок возможного.
Рассказчику не дано ощущать, что он погружается в «мертвый сон». Мертвый сон – это состояние, равное (пока на время) смерти; смерть тоже можно назвать сном, только непременно без сновидений и пробуждения. В мертвом сне человек теряет сознание, не навсегда, на время обморочного состояния. На помощь рассказчику приходит автор, он всемогущ, он все может, он может поделиться с героем своей способностью видеть чужие сны, а тут еще – даже видеть такой сон героя, который физически не может видеть сам герой.
Дальнейшее повествование и представляет изложение сновидения. Первая картина воображаемого сна – вечерний пир в родных краях, а там – «разговор веселый обо мне». Особняком держится героиня. Она задумчива, но этого мало: «И в грустный сон душа ее младая / Бог знает чем была погружена…» Ее состояние тоже именуется сном – за неимением в ту пору более точного обозначения изображаемой ситуации. Это же особенный сон, сон наяву. Лермонтов прямо указывает, что явление выходит за пределы человеческих возможностей: ее душа куда-то «Бог знает чем была погружена». За прошедшие почти два века немало добавилось и к человеческому познанию. На современном языке явление могло бы именоваться телепатическим восприятием. Слово-то ныне появилось, хотя современная наука еще далека от разгадки явления.
А Лермонтов дает изящный вариант кольцевой композиции. Картина первой строфы воспроизводится не буквально (все-таки глазами разных лиц! ), но и с высочайшей степенью точности: «в долине Дагестана» – «долина Дагестана»; «лежал недвижим я» – «знакомый труп лежал…»; «дымилась рана» – «дымясь, чернела рана»; кровь точилась «по капле» – лилась «хладеющей струей». Прямое впечатление, что автор успешно выполнил функцию ретранслятора телепатической передачи между героем и героиней.
Фактически никаких внешних аналогий с элегией Лермонтова не имеет стихотворение Тютчева, которое сейчас приведем. Соотносится способ возвращения в конце к началу.
Из края в край, из града в град
Судьба, как вихрь, людей метет,
И рад ли ты, или не рад,
Что нужды ей?.. Вперед, вперед!
Знакомый звук нам ветр принес:
Любви последнее прости…
За нами много, много слез,
Туман, безвестность впереди!..
«О, оглянися, о, постой,
Куда бежать, зачем бежать?..
Любовь осталась за тобой,
Где ж в мире лучшего сыскать?
Любовь осталась за тобой
В слезах, с отчаяньем в груди…
О, сжалься над своей тоской,
Свое блаженство пощади!
Блаженство стольких, стольких дней
Себе на память приведи…
Все милое душе твоей
Ты покидаешь на пути!..»
Не время выкликать теней:
И так уж этот мрачен час.
Усопших образ тем страшней,
Чем в жизни был милей для нас.
Из края в край, из града в град
Могучий вихрь людей метет,
И рад ли ты, или не рад,
Не спросит он… Вперед, вперед!
Элегия строится как философский диспут поэта с самим собой. Основной тезис спора выносится в первую строфу. Фиксируется явление, которое – как факт – не отменимо, зато помечается контраст эмоционального отношения к нему. Какой вариант предпочтительнее?
Один из возможных ответов развернут широко, даже прямой речью. Чьи это слова? Надо полагать, это внутренний голос поэта; тут много личного, интимного. Вспоминается блаженство любви. Но беда: возлюбленная покинула этот мир. Альтернатива, что предпочесть, уточняется: жить воспоминаниями – или вперед! И получается: то, что уготовано судьбой, санкционировано размышлением, кольцевое возвращение начальной строфы не формально, теперь оно предстает как осознанный выбор.
В заключительном положении строфа сохраняет основу текста, но получает чувствительные изменения. Устраняется философски значительное понятие «судьба»: теперь «могучий вихрь» будто бы своей волей перемещает людей, не спрашивая на то их согласия. Сохраняется эмоциональная альтернатива («рад ли ты или не рад»), и все-таки ощущается подвижка в сторону приятия совершающегося. Прошлым жить нельзя. Что ждет впереди – не ясно. И все же – вперед!
Типологически очень строго сохраняет подобную композиционную схему Блок в стихотворении, которое открывает первый том его лирики:
Пусть светит месяц – ночь темна.
Пусть жизнь приносит людям счастье, —
В моей душе любви весна
Не сменит бурного ненастья.
Ночь распростерлась надо мной
И отвечает мертвым взглядом
На тусклый взор души больной,
Облитой острым, сладким ядом.
И тщетно, страсти затая,
В холодной мгле передрассветной
Среди толпы блуждаю я
С одной лишь думою заветной:
Пусть светит месяц – ночь темна.
Пусть жизнь приносит людям счастье, —
В моей душе любви весна
Не сменит бурного ненастья.
Образная система здесь выбрана другая. Лермонтов наполняет элегию поэтическими деталями картинного ряда, Блок, как Тютчев, строит свою элегию целиком медитативно. При всем том контраст поэтических форм сглаживается, поскольку поэт активно мыслит метафорами.
Начальное и текстуально полностью совпадающее с ним итоговое четверостишия обнаруживают теснейшую связь со смежными строфами. Вначале ситуация просто констатируется, воспринимается порожденной некими условиями бытия; но эти условия объявляются настолько прочными, что меланхолическая ситуация не только не вызывает чувства протеста и желания борьбы с нею, но возвращается не механически, она становится «думою заветной».
Сама кольцевая композиция углубляется, по существу, перерастает в структуру обратной, или зеркальной, симметрии: как будто бы накатывается волна от первого ко второму четверостишию – и откатывается обратно от третьего к четвертому (равного первому). Замкнутость мира стихотворения здесь особенно остро ощущается.
Весьма значительное сходство композиционной схемы можно видеть в тематически резко отличающемся стихотворении Василия Казина «Рубанок».
Живей, рубанок, шибче шаркай,
Шушукай, пой за верстаком,
Чеши тесину сталью жаркой,
Стальным и жарким гребешком.
Ой, вейтесь, осыпайтесь на пол
Вы, кудри русые, с доски!
Ах, вас не мед ли где закапал:
Как вы душисты, как сладки!
О, помнишь ли, рубанок, с нами
Она прощалася, спеша,
Потряхивая кудрями
И пышно стружками шурша?
Тут поэтическая мысль движется по четко установленному пути: орудие труда – побочный продукт труда – по прямой ассоциации (кудрявые стружки – кудри подруги) дорогое сердцу воспоминание. И поэтическая мысль отправляется в движение обратным ходом: «заноза» сердца – благодарность подарившим ассоциацию стружкам – возврат к тому, с чего и началось.
Я в то мгновенье острой мукой
Глубоко сердце занозил
И после тихою разлукой
Тебя глубоко запылил.
И вот сегодня шум свиданья —
И ты, кудрявясь второпях,
Взвиваешь теплые воспоминанья
О тех возлюбленных кудрях.
Живей, рубанок, шибче шаркай,
Шушукай, пой за верстаком,
Чеши тесину сталью жаркой,
Стальным и жарким гребешком.
Кольцевую композицию здесь подкрепляет круговое движение поэтической мысли.
Хочу поддержать парадоксальную мысль стихотворения Николая Заболоцкого.
Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!
Гони ее от дома к дому,
Тащи с этапа на этап,
По пустырю, по бурелому,
Через сугроб, через ухаб!
Не разрешай ей спать в посели
При свете утренней звезды.
Держи лентяйку в черном теле
И не снимай с нее узды!
Коль дать ей вздумаешь поблажку,
Освобождая от работ,
Она последнюю рубашку
С тебя без жалости сорвет.
А ты хватай ее за плечи,
Учи и мучай дотемна,
Чтоб жить с тобой по-человечьи
Училась заново она.
Она рабыня и царица,
Она работница и дочь,
Она обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!
Не будем гадать, где в человеке размещается его душа; проявляет себя она в его мыслительной деятельности. А тут, как ни крути, и усталость неизбежна, и отдых (сон! ) необходим. Но тут полезно помнить, что мыслительная деятельность раздваивается. Есть управляемая волей человека: она осуществляется корой головного мозга. Есть и неуправляемая, совершаемая подкоркой. Подкорка для отдыха не отключается, работает, как сердце, безостановочно. Просыпаясь утром, я, была и есть такая возможность, не вскакиваю, а прежде прислушиваюсь к своим утренним мыслям: что там подкорка наработала, пока я спал? О нет, не всякий раз приходят дельные мысли, но иногда – и они приходят!
Так что решительный наказ поэта душе трудиться день и ночь я ничуть не считаю красным словцом!
Просятся в ряд еще несколько стихотворений, изящных по построению, своеобразных по связям дублирующегося и «срединного» текста.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?