Текст книги "Лирика: поэтика и типология композиции"
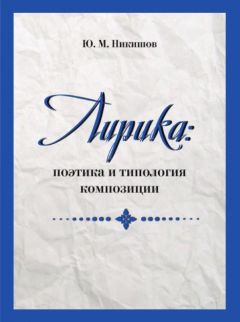
Автор книги: Юрий Никишов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц)
Умолчание как композиционный прием
Вначале приведу стихотворение Федора Тютчева.
О чем ты воешь, ветр ночной?
О чем так сетуешь безумно?..
Что значит странный голос твой,
То глухо жалобный, то шумно?
Понятным сердцу языком
Твердишь о непонятной муке —
И роешь и взрываешь в нем
Порой неистовые звуки!..
О, страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый!
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!
Из смертной рвется он груди,
Он с беспредельным жаждет слиться!..
О, бурь заснувших не буди —
Под ними хаос шевелится!..
Стихотворение пробелом делится пополам. Тут на выбор исследователя: видеть стихотворение состоящим из двух частей (но и в этом случае окажется, что части равны по объему и одинаковы по рифмовке) или из двух строф (по тем же признакам).
Содержательную статью об этом стихотворении написал И. В. Фоменко, умевший воспринимать обыденные факты нестандартно. К сожалению, исследователь не учел остережения пословицы насчет погони за двумя зайцами. В статье освещаются две проблемы: подходы к анализу стихотворения Тютчева и значения межстрочной паузы. Постановка второй проблемы носит новаторский характер: художественная весомость строфической паузы интуитивно ощущается, но функциональные возможности приема в широком диапазоне ранее не рассматривались. Теоретический уровень статьи И. В. Фоменко безупречен; в анализе стихотворения Тютчева есть натяжки, «встраивание» в концепцию.
Исследователь выделяет такие функции строфических пауз: пауза «маркирует параллелизм», «маркирует части», выступает «мгновеньем понимания» и «воплощением состояния» (в последнем случае и возникает понятие «семантика «пустого места»). В стихотворении Тютчева строфическая пауза, естественно, не охватывает всех этих значений, довольно того, что она маркирует части <sic! > и – что сомнительно – выступает мгновеньем понимания. В трактовке ученого, две строфы стихотворения зеркально отражают друг друга: «Первая: я не понимаю, о чем поет ветер, твердящий о непонятной муке. Вторая: я понимаю, о чем поет ветер: это вовсе не непонятная мука, а страшные песни про древний родимый хаос, это моя любимая повесть» (с 44). По Фоменко, переход от непонимания к пониманию происходит во время строфической паузы… Автор пытается снизить разницу между «понимаю» и «не понимаю»: «и то и другое мучительно и невыразимо страшно» (с. 46).
Какие поправки можно предложить к обозначенному истолкованию? Нужно снять контраст между двумя строфами. И. В. Фоменко честно отмечает невыгодное для его толкования обстоятельство, что в строфе «я не понимаю» и в строфе «я понимаю» глаголы одинаково идут в настоящем времени. На мой взгляд, тут нет ничего драматичного, более того, это норма: я – на данном этапе – что-то понимаю, а что-то не понимаю. Или так: в этом предмете я одно понимаю, а другое не понимаю. И у Тютчева: «Понятным сердцу языком / Твердишь о непонятной муке».
В первой строфе Тютчев понимает не меньше, чем во второй: ветер твердит нечто «понятным сердцу языком». Более того, из второй строфы становится ясно, что в вопросах поэта к ветру для поэта как человека нет никакой новизны; вопросы нужны как информация для читателя: песни ветра созвучны повести ночной души поэта, да еще повести любимой. Совершенно ясно, что повести в мгновения не создаются, они вырабатываются неторопливо и основательно (и это произошло раньше, чем написано данное стихотворение). Можно получить и представление о том, что вызывает «непонятную муку». Оценим масштаб вопросов, которые тревожат поэта: мир ночной души «с беспредельным жаждет слиться!..» Тут абсолютный разрыв между желанием и возможностью его осуществить. Это реально – слиться, да еще и уцелеть? Малому – с беспредельным? «Смертной груди» – с безвременным? Это все равно, что капле слиться с океаном. Океану-то что – он продолжит существование, из берегов не выйдет. Каково капле? Она же просто прекратит существование, а этого вряд ли хочется…
Статья И. В. Фоменко, толчком своим обязанная стихотворению Тютчева, охватывает, естественно, широкий материал и устремляется к пониманию явлений современности, особо сложных контактов искусства с действительностью: «Поэт может рассказать о том, что мучит, но как это мучительно – невербализуемо. Поэтому в стихотворении взаимодействуют два структурных принципа (или две доминанты? ). Один – логика вербального ряда. Словом показано то, что мучит “у бездны на краю”. А пауза заключает в себе то, что не может быть вербализовано: невыразимость муки, состояние, чувство…» (с. 46). Исследователь отмечает уже встречавшиеся «возможности семантизации “пустого места” (отсутствие слова в литературе, предмета в живописи, звука в музыке)», делая вывод: «адекватными тишине, молчанию, концу, непознаваемости мира в крайнем своем выражении оказываются отсутствие звука, слова, белая озаглавленная страница, черный квадрат. Такая пауза… сама есть дискурс, есть завершенное и законченное высказывание» (с. 47).
В паузе между строфами (прав И. В. Фоменко) действительно что-то происходит. Но не переход от незнания к знанию, а углубление знания до таких пределов, когда знание теряет свою привлекательность и становится пугающим. Человек – дитя природы: это начальный тезис многих увлекательных рассуждений, но погружение в такого рода раздумия обнаружит и неприятное. В песнях ветра много родного (соприродного), но и остерегающего: «Под ними хаос шевелится».
Из широкой программы наблюдений над смысловой (посредством умолчания) ролью пауз я выбираю только то, что все-таки доступно вербальным формам литературы. Здесь на первом месте строфическая пауза. Сейчас не будем перебирать конкретные тексты: впереди еще много анализов, где предметно можно будет увидеть и роль строфической паузы. Сейчас разберемся с вопросом: строфическая пауза обязательна? Оказывается – нет! Строфы, даже если они печатаются с их графическим выделением, вполне могут группироваться; внутри однородных групп строфические паузы не нужны, вполне хватает неотменимых строчных пауз. Вспомним знаменитое «К * * *» («Я помню чудное мгновенье…»). Здесь шесть строф, стало быть, и пять междустрофных пауз (шестая – пауза конца)? Так только формально, а фактически их вдвое меньше, согласно сгруппированным частям стихотворения.
Не поискать ли для «работающих» пауз какого-то усиливающего определения? Вероятно, в этом нет надобности. Паузы могут отсутствовать? На нет и суда нет; и зачем имя несуществующему? А когда они есть, им уже данное имя вполне может подходить: строфическая пауза.
Еще отметим в качестве «молчаливого» текста прием замены текста точками. Встречаются вынужденные замены написанного текста – по цензурным (и не только по цензурным) условиям. Сейчас приведем любопытнейший случай, когда точками заменяется не существовавший текст.
Речь пойдет о пушкинском стихотворении «Ненастный день потух…» Здесь две пейзажные зарисовки. Одна (вторая по композиционному счету) – южная по колориту, уже освоенная пером поэта, да и более обычная для поэзии в принципе, поскольку отвечает традиции «воспевания» предмета, стремления подчеркнуть возвышенное, экзотически приподнятое.
Далеко, там, луна в сиянии восходит;
Там воздух напоен вечерней теплотой;
Там море движется роскошной пеленой
Под голубыми небесами…
Начальный пейзаж воспроизводится с другим эмоциональным знаком:
Ненастный день потух; ненастной ночи мгла
По небу стелется одеждою свинцовой;
Как привидение, за рощею сосновой
Луна туманная взошла…
Связующая две картины деталь – луна. Такой прием уже использовался Пушкиным в элегии «Редеет облаков летучая гряда…»: там две разделенные точки пространства (где поэт реально был и где ему в то же время хотелось быть) соединялись лучами звезды. Печальная вечерняя звезда несла гармонию в драматически разобщенный мир. В «Ненастном дне…» тот же прием выполняет совсем иную функцию. Луна как космическое тело у нас одна на весь мир, но в стихотворении луна сияющая и луна туманная – как будто и не один, а два разных объекта. Подлинной сочтена луна сияющая, златая. Луна туманная – призрачная, почти ирреальная, «как привидение». Контраст детали в полной мере соответствует эмоциональному контрасту двух картин. К слову, призрачная луна рисуется «с натуры», сияющая луна, не менее реальная, существует как предмет воспоминаний.
Эмоциональное содержание вступительной картины в стихотворении уточнено недвусмысленно, прямым словом: «Всё мрачную тоску на душу мне наводит». Однако независимо от эмоционального знака «ненастная» и «роскошная» картины природы в стихотворении эстетически уравниваются. Отрицание в «Ненастном дне…» особого рода, оно лишено сатирических оттенков. Радостен или безрадостен пейзаж с туманной луной – это не имеет значения: бессмысленно негодовать на ненастье и туманы, поскольку эмоции ничего не могут поправить. Пейзаж, рождающий тоскливое настроение, входит в стихи не потому, что грусть выражать приятно, а потому, что таковой жизнь сложилась объективно. Пейзаж с туманной луной в «Ненастном дне…» – необходимая веха того длительного и сложного процесса, который в творчестве Пушкина приведет к утверждению «поэзии действительности».
В элегии «Ненастный день потух…» настроение поэта балансирует на лезвии бритвы, в самый напряженный момент грозя сорваться. Элегический тон задан обстоятельствами разлуки. Разлука для поэта ненавистна, и все-таки он учится терпению. Разлука предстает терпимой и нестерпимой – в зависимости от того, как ведет себя героиня. Фрагмент в восемь строк рисует единую картину, варьируя детали: «она» непременно одна («одна» назойливо повторяется как заклинание) – и никто не смеет оказывать ей знаки любви.
Вот время: по горе теперь идет она
К брегам, потопленным шумящими волнами;
Там, под заветными скалами,
Теперь она сидит печальна и одна…
Одна… никто пред ней не плачет, не тоскует;
Никто ее колен в забвенье не целует;
Одна… ничьим устам она не предает
Ни плеч, ни влажных уст, ни персей белоснежных.
А далее элегия принимает уникальный вид: завершенное произведение обрывает повествование тремя строками точек (и это авторское решение, а не ведомый Пушкину цензурный произвол).
.........................
.........................
.........................
После них еще две строки текста:
Никто ее любви небесной не достоин.
Не правда ль: ты одна… ты плачешь… я спокоен;
............................
Снова строка точек, и наконец голос поэта окончательно обрывается на незаконченной фразе:
Но если .......................
Императив антитезы «но» повелевает нарисовать контрастную картину (она не одна) – у поэта нет сил даже в воображении рисовать что-либо в таком духе. Обрыв повествования на этом месте представляется психологически понятным. Но почему возникла пауза из точек, когда рисовалась картина, отрадная взору поэта? Восьмистишие и двустишие и по смыслу, и по манере изложения совершенно едины, добавочной картине показаны лишь новые детали, не меняющие ее характера. Возможно было обозначенную паузу вовсе убрать! Почему же перо поэта споткнулось об эти греющие душу детали?
Не совсем об них. Представим себе текст стихотворения без этих трех строк точек. Восьмистишие и двустишие плотно смыкаются в единую картину, в которой никаких смысловых изменений нет (хотя стала бы заметней пауза ритмическая, поскольку одна строка тут без рифмующейся пары). Стало быть, в паузе, обозначенной точками, надо предполагать сокращение однородных деталей, но этого мало; пауза, обозначенная графически, уводит в подтекст: перед нами уникальный молчаливый текст стихотворения. Предчувствие поэта обещает роковой контраст, и становится томительно прописывать детали, которые сами по себе сердцу приятны: поэт уже начинает сомневаться в них. Однако инерции воспоминаний еще в избытке, чтобы вдруг переменить тему – и после молчаливой паузы сохраняется стремление дополнить оставленную было картину. После нового двустишия перечня (и новой паузы – строки точек, теперь уже означающей толькосокращение деталей: предыдущая фраза синтаксически не завершена) следует решительный поворот к неизбежному «если».
Но ведь и «если» – не наверняка, это лишь возможность, вероятность. А между тем вряд ли дискуссионно, какой из вариантов поведения героини реальнее —тот ли, который, пусть и с молчаливым скепсисом, подробно прописан, или тот, что обозначен обрывком фразы. Откуда такая уверенность?
В элегии облик героини не расшифровывается; есть лишь одна отсылка – что героиня живет у южного моря. Но если поэт рисует, это очевидно, типовой портрет, то здесь можно найти ответ и на наш вопрос. В контексте других стихов периода не знает исключений тип отношений страстных и пылких, но временных, и разлука для них – бедствие катастрофическое.
Многое недосказано? А как много (молчаливо! ) сказано.
Понятие умолчания сохраним и как определение этого поэтического приема. Но тут же отметим, что умолчание предстает не как тип композиции или разновидность такого типа, но только как композиционный прием: он легко может входить усложняющим компонентом в любые разновидности композиции. О нем хотелось сказать отдельно, а если этот фрагмент попал в завершение первого обзора, сочтем его за приложение.
Пунктирная композиция
Специфика пунктирной композиции в том, что она обеспечивает удивительное сочетание статики и динамики. Формальная выраженность необходимых смысловых пауз – рефрен. Стихотворение предстает сконструированным как будто из равноправных блоков, что чаще всего подчеркивается строфическим членением. Зато внутри блоков активно движение: содержание размышлений или картин направлено к тому, чтобы подтвердить или опровергнуть опорную мысль рефрена.
Хочется поставить рядом два стихотворения, разделенные полуторавековой дистанцией. Вначале стихотворение Николая Языкова «Зима пришла».
Как рада девица-краса
Зимы веселому приходу,
Как ей любезны небеса
За их замерзнувшую воду!
С какою радостью она,
Сквозь потемневшего окна,
Глядит на снежную погоду!
И вдруг жива и весела
Бежит к своей подруге бальной
И говорит ей триумфально:
«Зима пришла! Зима пришла!»
Воспитанник лесной Дианы,
Душою радуясь, глядит,
Как помертвелые поляны
Зима роскошно серебрит;
Порою осени унылой
Ходить с ружьем совсем не мило:
И льется дождь, и ветр шумит,
Но выпал снег, прощай терпенье!
Его охота ожила,
И говорит он в восхищеньи:
«Зима пришла! Зима пришла!»
Казны служитель не безвинный,
Как рая зимней ждет поры:
Плохой барыш с продажи винной
Весной и в летние жары:
Крестьяне заняты работой;
Он зрит с печальною зевотой
Цереры добрые дары;
Но вот зима – и непрестанно
Торговля ездить начала,
И он кричит, восторгом пьяный:
«Зима пришла! Зима пришла!»
Питомцу музы не отрада
И пылкой музе не сладка
Зимы суровая прохлада:
В лесу мороз, стоит река,
Повсюду мрачное молчанье —
И где ж певцу очарованье,
Восторг и мирты для венка?
Он взглянет на землю – пустыня,
На небо взглянет – небо спит;
Но если юноше велит
Душой и разумом богиня
Прославить зимние дела, —
В поэте радость оживает
И, вдохновенный, восклицает:
«Зима пришла! Зима пришла!»
Второе стихотворение принадлежит перу Арсения Тарковского:
Вот и лето прошло,
Словно и не бывало.
На пригреве тепло.
Только этого мало.
Все, что сбыться могло,
Мне, как лист пятипалый,
Прямо в руки легло.
Только этого мало.
Понапрасну ни зло,
Ни добро не пропало.
Все горело светло.
Только этого мало.
Жизнь брала под крыло,
Берегла и спасала,
Мне и вправду везло.
Только этого мало.
Листьев не обожгло,
Веток не обломало.
День промыт, как стекло.
Только этого мало.
Эти очень разные стихотворения построены по одному типу (строфы завершаются рефреном), что ничуть не препятствует видовому своеобразию.
Различие, даже контрастность стихотворений явственны уже в эмоциональном пафосе стихотворений. Эпитафия лету Тарковского серьезна, поднимается на уровень откровений. Панегирик зиме Языкова откровенно шутлив. Монолог Тарковского исповедально личностен. Языков собирает под одно восклицание очень разных людей: тут и девица-краса, и охотник, и даже торгаш, и юноша, чьи чувства, в контрасте со своими, выражает поэт; проблематично, найдется ли еще какое-либо чувство, общее для всей этой пятерки. Впрочем, здесь всех выделенных лиц радует начало их сезонных занятий, а вовсе не зимние прелести; потому и столь разнообразны приветствующие ее. Тут не исключение и поэт. Его самого зимние картины не вдохновляют, но он стремится озвучить восторги юноши.
Иное у Тарковского. В уходящем неизменно подчеркивается нечто ценное, достойное – рефрен неудовлетворенно настаивает на максимализме желаний. Каждая строфа подчеркнуто равноправна в структуре целого; мало того, шесть строф и зарифмованы одинаково (т. е. внутренняя, формальная структура доведена до тождества). Здесь свои аргументы, на свой лад пытающиеся противостоять рефрену, вывести мысль в иную плоскость, предлагая довольствоваться реальными, пусть меньшими достижениями; эти попытки безуспешны, основная мысль с непреложностью возвращается. Подчеркнутое равноправие строф не избавляет поэта от необходимости определенным образом выстроить стихотворение как целое, найти внутреннюю логику, согласно которой строфы выстраиваются в данной, а не в иной последовательности. Иначе говоря, равноправие строф не безусловно, а относительно. Стихотворение строится под действием центробежных и центростремительных сил; рефрен концентрирует смысл стихотворения, остальной текст его расширяет.
Языков не стремится пунктуально выдержать форму восьмистишной строфы, которой начинает стихотворение, увеличивает количество строк, варьирует рисунок рифмовки, в строгом смысле здесь не строфы, а обособленные части стихотворения; уходим от точного обозначения ради понятия «строфическая пауза». Здесь ее роль очень велика – в силу резкого различия «восклицающих» персонажей. Собственно, описания стихотворения по содержанию разные решительно во всем, зато завершающее их восклицание полностью совпадает.
У Тарковского нет графического выделения строф пробелами; это ничуть не умаляет автономную роль каждой строфы, соблюдение строфической паузы становится обязательным. Здесь добавляется и сквозная внутренняя пауза – в силу контрастности трехстишия строфы и заключительной строки-рефрена.
Называя данную композицию пунктирной, подчеркнем связующую роль рефрена; смысловые связи строф везде требуют отдельного конкретного рассмотрения.
Поэты свободны в выборе объема рефрена и размещении его в строфах (реже – в тексте) стихотворений.
Рефрен в одно слово пронизывает известное стихотворение Фета.
Я пришел к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало;
Рассказать, что лес проснулся,
Весь проснулся, веткой каждой,
Каждой птицей встрепенулся
И весенней полон жаждой;
Рассказать, что с той же страстью,
Как вчера, пришел я снова,
Что душа все так же счастью
И тебе служить готова;
Рассказать, что отовсюду
На меня весельем веет,
Что не знаю сам, что буду
Петь, – но только песня зреет.
Форма строфы как будто застыла в своем однообразии, что подчеркнуто даже синтаксически: каждая строфа образует предложение (иногда с усложнением внутри его), но не самостоятельное, а структурной единицей в составе объемного сложного. Зато содержательно стихи полны движения. Импульс ему задает смена предметов описаний, соблюдая порядок перехода от общего к частному: солнце – лес – душа – одно из ее деяний. Строфы переполнены и внутренним движением. Солнце трепещет световыми пятнами. Лес проснулся веткой каждой. Вроде бы устойчиво состояние души («как вчера»), но и тут готовность «служить» подруге и счастью (которое отнюдь не автоматом дается). И красивый финал, только еще с предощущением будущей песни.
Еще фетовское стихотворение:
Только в мире и есть, что тенистый
Дремлющих кленов шатер.
Только в мире и есть, что лучистый
Детский задумчивый взор.
Только в мире и есть, что душистый
Милой головки убор.
Только в мире и есть этот чистый
Влево бегущий пробор.
Единоначатие двустиший придает композиции центростремительный характер. Тем парадоксальнее, что в пучок собраны предметы броско субъективной волею автора. Вроде бы не вяжутся в единое целое шатер кленов, детский взор, милая головка с примечательным пробором. Кроме того, возникает сомнение, заслуживают ли эти предметы, хоть порознь, хоть совокупно, того первостатейного места, на которое выдвинуты поэтом? Но автор исповедается в своих чувствах перед читателем, а вовсе не навязывает ему свою волю…
Фет не страшится однообразия. Роль рефрена подразумеваемая. Но в ритм ему и четырехкратное повторение двустиший, тоже формально однотипных: удлиненные строки завершаются эпитетами, связанными сквозной рифмой, а укороченные строки – тоже связанными единой рифмой обозначениями соответствующих предметов.
И совсем нарочитая форма рефрена – опять в стихотворении Фета:
Свеж и душист твой роскошный венок,
Всех в нем цветов благовония слышны,
Кудри твои так обильны и пышны,
Свеж и душист твой роскошный венок.
Свеж и душист твой роскошный венок,
Ясного взора губительна сила, —
Нет, я не верю, чтоб ты не любила:
Свеж и душист твой роскошный венок.
Свеж и душист твой роскошный венок,
Счастию сердце легко предается:
Мне близ тебя хорошо и поется.
Свеж и душист твой роскошный венок.
Стихотворение состоит из трех строф, которые похожи на четверостишия с кольцевой рифмой, но их канон нарушают: опоясывающие строки не разные (но рифмующиеся, как принято), а повторяющиеся. В результате они («внутри» стихотворения) читаются (без разницы – вслух или мысленно) дважды подряд: сначала как заключительная строка строфы, следом как вступительная строка строфы следующей. Рефрен занимает половину текста стихотворения!
Экспериментальный рисунок строфы очевиден. Поэту-профессионалу эксперимент не противопоказан. Встретит ли эксперимент понимание? Наверное, найдутся и любители экспериментов. Иные сочтут: пересолить – испортить вкусную пищу.
А можно увидеть смысл в формальном поиске поэта. В стихотворении отражены еще складывающиеся отношения молодых людей. Поэт стремится увидеть подтверждение, что он встречает взаимность на порыв своего чувства. Ему дает надежду ясный взор подруги, но более всего – этот роскошный венок, который обычно плетут из скромных полевых цветов…
Сложна конструкция рефрена в «Песне» Василия Жуковского. В сущности, здесь двойной рефрен, передающий чувства и деяния счастливого влюбленного, а потом покинутого человека и певца.
Когда я был любим – в восторгах, в наслажденье,
Как сон пленительный, вся жизнь моя текла.
Но я тобой забыт, – где счастья привиденье!
Ах! счастием моим любовь твоя была!
Когда я был любим – тобою вдохновенный,
Я пел, моя душа хвалой твоей жила.
Но я тобой забыт – погиб мой дар мгновенный!
Ах! гением моим любовь твоя была!
Когда я был любим – дары благодеянья
В обитель нищеты рука моя несла.
Но я тобой забыт – нет в сердце состраданья!
Ах! благостью моей любовь твоя была!
Оригинальна роль рефрена в «Песне Гаральда Смелого» Константина Батюшкова.
Мы, други, летали по бурным морям,
От родины милой летали далеко!
На суше, на море мы бились жестоко;
И море, и суша покорствуют нам!
О други! как сердце у смелых кипело,
Когда мы, содвинув стеной корабли,
Как птицы неслися станицей веселой
Вкруг пажитей тучных Сиканской земли!..
А дева русская Гаральда презирает.
О други! я младость не праздно провел!
С сынами Дронтгейма вы помните сечу?
Как вихорь пред вами я мчался навстречу
Под камни и тучи свистящие стрел.
Напрасно сдвигались народы; мечами
Напрасно о наши стучали щиты:
Как бледные класы под ливнем, упали
И всадник, и пеший… владыка, и ты!..
А дева русская Гаральда презирает.
Нас было лишь трое на легком челне;
А море вздымалось, я помню, горами;
Ночь черная в полдень нависла с громами,
И Гела зияла в соленой волне.
Но волны напрасно, яряся, хлестали:
Я черпал их шлемом, работал веслом:
С Гаральдом, о други, вы страха не знали
И в мирную пристань влетели с челном!
А дева русская Гаральда презирает.
Вы, други, видали меня на коне?
Вы зрели, как рушил секирой твердыни,
Летая на буром питомце пустыни
Сквозь пепел и вьюгу в пожарном огне?
Железом я ноги свои окрыляя,
И лань упреждаю по звонкому льду;
Я, хладную влагу рукой рассекая,
Как лебедь отважный по морю иду…
А дева русская Гаральда презирает.
Я в мирных родился полночи снегах;
Но рано отбросил доспехи ловитвы —
Лук грозный и лыжи – и в шумные битвы
Вас, други, с собою умчал на судах.
Не тщетно за славой летали далеко
От милой отчизны по диким морям;
Не тщетно мы бились мечами жестоко:
И море, и суша покорствуют нам!
А дева русская Гаральда презирает.
В «песне» пять строф. Их основа – два четверостишия четырехстопного амфибрахия с чередованием кольцевой и перекрестной рифмовки. По форме это монолог героя, с воспоминанием о деяниях, вполне оправдывающих его прозвание. Монолог обращен к друзьям, способным подтвердить, что речь предводителя – не пустое хвастовство. Тем неожиданнее, что каждая строфа заканчивается девятой строкой-рефреном; строка не имеет пары, соответственно остается незарифмованной; мало того, она и ритмически выпадает из текста стихотворения (курсивом она выделена автором). Получается так, что и формой, и содержанием строка-рефрен резко контрастирует с основным текстом песни: удальство героя, очевидное для всех, не трогает сердце русской девы.
Между тем в примечаниях к публикации сообщается, что исторический Гаральд был женат на дочери Ярослава Мудрого Елизавете. Стало быть, поэт драматизирует полосу жизни героя, которая закончится-таки в его пользу.
В стихотворении Марины Цветаевой динамично все: текст – исповедь личной драмы, но будет помечено, что подобное происходит в жизни многих; воспроизводятся чувства личные – и покинувшего возлюбленного; картины теплых воспоминаний контрастируют с ужасами действительности. Соответственно рефрен (в одну строку), текстуально неизменный, всякий раз произносится с новой эмоциональной интонацией.
Вчера еще в глаза смотрел,
А нынче – все косится в сторону!
Вчера еще до птиц сидел, —
Все жаворонки нынче – вороны!
Я глупая, а ты умен,
Живой, а я остолбенелая.
О вопль женщин всех времен:
«Мой милый, чтό тебе я сделала?!»
И слезы ей – вода, и кровь —
Вода, – в крови, в слезах умылася!
Не мать, а мачеха – Любовь:
Не ждите ни суда, ни милости.
Увозят милых корабли,
Уводит их дорога белая…
И стон стоит вдоль всей земли:
«Мой милый, чтό тебе я сделала?!»
Вчера еще в ногах лежал!
Равнял с Китайскою державою!
Враз обе рученьки разжал —
Жизнь выпала копейкой ржавою!
Детоубийцей на суду
Стою – немилая, несмелая.
Я и в аду тебе скажу:
«Мой милый, чтό тебе я сделала?»
Спрошу и стул, спрошу кровать:
«За что, за что терплю и бедствую?»
«Отцеловал – колесовать:
Другую целовать», – ответствуют.
Жить приучил – в самом огне,
Сам бросил – в степь заледенелую!
Вот, что ты, милый, сделал мне!
Мой милый, чтό тебе я сделала?
Все ведаю – не прекословь!
Вновь зрячая – уж не любовница!
Где отступается Любовь,
Там подступает Смерть-садовница.
Само – чтό дерево трясти! —
В срок яблоко спадает спелое…
– За все, за все меня прости,
Мой милый, – чтό тебе я сделала!
В борьбе центростремительных и центробежных сил (таковы связи рефрена и сопровождающего текста строфы) много вариантов, у поэтов есть выбор. Для своего известного парадоксами стихотворения «Silentium!» Тютчев избрал связку мотивировка – вывод.
Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои —
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи, —
Любуйся ими – и молчи.
Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи, —
Питайся ими – и молчи.
Лишь жить в себе самом умей —
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгонит лучи, —
Внимай их пенью – и молчи!..
На борьбе центробежных и центростремительных сил построено и такое стихотворение Фета:
Солнца луч промеж лип был и и жгуч и высок,
Пред скамьей ты чертила блестящий песок,
Я мечтам золотым отдавался вполне, —
Ничего ты на все не ответила мне.
Я давно угадал, что мы сердцем родня,
Что ты счастье свое отдала за меня,
Я рвался, я твердил о не нашей вине, —
Ничего ты на все не ответила мне.
Я молил, повторял, что нельзя нам любить,
Что минувшие дни мы должны позабыть,
Что в грядущем цветут все права красоты, —
Мне и тут ничего не ответила ты.
С опочившей я глаз был не в силах отвесть, —
Всю погасшую тайну хотел я прочесть.
И лица твоего мне простили ль черты? —
Ничего, ничего не ответила ты!
Меняются обстоятельства, не ослабевает порыв поэта – но до конца остается закрытой душа подруги. Во второй половине элегии рефрен (как дразнящий аванс? ) обозначил микроскопические стилистические изменения, но и они нисколько не приблизили к разгадке тайны. Рефрен – вещь серьезная…
Стихотворение Дмитрия Кедрина построено как калейдоскоп картин, хранимых памятью.
Всё мне мерещится поле с гречихою,
В маленьком доме сирень на окне,
Ясное-ясное, тихое-тихое
Летнее утро мерещится мне.
Мне вспоминается кляча чубарая,
Аист на крыше, скирды на гумне,
Темная-темная, старая-старая
Церковка наша мерещится мне.
Чудится мне, будто песню печальную
Мать надо мною поет в полусне,
Узкая-узкая, дальная-дальная
В поле дорога мерещится мне.
Где ж этот дом с оторвавшейся ставнею,
Комната с пестрым ковром на стене?
Милое-милое, давнее-давнее
Детство мое вспоминается мне.
Тут сменяют друг друга основные (и сопутствующие им) предметы; они разные, а потому потребен варьирующийся рефрен. Получается, что поэт создал для себя дополнительные трудности. Но трудности стимулируют желание их преодолевать! Поэт делает рефреном удвоенные и спаренные эпитеты: содержательно они обновляются, типовая форма неизменна. Даже и в рамках типа вариативность неистощима.
Можно заключить, что стихотворения с рефреном чаще пишут поэты-лирики, откликаясь на позитивные отклики жизни. Но в нашем обзоре представлены стихи и в минорном ключе (Жуковский, Цветаева). Пунктир не чужд и сатире.
Вот стихотворение Демьяна Бедного «Приказано, да правды не сказано». Авторское обозначение жанра – «солдатская песня» (видимо, для того, чтобы подчеркнуть, от чьего лица написано стихотворение).
Нам в бой идти приказано:
«За землю станьте честно!»
За землю! Чью? Не сказано.
Помещичью, известно!
Нам в бой идти приказано:
«Да здравствует свобода!»
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































