Текст книги "Лирика: поэтика и типология композиции"
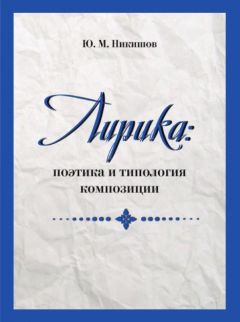
Автор книги: Юрий Никишов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц)
Свобода! Чья? Не сказано.
Но только не народа.
Нам в бой идти приказано —
«Союзных ради наций».
А главное не сказано:
Чьих ради ассигнаций.
Кому война – заплатушки
Кому – мильон прибытку.
Доколе ж нам, ребятушки,
Терпеть лихую пытку?
Я отдаю отчет в том, что такие стихи многим не понравятся за слишком откровенное выражение авторской позиции, да еще по острой политической проблеме: для симпатии тут надо полное совпадение взглядов – а ныне сам поэт причисляется к фигурам одиозным. Да, позиция обрисована резко; даже в конце поэт отказывается от принятого композиционного строя, а завершает стихотворение моралью, привычной для Бедного-баснописца. И все-таки мне хочется отметить выразительность художественного приема, использованного в стихотворении.
Если откинуть предвзятость, то вся стать увидеть творческий подход поэта к традиционному композиционному приему. Здесь рефрен не ограничивается связующей композиционной ролью, он глубже проникает в структуру строфы. Начальная строка, как часто бывает, носит констатационный характер – и сразу подкрепляется строкой-лозунгом. Лозунг концентрирует емкое содержание. Вырванный из контекста, сам по себе, он может звучать весьма заманчиво. Но явление шире слова, оно обычно имеет свойства, словом не фиксируемые, причем негативного характера. Или так: слово богато оттенками, само по себе слово не акцентирует, на какие оттенки приходится упор. Тут и проявляется активность поэта. Он выявляет такие опосредования, которые сознательно замалчивались авторами лозунгов. Сатирик успешно выводит спрятанную ложь наружу.
Стихотворение Демьяна Бедного конкретно, это отклик на события первой мировой войны. Подлинно художественное произведение сохраняет ценность и за пределами ситуации своего написания. Это стихотворение актуально прозвучало бы в оценке многих эпизодов нашей новейшей истории.
А вот стихотворение, по форме близко соответствующее варианту пунктирной композиции с начальным рефреном и горькое по содержанию. Стихотворение
Иосифа Бродского.
Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.
Зачем тебе Солнце, если куришь ты Шипку?
За дверью бессмысленно все, особенно – возглас счастья.
Только в уборную – и сразу возвращайся.
О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора.
Потому что пространство сделано из коридора
и кончается счетчиком. А если войдет живая
милка, пасть разевая, выгони не раздевая.
Не выходи из комнаты; считай, что тебя продуло.
Что интересней на свете стены и стула?
Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером
таким же как был, тем более – изувеченным.
О, не выходи из комнаты. Танцуй, поймав, босанову,
в пальто на голое тело, в туфлях на босу ногу.
В прихожей пахнет капустой и мазью лыжной.
Ты написал много букв; еще одна будет лишней.
Не выходи из комнаты. О, пускай только комната
догадывается, как ты выглядишь. И вообще инкогнито
эрго сум, как заметила форме в сердцах субстанция.
Не выходи из комнаты. На улице чай не Франция.
Не будь дураком! Будь тем, чем другие не были.
Не выходи из комнаты! То есть дай волю мебели,
слейся лицом с обоями. Запрись и забаррикадируйся
шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса.
Восприятие стихотворения оказывается резко контрастным в зависимости от ракурса восприятия. Если слышать здесь крик боли поэта, когда он страдал от предвзятого и несправедливого отношения к нему прежних властей, поэт заслуживает сочувствия. Иначе стихотворение выглядит, если смотреть на него как на философское обобщение. Выяснится: стихотворение рождено ненавистью. Здесь не оставлено места любви, подспудно непременно необходимой сатирику, когда нечто отрицается во имя чего-то. Без положительного идеала позиция поэта прогибается. «Будь тем, чем другие не были…» Это означает: будьте кем угодно, только не этими. Не факт, что новые русские окажутся лучше этих.
Годы миновали. Того строя не осталось, разрушен до основания. Кто-то доволен тем, что построили. Только духовное содержание жизни отдали на откуп религиям, а их много, и они непримиримо (даже кроваво) враждуют между собою. Опять за благо не выходить из комнат? Увы, гибельно поэту без идеала…
Пушкинское стихотворение «Храни меня, мой талисман…» – это удивительное творение по глубине мысли, чистоте душевных движений, хрустальной прозрачности рисунка; это один из шедевров пушкинской лирики. Сосредоточим внимание на связи обеспечивающего пунктирный характер композиции рефрена с другими строками строфы. Послушаем и то, что может говорить молчаливая строфическая пауза.
Вначале мощный аккорд зачина, введение в суть темы и обстоятельств, ее рождающих.
Храни меня, мой талисман,
Храни меня во дни гоненья,
Во дни раскаянья, волненья:
Ты в день печали был мне дан.
Далее идут две строфы, развивающие мотив универсального действия талисмана. Происходит композиционная перестройка рисунка строфы: все они включают рефрен – строку «Храни меня, мой талисман», но во вступительной строфе она была ее запевом, теперь она перемещается в концовку строф, принимает на себя тяжесть итога.
Когда подымет океан
Вокруг меня валы ревучи,
Когда грозою грянут тучи —
Храни меня, мой талисман.
В уединенье чуждых стран,
На лоне скучного покоя,
В тревоге пламенного боя
Храни меня, мой талисман.
Строфы объединены формой перечня, но при единстве приема они разные. Первая развертывается по временному принципу (когда), вторая – по пространственному (где). При относительном содержательном равноправии строф поменять их местами нельзя: первая подхватывает временной принцип, намеченный уже во вступительной строфе.
Итак, тема мотивирована, обозначены ее параметры. Было бы возможно на этом исчерпать тему! Но Пушкин завершает лишь описательную часть стихотворения и переходит к аналитической.
Священный сладостный обман,
Души волшебное светило…
Оно сокрылось, изменило…
Храни меня, мой талисман.
До сих пор сквозная строка стихотворения, обращенная к талисману, была логическим завершением строфы: помечалась опасность – естественным было обращение к хранителю. Теперь она эту логику нарушает. Перемены произошли во время строфической паузы! Итоговый призыв звучит не как естественный вывод, но вопреки мотивировкам; «талисман» на сей раз рифмуется с «обман». (К слову: сквозное «талисман» вытягивает и сквозную, пятикратно повторенную мужскую рифму, единую для всего стихотворения: дан – океан – стран – обман – ран). Рифма «обман» не свидетельствует о разочаровании в самом символе любви: обнаруживаются противоречия в чувстве, может быть, связанные с обстоятельствами любви. Какие страсти кипят в душе поэта! Души светило «сокрылось, изменило» – это беда, драма; но светило было (может быть, и остается) волшебным. Когда открывается обман, он отвергается. А если обман – сладостный? Решимость отторжения умеряется. Но если сладостный обман – священный? Святынями не разбрасываются. Четвертая строфа вносит решительные перемены в эмоциональный строй стихотворения. Вначале шли чеканные клятвенные заверения. Теперь обнажаются драматические осложнения в предмете любви. В сущности, поэт оказывается перед выбором: либо испить чашу разочарования, либо демонстративно ее отодвинуть.
Поэт делает выбор без колебания: он остается верен своей любви. Выбор предрешен строкой-рефреном, но этого мало. Выбор не тривиален, он требует развертывания. Бросив взгляд в прошлое, поэт разворачивается к будущему. Этому посвящена заключительная, пятая строфа.
Пускай же ввек сердечных ран
Не растравит воспоминанье.
Прощай, надежда; спи, желанье;
Храни меня, мой талисман.
Оказывается, воспоминанье не безоблачно: оно может растравить сердечные раны, были и таковые. Нельзя сказать, что они забыты, что поэт делает вид, что раны не существенны. Больше того, недвусмысленно следует, что разлука любящих не временная, а вечная: «Прощай, надежда; спи, желанье…» Расставанье решительное, но к прошлому у поэта отношение возвышенное: нет желания ворошить боли, считать обиды; торжествует великодушие, крепнет «лелеющая душу гуманность». Получается так, что, думая о будущем, поэт больше говорит о прошлом, но тут нет противоречия: из прошлого отбирается нетленное. «Храни меня, мой талисман» – клятвенно завершает поэт строфу и стихотворение, и провозглашается не просто верность знаку любви. Хранительный талисман поэта – его душа, способность видеть все, а выбирать, с собою брать именно светлое: в этом гарантия, что здание строится на прочном фундаменте.
Исключительную роль играет рефрен в стихотворении Бориса Пастернака «Зимняя ночь», включавшемся в цикл «Стихотворения Юрия Живаго».
Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
Как летом роем мошкара
Летит на пламя,
Слетались хлопья со двора
К оконной раме.
Метель лепила на стекле
Кружки и стрелы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
На озаренный потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья.
И падали два башмачка
Со стуком на пол.
И воск слезами с ночника
На платье капал.
И все терялось в снежной мгле
Седой и белой.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
На свечку дуло из угла,
И жар соблазна
Вздымал, как ангел, два крыла
Крестообразно.
Мело весь месяц в феврале,
И то и дело
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
Стихотворение состоит из восьми строф-четверостиший. Ритмический рисунок каждой – чередование строк четырехстопного ямба с укороченными строками в две стопы (или в две с половиной, если учесть выходящее за пределы лимита окончание женской рифмы). Рефрен в этом стихотворении относительно немалого объема, в две строки. Будет точнее, если увидим, что стихотворение состоит из четырех частей, в каждой из которых строфа с рефреном дополняется, для повышения информативности, строфой безрефренной. Причем в первой и второй частях рефрен размещен в начальных строфах, а в третьей и четвертой частях перемещается в строфы заключительные, так что и стихотворение заканчивается строками рефрена. (А если учесть, что в заключительной строфе начальное двустишие хоть и не полностью текстуально, но уж точно содержательно возвращается к вступительной строфе, то в стихотворении можно видеть и элемент кольцевой композиции.)
В первой половине стихотворения присутствие человека ощущается только косвенно: свеча не обладает способностью самовозгорания, нужно, чтобы ее кто-то зажигал (и гасил, по мере надобности). А в общем-то все происходит по какому-то всеобщему разумному повелению, которому подчиняются и неразумные существа, и предметы. Вспоминаются летние рои мошкары, летящие на пламя. По аналогии воспринимаются им подобными снежные хлопья, слетающиеся к оконной раме. Неизвестно, как там в других местах, а здесь хаотичная метель рисует на стекле кружки и стрелы: это чтобы следующие потоки хлопьев легче следовали в указанном направлении, чтобы подивиться волшебному свету свечи!
Вторая половина стихотворения отчетливее озарена человеческим присутствием – и возрастает символическое значение горящей свечи. Отступление от бытового правдоподобия это как будто подчеркивает. Свеча, горящая на столе, устраивает театр теней почему-то на потолке, а не на стене. Воск, капающий на платье, воспринимается равным святым дарам. Тень ангела, распахнувшего крылья, дает тень креста.
Из угла дует, все теряется в снежной мгле – а слабому огоньку это нипочем. В итоге рефрен завершает стихотворение победным кличем. В художественном мире стихотворения получается: если устойчиво малое и слабое – прочен весь окружающий мир.
Пунктирный тип композиции в современной поэзии получил известное распространение. Он может входить составляющим компонентом в иные структуры. Таковы рефрены «Встаньте» и «Вечная память» в «Плаче по двум нерожденным поэмам» Андрея Вознесенского, «Невыносимо» в его «Монологе Мэрлин Монро». Во вступительной главе поэмы Роберта Рождественского «Двести десять шагов» пунктиром проходит метафорическое переосмысление школьной аттестации: «Не успеваю».
В подобных примерах в качестве пунктира выступает не опорная мысль, как в стихотворении Арсения Тарковского, а опорный образ, что имеет свою выразительность.
Пунктирное построение может быть не сплошным, а частичным, но и частичное использование пунктира может серьезно влиять на характер композиции.
Таинство священнодействия великой пушкинской Болдинской осени начинается «Бесами». За окном еще только подступы к золотой осени, а в рабочем кабинете поэта вдруг непрошенно забушевала метельная вьюга: «натура» оттесняется воображением. В стихотворении множество предметных деталей, которые интересны для наблюдений, но важнее понять, что кроется за ними. «Бесы» – одно из самых значительных творений философской лирики поэта. По этой причине я буду именовать это стихотворение элегией, хотя в нем имеются и приметы романтической баллады (элементы повествовательного сюжета, объективированные персонажи – ямщик и рассказчик, поэт).
Емкость стихотворения здесь заключена в совершенную, гармонически выверенную форму.
Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Еду, еду в чистом поле;
Колокольчик дин-дин-дин…
Страшно, страшно поневоле
Средь неведомых равнин!
«Эй, пошел, ямщик!..» – «Нет мочи:
Коням, барин, тяжело;
Вьюга мне слипает очи;
Все дороги занесло;
Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам!
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.
Посмотри: вон, вон играет,
Дует, плюет на меня;
Вон – теперь в овраг толкает
Одичалого коня;
Там верстою небывалой
Он торчал передо мной;
Там сверкнул он искрой малой
И пропал во тьме пустой».
Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Сил нам нет кружиться доле;
Колокольчик вдруг умолк;
Кони стали… «Что там в поле?» —
«Кто их знает? пень иль волк?»
Вьюга злится, вьюга плачет;
Кони чуткие храпят;
Вот уж он далече скачет;
Лишь глаза во мгле горят;
Кони снова понеслися;
Колокольчик дин-дин-дин…
Вижу: духи собралися
Средь белеющих равнин.
Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре…
Сколько их! куда их гонят?
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?
Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной вышине,
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне…
В «Бесах» семь восьмистишных строф; жесткий, расчисленный композиционный каркас элегии создает рефрен в объеме четверостишия: он начинает всю элегию, затем среднюю, четвертую строфу и наконец седьмую, заключительную; как «версты полосаты», рефрен четко разметил пространство произведения. Своеобразный парадокс: в стихах идет речь о хаосе ночного блуждания в метель, а структура стихотворения ясная и прозрачная, легкая и ажурная.
(Интересно: в описании блужданий будет отмечено: «Сил нам нет кружиться доле…» Но чтобы в мутной ночи стало очевидным кружение, надо заново встретить знакомый предмет. Повторение рефрена как будто имитирует кружение путников по полю. К этому наблюдению будет надобность еще вернуться.)
Рефрен воссоздает обстановку переживания, но самое главное – задает ритм движения: «Мчатся тучи, вьются тучи…»; движение становится универсальным, движется не только тройка, но и то, что над ней; такой тон задает рефрен. «Мчатся» – самый энергичный глагол элегии. Когда движение столь стремительно, оно обладает большим инерционным запасом и не может не тяготеть к прямолинейности, но рисунок движения усложняется: тучи мчатся – и вьются. Для путника важнее и заметнее движение вблизи, тут – обратного рода контраст: бешеное «мчатся» – и монотонное «еду, еду…» Стремительное, обгоняющее (да еще с завихрениями) движение туч в сочетании с мутностью ночи, превращающей равнины в «неведомые», создает эмоциональный знак переживания: «Страшно, страшно поневоле…»
Рефрен образует жесткий композиционный каркас элегии, но монтаж деталей на этом каркасе осуществляется свободно, вариативно. Взаимодействуют две тенденции – высокая дисциплина композиционного мышления и вдохновенная непринужденность; в Пушкине настолько развито чувство меры, что ему нет надобности поверять эту меру алгеброй.
Настойчивое повторение рефрена акцентирует «мутность» зрительных впечатлений, невольно поселяющих страх. Концовки соответствующих строф свои темы варьируют. Дважды, в тон рефрену, дорисовывается обстановка пути с включением сквозной детали: «еду, еду в чистом поле…» – «кони стали…» (и сопутствующее: «колокольчик дин-дин-дин…» – «колокольчик вдруг умолк…»). Кажется, устанавливается жесткая связь между рефреном и существенной повествовательной деталью, поскольку явление дважды повторяется; знаменательно, что, в такт рефрену, есть и третий повтор повествовательной детали («Кони снова понеслися; / Колокольчик дин-дин-дин»), только в третьем, заключительном звене деталь уходит в повествовательную строфу, а в строфе с рефреном освобождается место для «заглавной» темы. Но поэт не просто разрушает наметившуюся схему – он ее гибко видоизменяет: сквозная деталь про поведение коней и колокольчик включена в повествовательную строфу, первая строка которой тематически и ритмически варьирует первую строку рефрена («Мчатся тучи, вьются тучи…» – «Вьюга злится, вьюга плачет…»).
«Безрефренные», попарно сгруппированные строфы развивают главную, «бесовскую» тему стихотворения. Мотивировка двойного изложения темы понятна: вначале приводится точка зрения спутника поэта, ямщика, затем сообщает то, что видит (и осмысливает), поэт. Невзирая на перемену ракурса восприятия, сохраняется общая композиционная структура повествовательных строф: в каждом случае первая из них как бы подготовительная, исподволь готовящая главную тему, вторая, не отвлекаясь, исключительно ее и раскрывает.
Первый персонаж повествования, ямщик, – человек суеверный и прагматичный одновременно. Это накладывает свой отпечаток на восприятие «заглавного» предмета. Первое суждение не предполагает осязательного, материализованного воплощения злой силы:
Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам!
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.
Изящна здесь омонимическая рифма «не видно» – «видно», образующая словесный каламбур: «видно», лишенное отрицательной частицы, ничуть не означает противоположного состояния – слово перешло в разряд вводных, так что утверждение (вслед за отрицанием) получает характер не более, чем предположительный. Бес, названный тут прямым словом, незрим, его присутствие угадывается по результату его вмешательства. Такой ракурс восприятия сохраняется и в начале следующей строфы – с переходом количества в качество, поскольку «он» становится главным предметом размышления:
Посмотри: вон, вон играет,
Дует, плюет на меня,
Вон – теперь в овраг толкает
Одичалого коня…
В сущности, никаких новых деталей не добавляется: о том же было уже сказано прямым словом: «Коням, барин, тяжело; / Вьюга мне слипает очи…» Та же вьюга и продолжает описываться, но изменение есть: вьюга перестает восприниматься стихией, угадывается управляемость ее капризами. Тот, кто делает это, остается незримым, но присутствие его ощущается столь непосредственным, что уже нетрудно сделать окончательный шаг – разглядеть или угадать незримого:
Там верстою небывалой
Он торчал передо мной;
Там сверкнул он искрой малой
И пропал во тьме пустой.
Ямщик предстает перед нами суеверным – и прагматичным: он прозревает злое в обыденном, но не упорствует, непонятное может объяснить и бытовым сознанием. Подтверждает это второй диалог: «Что там в поле?» – «Кто их знает? пень иль волк?» Эта реплика – не в логике первого разговора, и подвижность точки зрения значима.
Поэту предлагается выбор между иррациональным и рациональным объяснением того, что в «мутной» ночи трудно разглядеть зрением физическим и где нужна помощь умозрения. Поэт выбирает первое. Более того, модальность высказывания крепнет: уже нет предположения, а есть утверждение.
Из двух повествовательных строф, передающих точку зрения «я», первая строится в русле обозначенных образов; изложение концентрированнее – в строфу умещаются детали, ранее развернутые на две; меняется последовательность способов изображения – не от называния предмета к описанию, а от описания к называнию. Поэт вначале варьирует подсказанный образ (а также, в народной логике, называет предмет раздумья местоимением, а не существительным):
Вот уж он далече скачет;
Лишь глаза во мгле горят…
Однако сразу же можно заметить, что взгляд поэта в корне отличается от только что представленного взгляда спутника (в сущности, взгляда типового, народного). Там присутствие беса предчувствовалось, угадывалось; в сознании ямщика бес – оборотень, принимающий вид обыденных, разных предметов. Поэт пытается разглядеть беса в его собственном обличье. Сходство деталей подтверждает это. Ямщик видит искру малую – угадывает беса. Поэт тоже видит два ярких пятнышка, но для него это не бытовой предмет, а «он» сам и есть, точнее – «его» глаза.
За первым указанием включается прямое слово:
Вижу: духи собралися
Средь белеющих равнин.
Прямое слово называния – пролог и к прямому, проработанному изображению предмета. Вторая повествовательная строфа от автора целиком оригинальная. Взгляд поэта пытается воссоздать незаемный, непосредственный вид нечистой силы:
Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре…
Сколько их! куда их гонят?
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?
Когда о бесах говорит ямщик, он исчисляет их агрессивные действия, цель которых – погубить, по крайней мере – напугать, измотать людей. В изображении поэта бесы – сами гонимые! Им не до людей, у них свой быт. Песни их – жалобные. Кстати говоря, эпитет (на первый взгляд – неожиданный) объединяет, казалось бы, контрастные обряды, похороны и свадьбу; между тем Пушкину было ведомо, что в фольклорных похоронных и свадебных обрядах действительно наблюдаются сходные элементы; эти напевы (без слов) трудно различить. Но в итоге таких бесов не страшно, их жалко! О том же свидетельствует и финальная деталь: бесы мчатся, «Визгом жалобным и воем / Надрывая сердце мне…» Теперь не страхом полно сердце поэта, а состраданием! Поймем это – захочется перечитать элегию заново. При первом чтении главная деталь, представляющая бесов, – «безобразны» – не может не отталкивать от предмета изображения. Но увидим, что бесы гонимы и несчастны – пожалеем и за безобразие: не они повинны, что такими созданы.
Для поэта бесы – это бесы, не что-либо иное; конкретики в их изображении немного: бесы «безобразны» и, поскольку их много, «разны». Но заключительная строфа, закрепляющая рефрен, содержит емкий словесный параллелизм: «мчатся тучи» – «мчатся бесы» (да еще «в беспредельной вышине», где, кроме туч, и нет места ничему; и что можно различить «в беспредельной (! ) вышине» при относительно низких тучах и снегопаде; и еще обоснование параллелизма: мчатся бесы «рой за роем» – разве не туча за тучей? ). Прибавим и звуковой параллелизм: «вьюга плачет» – «что так жалобно поют?» Как и в случае с ямщиком, речь идет исключительно о природной стихии, но одно и то же видится, осмысливается по-разному; авторский нажим и объективные повествовательные детали взаимодействуют.
Получается: в элегии отчетлив иррациональный элемент, но, как всегда у Пушкина в подобных случаях, дается двойное объяснение загадочного случая или явления, мистическое и бытовое, – на выбор; читатели с разной мировоззренческой основой имеют возможность поставить свои акценты, соответствующие своему сознанию.
В изображении бесов поэт делает акцент не на вид (да и многое ли разглядишь в «мутной» ночи! ), а на звуки (в черновой рукописи вся строфа строилась на звуковых ассоциациях и начиналась восклицанием: «Что за звуки!..»). Природа художественного образа здесь сложная. Итоговый параллелизм (тучи – бесы) дает недвусмысленную подсказку, содержит импульс для сближения (даже отождествления) двух предметных деталей, вначале включенных автономно. Перетекание одного образа в другой позволяет определить этот образ как символ, образ двуплановый, обладающий конкретностью, предметностью и вместе с тем несущий новый, иной смысл; то, что сравнение расшифровывает и демонстрирует, в символе уходит в подтекст.
Понимание своеобразия поэтики «Бесов» – непременное условие для прочтения стихотворения как элегии и как философской рефлексии. Содержательную емкость стихотворения отметил Б. П. Городецкий: «“Бесы” – чрезвычайно многоплановое произведение пушкинской лирики. Это – и реалистическая картина метели, в которой кружится сбившийся с дороги одинокий путник. Это – и итог горьких раздумий Пушкина о путях современной ему России. Это в конечном счете – и стихотворение о самом себе, о своем месте в жизни, о своем отношении к окружающей действительности»[4]4
Городецкий Б. П. Лирика Пушкина. М.;Л., 1962. С. 379.
[Закрыть].
В «Бесах» движение поэтической мысли круговое (точнее – спиральное): кружит по сторонам – закружились бесы. Возвращение к рефрену – как будто возвращение, после круга по полю, к той же самой – отправной – точке путешествия (с которой начиналось повествование); рефрен и предстает как константа, позволяющая заметить завершение одного круга (витка) и начало нового. А в заключительном рефрене как будто нарастает (удваивается) скорость движения: мчатся тучи – мчатся бесы; нарастание скорости позволяет разорвать спираль и по касательной устремиться в какую-то неопределенную перспективу.
Зимний колорит в «Бесах» просто демонстративен, поскольку никак не диктуется реалиями пушкинской жизни (стихотворение написано 7 сентября 1830 года). Только грех требовать от поэта мелочного педантства в отражении жизненных впечатлений; зато внутреннее содержание элегии с абсолютной точностью передает состояние души поэта. Пушкин – на дороге жизни! – перешагнул рубеж тридцатилетия, «полудня жизни», рубеж, на котором «обыкновенно» женятся, он ждет и для себя этого события, круто меняющего сам образ жизни. Ожидание томительно и драматично. Ночной мрак закрывает перспективу.
В «Бесах» медитативность практически сходит на нет, предметная изобразительность претендует на монопольное положение. Однако образный ряд стихотворения перерастает в символ, а это значит, что медитация не исчезает, а лишь уходит в подтекст. В силу этого второй, метафорический смысл проступает и там, где при беглом, поверхностном впечатлении замечается лишь прямое значение слов.
Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам!
Эта реплика ямщика, несомненно, конкретна, но в контексте стихотворения она же вполне ясно обнаруживает глубинное, обобщающее содержание. Когда мы замечаем, что безобразные бесы несчастны и тоже гонимы, возникает необходимость не отделять их от путников, а видеть общее в положении тех и других, что дает возможность и фразу «сбились мы» воспринимать как универсальную, и посвященные бесам строки понимать расширительно: сколько нас? куда нас гонят? что так жалобно поем? В свою очередь, такие наблюдения позволяют подтвердить: в «Бесах» речь идет не о бытовом (только внешне о бытовом) дорожном приключении, но о «дороге жизни», о запутанных, неясных обстоятельствах, в которых трудно разобраться.
Из двух слагаемых, влияющих на ход человеческой жизни (личной воли и внешней, разумом человека не фиксируемой силы), в элегии на первый план решительно выходит вторая. И вовсе не бес нас «кружит по сторонам». Рефреном подчеркнутый разгул стихии («Мчатся тучи…») не только путников сбивает с дороги, но и бесов вовлекает в круговерть, «как листья в ноябре». Что, какая сила разбушевала стихию? Нет ответа, и невозможность найти ответ парализует волю. «Эй, пошел, ямщик!..» – начинает поэт, но, смиряясь, констатирует сам: «Сил нам нет кружиться доле…»
Эмоциональный настрой элегии («страшно поневоле») задан сразу. Вначале акцентировано бытовое обстоятельство («Сбились мы»). Поэт поддерживает бытовой разговор с ямщиком, но когда ситуацию пробует осмыслить сам, бытовой элемент устраняется совершенно. В конце концов, сбились – есть шанс выбраться на дорогу; бытовые неприятности теряют значение перед лицом буквально апокалипсического катаклизма, который тем более страшен, чем менее понятен. Так что страх перерастает в ужас, бытовое начало растворяется, а проступает финал мировоззренческий.
В «Бесах» тревога перерастает в смятение. Почему восприятие жизни как дороги становится все драматичнее? Ведь поэт проявил себя в трудных обстоятельствах мужественным человеком, из жизненных испытаний он выносит опыт не только зрелый, но и мудрый. Однако опыт не только помогает, но и осложняет разгадки бытия. Замечено: чем шире круг знаний человека, тем больше становится точек соприкосновения познанного с непознанным, сложнее делается поиск ответов на вопросы жизни.
В «Бесах» можно чувствовать привкус той горечи, которой пропитано письмо Плетневу 31 августа 1830 года перед отъездом в Болдино: «Осень подходит. Это любимое мое время – здоровье мое обыкновенно крепнет – пора моих литературных трудов настает – а я должен хлопотать о приданом да о свадьбе, которую сыграем бог весть когда. Всё это не очень утешно. Еду в деревню, бог весть, буду ли там иметь время заниматься и душевное спокойствие, без которого ничего не произведешь, кроме эпиграмм на Каченовского». «Бесы» – первые стихи, написанные в Болдине, и они в полной мере отразили смятение поэта (оказывается, в душевном беспокойстве случается производить не только эпиграммы).
«Бесы» написаны на предельном эмоциональном напряжении. Когда сердце надрывается, оно и надорваться может: необходима разрядка. Возможен пассивный исход, какой-то период черной меланхолии с подспудным накоплением новых сил. Кажется, «Бесы» подталкивают именно к этому; угроза нешуточная: нам известно, что в три месяца болдинского заточения обрести душевное спокойствие Пушкину было не дано. Все равно неблагоприятным обстоятельствам поэт сумел противопоставить твердую волю. «Бесы» не сулят великого взлета Болдинской осени, их роль другая. «Бесы» четко и ясно обозначили пропасть на дороге жизни: в этом и значение элегии. Естественная реакция – подальше уйти от опасного края пропасти, найти утерянную дорогу – в элегию не вмещается, это тема других рефлексий, человеческих и поэтических.
Уже ближайшая перспектива выявляет, что Пушкин быстро преодолел смятение «Бесов», хотя для этого и пришлось приложить усилия. Следом за «Бесами» написана «Элегия», где есть тяжелое предчувствие, но и надежда:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































