Текст книги "Лирика: поэтика и типология композиции"
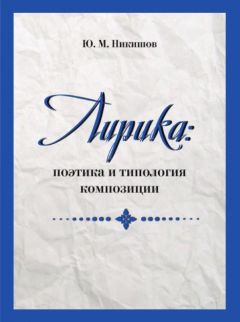
Автор книги: Юрий Никишов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 16 страниц)
С. М. Бонди (1976) попытался защитить традиционное, наиболее распространенное толкование «Памятника»: здесь во главу угла выдвигается строфа четвертая, которая понимается как обоснование поэтом своих реальных заслуг, обеспечивающих ему реальные права на память потомков. Убедительно доказывается общественно-политический характер тезисов четвертой строфы. Как опирающаяся на реальный подтекст пушкинской биографии и определяемая обстоятельствами жизни позиция комментируется строфа пятая. Заметим, однако, что комментарий к пятой строфе слишком лаконичен; главный же аргумент, что позиция Пушкина, выраженная в пятой строфе, находит подтверждение в ряде других произведений поэта, аргумент, сам по себе справедливый, никак не объясняет отмеченное противостояние четвертой и пятой строф.
Таким образом, С. М. Бонди успешно решает часть задачи, восстанавливая в правах серьезность и солидность пушкинской позиции в четырех строфах; толкование пятой строфы здесь как бы автономно, строфа понимается сама по себе, не в контексте стихотворения, но в контексте иных пушкинских произведений и обстоятельств последних лет жизни поэта[17]17
См.: Бонди С. Памятник // Бонди С. О Пушкине: Статьи и исследования. М., 1978.
[Закрыть].
Опять-таки отметим общий принципиальный смысл данной трактовки стихотворения: главное его содержание связывается с четырьмя строфами, контраст четвертой и пятой строф смазывается.
В. С. Непомнящий свою статью о «Памятнике» (1964) назвал демонстративно – «Двадцать строк». Отсюда вытекает главная установка: прочесть «Памятник» как цельное стихотворение. Однако при этом за основу берется пафос пятой строфы, под ее камертон подстраивается (с моей точки зрения, насильственно) звучание всего стихотворения, в том числе и строфы четвертой: ясный общественно-политический ее смысл (убедительно показанный С. М. Бонди) здесь подменяется общегуманистическим смыслом, в частности, восславление свободы раздвигается до гимна «внутренней, духовной свободе»[18]18
Непомнящий В. Поэзия и судьба: Статьи и заметкио Пушкине. М., 1963. С. 26.
[Закрыть]. Думается, «подтягивание» стихотворения к его финалу чревато своими – и немалыми – издержками.
Смысл предлагаемой позиции, вероятно, уже прогнозируем. В концовке «Памятника» можно видеть элемент спиральной композиции. Такой подход позволяет воспринимать контраст четвертой и пятой строф не досадными несогласуемыми противоречиями, но явлением закономерным и художественно выразительным. Единый предмет художественного освоения в «Памятнике» – роль и назначение поэтического творчества (да такого уровня, который позволяет избежать забвения) – здесь рассматривается не в одном, а в двух ракурсах, или, в новом обозначении, на разных витках спирали. Тем самым итоговое стихотворение Пушкина воистину дает синтез сквозной темы творчества поэта.
Влияние спиральной композиции на строй «Памятника» ощущается не только в концовке: постоянно ведется безмолвный диалог текста и обширного подтекста. Начать с того, что в отличие от Державина, написавшего свой «Памятник» в зените славы, Пушкин пишет свой в пору, когда критика возгласила о падении его таланта и уже определила (на замену! ) новых кумиров и в лирике, и в прозе, и в драматургии. Пушкин не публиковал (или не успел опубликовать) стихотворение при жизни; но и много позже, дабы провести стихи в печать, Жуковскому пришлось смягчать острые заявления. Понимания среди современников пушкинский «Памятник» не встретил бы.
А что позволяет говорить о наличии в «Памятнике» подтекста? Ряд заявлений, противоречащих его творческой практике. Расшифровка подтекста – задача деликатная. Не шутка: надобно говорить за поэта! Разумеется, такие суждения не могут выйти за рамки гипотез. Как важно, чтобы они не противоречили логике пушкинского творчества.
Довольно неожиданно (в середине 30-х годов! ) Пушкин включает в число самых важных своих заслуг прославление кумира свободы, да еще в пику жестокому веку. Об этом помнится, что само по себе показательно, только ведь это было давно, в юности. Корни позиции политически активной, гражданственной можно видеть уже в Лицее («Лицинию»). Расцвет ее – в политической, декабристской по духу лирике петербургского периода, в оде «Вольность», в благородном порыве отчизне посвятить «души прекрасные порывы» («К Чаадаеву»). А в «Деревне», при виде уродства крепостного права, даже высказывается недовольство малой действенностью своей позиции («Почто в груди моей горит бесплодный дар / И не дан мне судьбой Витийства грозный дар?»; перспективу открывала мечта: «О, если б голос мой умел сердца тревожить!»).
Но движение по намечавшемуся пути не состоялось. Сказались личные обстоятельства: содеянного поэтом оказалось достаточно, чтобы отправить его в ссылку. Европа при активном участии России вступала в зону реакции; неудачей заканчивались революционные и национально-освободительные движения. И для поэта надвигалась полоса духовного кризиса.
Из кризиса Пушкин выходит духовно окрепшим к лету 1825 года. Важный симптом – элегия «Андрей Шенье». Здесь в уста французского поэта времен Великой буржуазной революции 1789 года вложены и сомнения (зачем он, певец любви и веселья, позволил себе увлечься политическими страстями), и гордое преодоление сомнений. Шенье (и вместе с ним, его устами Пушкин) подтверждает непреклонность своей позиции. Элегия кончается пророчеством позорной гибели тирану. «Андрей Шенье» – свидетельство преодоления Пушкиным своих колебаний в принятии политики декабристов и духовное возвращение в их стан; происходит это в канун восстания.
Кульминация этих исканий, даже после трагедии 14 декабря, – «Пророк». И надо отметить: внутреннее развитие самосознания поэта не совпало с общественно-политической ситуацией. Томимый духовной жаждой поэт обретает способность особо остро видеть, и слышать, и говорить, и чувствовать. В стихах это показано картиной сверхъестественного физиологического преобразования человека. Но есть и параллельное выверенное психологически заявление – в черновике письма Пушкина Николаю Раевскому: «Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, я могу творить». И самое ответственное: чудесные способности обращаются отнюдь не на самопознание, но на исполнение Божьей воли глаголом жечь сердца людей.
А здесь зададим вопрос – с удивлением, что он до сих пор не задавался: где, в каких произведениях поэт повиновался гласу Бога и глаголом жег сердца людей? Ответ получается неожиданным: нигде, ни в каких. Как? Осмелиться нарушить прямой наказ? Или даже собственное решение, но выраженное на высшем уровне категоричности?
Получается, что так. Даже более. Вслед «Пророку» пишется «Поэт и толпа», где финальное требование Бога в «Пророке» дезавуируется. Как раз наоборот: здесь именно толпа выражает готовность выслушать (правда, всего лишь выслушать) «смелые уроки». А поэт заявляет: «Подите прочь – какое дело / Поэту мирному до вас!»
В художественно-эстетическом плане возврата к старому нет. Пушкин закладывает основы новой поэзии, переходит на позиции «поэзии действительности», позиции реализма.
Заметим, что пушкинское требование автономии искусства от «житейского волненья» отнюдь не означает проповеди «чистого искусства», как пушкинскую позицию пробовали трактовать в середине XIX века. Пушкинские творения остаются граждански активными, хотя и по-другому, чем в годы его юности. Они иначе построены и в общении с аудиторией.
Версия о принадлежности Пушкина к движению за создание «чистого искусства» опровергается вопросом: что создал поэт, провозгласив: «Мы рождены для вдохновенья, / Для звуков сладких и молитв»? А он написал «Путешествие из Москвы в Петербург», «Дубровского», «Медного всадника», «Капитанскую дочку», да еще в связке с «Историей Пугачева». Для «чистого искусства» нельзя ли было выбрать что-то полегче?
И все-таки в новых условиях сама собой пресекается мечта «сердца людей тревожить» и жечь их глаголом. Напротив, утверждается и становится доминантной мысль о том, что поэт должен быть независимым, не дорожить любовию народной, блюсти интересы самого искусства. Это сквозной лейтмотив пушкинских размышлений о поэте и поэзии второго этапа развития темы – от стихотворения «Поэт и толпа» (1827) до стихотворения «Из Пиндемонти» (1836), написанного в близком соседстве с «Памятником».
«Памятник» – итоговое произведение. С формальной точки зрения это ясно и так, не требуя доказательств. Но дело в том, что «Памятник» подводит итог двум этапам развития темы. Контрастность двух частей стихотворения тем и вызвана, что и содержание поисков художника (и в силу внутренних причин, но еще более в силу изменения общественного климата) оказалось контрастным.
Элементы спиралевидного характера композиции «Памятника» позволяют понять цельность стихотворения при его внутреннем динамизме. Теперь уже не воспринимается невероятным, что контрастные пушкинские высказывания вполне равноправно сосуществуют. И все-таки – как не сопоставить! Вот предыдущее наставление: «Поэт! не дорожи любовию народной». Вот соседствующее: «Зависеть от царя, зависеть от народа – / Не всё ли нам равно? Бог с ними. Никому / Отчета не давать, себе лишь самому / Служить и угождать…» Совместимо ли с ними «долго буду… любезен я народу»? К памятнику «не зарастет народная тропа»?
Между тем эти утверждения не противоречат друг другу. О народной (и желанной поэту! ) любви в «Памятнике» говорится не в настоящем, а в будущем времени. Поэт не пригибается перед неграмотным народом; это народу надо дорасти до своего поэта. Поэта признáет своим внук славян, когда научится гордости (или укрепится в ней), тунгус, когда избавится от дикости, в которой «ныне» пребывает[19]19
«К зырянам Тютчев не придет»: явно от пушкинских строк отталкивается это пророчество Фета. Желающие могут сопоставить дальновидность этих контрастных пророчеств.
[Закрыть]. Это условие жесткое. Народ, какой он ни есть, темный, непросвещенный, существует, это сила, и поэт сторонится ее. Он оптимист, верит в грядущее возрождение народа, но только при этом условии готов принять народную любовь.
Можно ли одновременно ставить целью быть любезным народу и возглашать равнодушие к народному мнению? С позиции формальной логики это алогизм. Но Пушкин дает урок логики диалектической. Несоединимое оказывается равнозначно истинным, если воспринимать контрастные суждения с одной и с другой стороны (или, в стиле нашего подхода, с ближнего и с удаленного витков спирали). Обиды не страшась, не требуя венца, делай свое важное дело. Может быть, обжигай сердца людей, но не лучше ли так, чтобы они не чувствовали боли ожога и все-таки поддавались внушению добрыми чувствами поэта.
«Памятнику» суждено было стать подлинным синтезом длительных и сложных исканий Пушкина в определении целей и существа главного дела его жизни.
Обобщая сказанное о спиральной композиции, заметим, что спиральную композицию можно считать своеобразной формой скрытой антитезы. Здесь на самом деле нет формальной противопоставленности тезиса и антитезиса, однако есть их реальное противостояние. Посредством спиральной композиции дается изображение сложного, диалектически противоречивого предмета – непременно с одной и с другой (противоположной) стороны. В антитезе контрастность сторон подчеркнута, в спиральной композиции – стерта. Однако видеть эту реальную контрастность частей стихотворения нужно, понять характер взаимосвязи этих частей должно: здесь путь углубления в содержание стихотворения.
АССОЦИАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ
Ассоциативная композиция особняком по основанию вычленения (впрочем, мы не отходим от принципа установления взаимодействия частей стихотворения по содержанию). Предшествующие типы имеют то единство, что в основе их внутреннего движения – движение авторской мысли. Иными словами, описанные выше типы композиции – это преимущественно разновидности логической структуры (несколько особняком – пространственный тип линейной композиции, где в основе – последовательность описания, но и в описании есть логика). В основе ассоциативной композиции лежит иной принцип – развертывание поэтического образа. Целое складывается как сочетание поэтических деталей; переход от одной к последующим осуществляется именно по цепочке ассоциаций.
Поясним ассоциативный тип композиции текстами раннего Маяковского, двумя стихотворениями из цикла «Я». Первое, начальное, уместилось в одно четверостишие.
По мостовой
моей души изъезженной
шаги помешанных
вьют жестких фраз пяты.
Где города повешены
и в петле облака
застыли
башен
кривые выи —
иду
один рыдать,
что перекрестком
распяты
городовые.
Композиция, основанная на логически четких рассуждениях, воспринимается сравнительно легче. Однако и «странные», непонятные образы раннего Маяковского становятся доступнее, когда читатель овладевает ключом к ним, постигая «лабиринт сцеплений».
Первая фраза стихотворения, вынесенная на отдельную строку («По мостовой…»), нацеливает на восприятие городского пейзажа. Уже вторая фраза (тоже занимающая строку) опрокидывает складывающееся представление. Выясняется: речь идет не о городе, а о душе человеческой; «мостовую» не надо воспринимать в прямом смысле, это метафора. Но метафора носит развернутый характер; возникают два поступательных ряда образов, один из которых накапливает, наращивает признаки города, другой – качества человеческой души. Однако слитность, нерасчлененность этих рядов выявляет, что тема стихотворения – не просто «я» и «город», но «я – город», «я как город».
Когда понимаем это, когда обнаруживается связь переходов образа от одного ряда метафор к другому, тогда проступает закономерность в странном, алогичном – на первый взгляд – художественном мире поэта. Если душа – мостовая, естественно, что она изъезженная, естественно, что здесь звучат шаги. Но в самом уподоблении души мостовой – страдание и боль, метафора отражает ненормальные связи человека с миром; отсюда не просто шаги прохожих, но шаги помешанных. И все-таки душа, а не просто мостовая; поэтому здесь слышны не звуки шагов, а голоса, жесткие фразы.
Но и образ мостовой продолжает поставлять свои оттенки; поэтому шаги, а не просто голоса, сохраняют реальность; слуховой образ переводится в зрительный: у шагов-голосов различаются пяты жестких фраз (смысл образа затемнен инверсией, непривычной расстановкой слов: «вьют жестких фраз пяты»).
Тема «я – город» в стихотворении-четырехстишии Маяковского проходит двухэтапное решение. В первой строке, графически расчлененной начетверо (она образует отдельное предложение), создается единый образ, где признаки души и города нерасчленимы, переходят одни в другие, обмениваясь оттенками. В последующем тексте стихотворения, также составляющем одно предложение, «я» и «город» обособляются: уродливый, страдающий, мертвенный городской пейзаж образует фон переживаниям поэта, миссия поэта – выразить страдание («иду один рыдать…»).
Детали городского пейзажа кажутся хаотичными, порожденными болезненным воображением (помнятся же «шаги помешанных»! ). Между тем описание чрезвычайно упорядоченное – как по эмоциональной окраске («города повешены», «перекрестком распяты городовые»), так и по композиции. Описанный пейзаж можно наблюдать (или представить себе) с одной точки – скажем, из верхнего окна высокого дома. Тогда и экстравагантное «города повешены» становится зримым: низкая облачность, закрывающая крыши высоких домов и шпили башен, – не каждодневное, но и не исключительное явление; поэтому эмоционально насыщенная деталь – башни в петле облака – деталь наблюдаемая, а не просто плод безудержного воображения; единственное гротесковое преувеличение здесь в эпитете «башен кривые выи» (можно заметить, что Маяковский идет здесь не от «натуры», а от живописи кубистов, часто прибегавших к деформации зримого облика предметов). С высокой точки стояния взгляд вверх, на шеи башен, затем вниз – и тогда опять-таки жизнеподобно воспринимается распятием перекресток улиц.
Внешне хаотичные, неправдоподобные образы раннего Маяковского на поверку оказываются весьма упорядоченными, может быть, даже рационалистичными, стоит лишь вникнуть в «лабиринт сцепления» этих образов. Непонятное отпугивает, тогда как непонятное – при старании – может быть понято, обогащая читателя.
Второе стихотворение цикла «Я» – «Несколько слов о моей жене».
Морей неведомых далеким пляжем…
Если бы не настораживающий эпитет «неведомых», начальная строка вполне могла бы восприниматься описанием реальной бытовой обстановки, где, как обещает заголовок, разыграется эпизод семейной драмы (что именно драмы – предвещает эмоционально напряженный колорит вступительного стихотворения цикла). Но эпитет не обманывает: очень скоро обнаруживается – начальную строку (как и мостовую в первом стихотворении) надо принимать не буквально, а метафорически:
…идет луна…
Становится ясно, почему моря «неведомые»: так воспринимается ночное небо. Проясняется и смысл второй детали начального образа. Как естественна связь море – пляж, так естественна связь небо – звезды, равно как и ассоциация пляж – песок – песчинки – россыпи звезд.
Однако метафорический ряд еще не завершен:
…идет луна – жена моя.
Моя любовница рыжеволосая.
Теперь проясняется парадокс названия. Напрасны ожидания изображения бытовой истории. Ее не будет, потому что и семьи в бытовом смысле у поэта нет. Поэт одинок, а то, что об этом сказано не прямо, а через опровержение противоположного, разве не оставляет сильного воздействия именно неожиданностью переходов?
Еще оксюморон: жена – и вдруг любовница. Но что поделать: речь идет не о реальных отношениях; реальность (одиночество поэта) драматична, отсюда и болезненность воображения, стык несоединимого.
Выясняется, что в приведенном описании только один реальный предмет (луна в небе); все остальное – воображение художника.
Вначале ход поэтической картины шел от общего, грандиозного, космического к частному, близкому, родному для человека. Окончание четверостишия идет обратным ходом, тем более, что близкое и родное (жена) не буквально, а метафорично; концовка сохраняет заданные темой бытовые детали, но возвращает картине космический антураж.
За экипажем
крикливо тянется толпа созвездий пестрополосая.
Второе четверостишие дополняет и завершает начатую картину. Ключ найден, он сохраняется: коли жена – не настоящая, а космическая, образ и строится на совмещении признаков; пополняется ряд космических деталей, с другой стороны – деталей городского быта; то и другое проецируется на бытовое поведение женщины.
Венчается автомобильным гаражем,
целуется газетными киосками,
а шлейфа млечный путь моргающим пажем
украшен мишурными блестками.
Второе стихотворение цикла «Я» по содержанию строится существенно иначе, чем первое. Тема первого стихотворении начиналась на совмещении «я – город», «я как город» и шла к разобщению «я и город». Поскольку во втором стихотворении объявлен объективно отстоящий предмет, он лишь косвенно связан с лирическим «я» и воспроизводится именно как объект, взглядом извне. Правда, в силу метафоричности заглавного образа скоро выясняется, что стихотворение ставит ту же философскую тему, еще шире раздвигая ее: вместо «я и город» – «я и мир, Вселенная, космос». Но и «городская» тема не снята, поскольку поэт – горожанин: бытовая проекция несет именно городской колорит.
Тема «я» в первых двух четверостишиях (это половина объема стихотворения) внешне отсутствует, проявляясь опосредованно и косвенно, только в той степени, в какой по «жене» можно судить о «муже».
Далее происходит резкое переключение темы.
А я?
Строка графически выделена. Это именно строка (не полустишие, не просто вынесенная отдельно фраза, предтеча «лесенки» стиха Маяковского): ее нельзя интонационно подверстать к соседним строкам. Строка не имеет рифменных связей, это оригинальный композиционный раздел. С объекта-картины внутренний акцент переносится на субъект, на его состояние. Впрочем, следует оговорить двуплановость: в стихотворение включается тема «я», но оно продолжает развертываться как описание заглавного объекта. Теперь в это описание вносятся новые краски.
Несло же, палимому, бровей коромысло
из глаз колодцев студеные ведра.
В шелках озерных ты висла,
янтарной скрипкой пели бедра?
Близкое присутствие «я» отчасти «заземляет» образ «ты»: впервые в нем проступают человеческие черты. Маяковский не стремится строго выдерживать стилистику образа: скрипка бедер – деталь резко иного стилистического плана, чем бровей коромысло, глаз колодцы, да и озерные шелка; раздвигается преобладающий «сельский» колорит деталей. Маяковский продолжает мыслить широкими категориями; даже заземляя образ, приближая его к себе, к своему человеческому облику, Маяковский сохраняет тему страдальческого одиночества: «близкое» остается далеким, «сельские» детали образа выполняют роль контраста «городскому» колориту быта «я». Да, земные детали ближе, чем космические, но по-прежнему нам не дано забыть, что поэт одинок, что его «жена» – воображаемая.
Итоговое четверостишие окончательно переключает внимание на состояние «я»:
В края, где злоба крыш,
не кинешь блесткой лесни.
В бульварах я тону, тоской песков овеян:
ведь это ж дочь твоя —
моя песня
в чулке ажурном
у кофеен!
Тема трагической разобщенности людей, трагического одиночества поэта нашла здесь прямое выражение, в форме непосредственной лирической медитации. Поэтические детали усиливают выражение страдания. «Я» разобщен с «женой» – и тоскует, гибнет. Круг близких, круг «семьи» расширяется: появляется «дочь», однако и этот образ усугубляет тему страдания, вместо того, чтобы умерить его…
Тема «я и мир» решена Маяковским в резко конфликтных тонах: «я» тянется к миру, жаждет видеть его родным и близким – и наталкивается на враждебное отчуждение.
В художественном решении поэт не исключает прямых медитаций, но преимущественно рисует картину мира. Картина развертывается неторопливо. Поэтические детали резки, колоритны, задерживают на себе внимание. Связать их в целое, в панораму помогают отчетливые между ними ассоциативные отношения.
Ассоциативный путь развертывания поэтического образа (соответственно – выстраивания композиции произведения) получил активное развитие в современном поставангардизме. Тут очень легко оступиться в болото формализма. Форма – святая забота художника. Но нельзя отступать от главной задачи: участвовать в поэтическом познании мира и человека. Иначе поэзия превратится в вид спортивного состязания: какие еще неожиданные ходы может сыскать человеческая фантазия…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































