Текст книги "Лирика: поэтика и типология композиции"
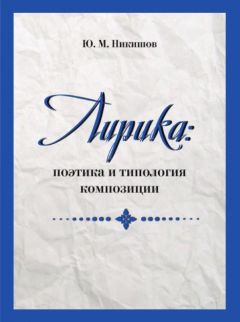
Автор книги: Юрий Никишов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)
Читаю овсяные строки,
И губы – в горячем меду.
Под знаменем певчей литовки
В глубокие травы иду.
Сгораю в июльской плавильне.
И счастлив на все времена,
Когда косолапый навильник
Кладет на лопатки меня.
Лежу, оплетенный вьюнками,
Омытый волной ветровой,
И тополь, зеленый и рваный,
Раскрыт над моей головой.
На дне обмелевшего луга
Смыкается звездная мгла.
Еранцев выстраивает свой поэтический мир (разумеется, это задача не для одного стихотворения). Этот мир четко ориентирован по вертикали. Нижняя опора – земная, символ благополучия – глубокие травы. Верхняя опора, идеал – звезда, когда в мире благополучие – голубая. Полюса раздвинуты, но не противостоянием, они связаны силовыми линиями. В этом стихотворении особенное: земное и небесное смыкается «на дне обмелевшего <после того, как будет скошенным> луга».
И при такой смелости поэтического мышления совершенно неожиданно – робкая концовка!
И снова в литовке и плуге
Ищу очертанья крыла.
Еранцевское зрение удивительно проницательное, оно умеет обнаруживать неожиданные, парадоксальные связи между предметами; вот хотя бы несколько – на выбор – примеров остроты его поэтического зрения: «Печь, присев на четыре лапы, / Красным дразнится языком»; «А в глыбе ночи яростный прожектор / С размаху прорубает коридор»; «…на поле горбится солома, / Как в пересохшем море острова»; «А на столбах фарфоровые голуби / В промерзших клювах держат провода»; «Телевизорные грабли / В небе тучу ворошат»; «И крест-накрест собственными крыльями / Заколочен старенький ветряк».
Почему же в приведенном двустишии мысль останавливается перед, казалось бы, очевидным? Видеть в косе и плуге очертанья крыла доступно обычному, бытовому воображению. Да ведь в начальном эпитете («Под знаменем певчей литовки»: а коса траву срезает, подсвистывая) уже заложена прямая ассоциация. Почему же в концовке заключение дано через посредство «робкого» глагола «ищу»? А нахожу ли? Вопрос открытый. Но тут разве трудно найти ответ? Допустим – так. Но это мы приходим к решению, обдумав ситуацию; Еранцев против бездумных ответов.
Процитирую – с попутным комментарием – еще одно стихотворение такого типа.
Снег не сеет, дожди не молотят,
Через проруби дышит река…
У Еранцева часто встречается изображение предмета через отрицание признака; так называемый «минус-прием» позволяет вполне осязаемо нарисовать картину межсезонья поздней осени. Здесь же видим обычный для поэта способ возвращенья слову первородной образности, которая затерлась и утратилась в бытовом обращении. «Снег не сеет» – поначалу воспринимается как бытовое – не сеется, не просеивается. В контексте же слово метафорично и означает активное, человеческое, «производственное» – не ведет сев. Образ задает именно такой тон, выстраивает ряд образов аналогичных: «дожди не молотят». «Не молотят», точное по слуховым ассоциациям, опять-таки активное, метафоре возвращающее прямой, начальный смысл слова: если уж ведется сев, то и урожай собирают. Причем отрицательная конструкция фраз (не сеют, не молотят) как раз удачно снимает возможность излишне прямых бытовых уподоблений.
Что же происходит в это межсезонье? Осенью обычно обострялись элегические настроения Еранцева. То же – и здесь.
Выручайте меня, самолеты,
Поднимите меня в облака.
Линия медитации начинает обретать нереальные, мечтательные черты, а между тем в необычной форме здесь вновь проявляется характерная еранцевская антитеза верха и низа, проходящая через ряд стихотворений, где низ – земное, теплое, родное, а верх – возвышенное и идеальное.
Что же делает поэт в облачных высях, в поисках идеального?
Возле острова, зыбкого с виду,
Возле рощи с орлиной судьбой
Я один, без товарищей, выйду,
Тихо дверцу прикрыв за собой.
Облачное похоже и не похоже на земное. Здесь вроде бы та же роща и не та – с орлиной судьбой.
Читаем дальше.
Подскажу запоздалым казаркам,
Как вернуться к вечерней земле…
Казалось бы, поэт отрешается от земных забот – не тут-то было: доброе сердце поэта ничуть не менее полно соучастия, оно готово оказать посильную услугу земным существам даже в столь необычной ситуации.
И, наконец, концовка:
И в ворота воздушного замка
Буду долго стучаться во мгле.
В сущности, вместо итогового вывода – именно разомкнутость, вместо ответа – серия открытых вопросов. А отворят ли ворота? И если отворят, обретет ли в воздушном замке желанный покой поэт, которого даже у порога замка отнюдь не покидают земные заботы? Вот на такие вопросы (мало сказать – трудно) возможно ли получить ответы?
Недоговоренность этой группы стихотворений не менее содержательна. Читатель как бы приглашается к совместному размышлению. Поэт не приемлет роль всезнайки, обладателя готовых ответов на все случаи жизни. Голос поэта обретает мягкость, доверительно интимную задушевность. Он не фальшивит.
Вот одно из самых светлых, целеустремленных стихотворений Еранцева:
Расправлены плечи и в сердце прибой,
Когда нарождаются травы и дети,
Когда на курган, от полыни седой,
Взлетает, как всадник, разгонистый ветер.
И в поле под черные крылья пластов
Дождями ложатся веселые зерна,
И парус зеленый для лодки готов,
И солнце трубит в пионерские горны.
Свистят узловатые снасти берез,
И первые листья, как первые брызги,
И гром молодой за живое берет…
Экспрессивно набрасывая картину весеннего обновления жизни (весна – его любимое время года), поэт поднимает голос до пафоса:
И хочется взлета, и хочется риска.
Концовка стихотворения посвящена самому высокому в жизни человека – родине.
А родина слышит, тревожит: «Пора!»
А родина, радугу вскинув на плечи,
Как ведра, несет голубые моря…
Между прочим, множество раз в стихах поэты называлиродину матерью. Еранцев увидел родину как мать, притом образ по-человечески утеплился и нисколько не потерял своего величия; грандиозное и обытовленное сочетаются с полной органичностью.
А в финале опять снижение тона:
И только шагнуть остается навстречу.
Сдержанность заключительной строки дорогого стоит. Мало ли мы читали стихов с клятвенными патриотическими заверениями, за которыми не было ни дела, ни чувства. Выйти навстречу родине – для этого мало простого желания. Для этого нужно чувствовать за собой силу, внутреннюю уверенность в праве говорить с родиной один на один. И обретая такое право, человек не выставляет его на показ. Сознательно приглушенный голос Еранцева, мужественная сдержанность поэта – свидетельство высокой ответственности перед читателем за каждую поэтическую строку.
Тип разомкнутой композиции вначале предстал перед нами как преобразование и усложнение антитезы. Однако базис антитезы возможен, но не обязателен. Так, в стихах Еранцева можно наблюдать сознательную недоговоренность: читателю оставлена задача довершить мысль (это не обязательно антитезис) или объяснить неожиданную, парадоксальную мысль.
В заключение отметим, что сама ситуация (намерение – результат) многовариантна по сути своей. Выберем не такой, когда задуманное не получилось, и это вызывает досаду, но такой, когда результат, хоть и в ином виде, даже в иной логике, воспринимается вполне приемлемым. Обратимся к стихотворению Алексея Еранцева «Кирпич».
Изваяньем, превозмогшим дрему,
Стать хотел он. И пришла пора:
Вынули его тяжелым комом
Из земли, из-под ее ребра.
Обогрела колыбель ладоней,
Закалила яростная печь,
Чтобы смог он
С каплей пота вровень
Первым в стену будущую лечь.
Только где-то в прокаленных гранях,
Как в коробку заключенный шмель,
Дрогнуло и стихло изваянье,
Стать которым так и не сумел.
Может, стал бы,
Но громада дома,
Высока, чеканна и светла,
Не ему б на плечи, а другому
Всей своею тяжестью легла.
Символический смысл стихотворения внятен, прозрачен. Ком глины – мертвая природа, он не испытывает ощущений, ему решительно без разницы, лежать ли под ребром земли, или быть обработанным, сформированным, прокаленным. Желания, задумки – это человеческая прерогатива.
Поэт рассматривает альтернативу: желание претенциозное, по форме штучное (о, индивидуальное) – и результат обезличенный, массовый (с индивидуальным предпочтением, которое другим и незаметно, принять основную тяжесть на себя). Второе, реальное принимается как должное, без каких-либо иронических оттенков.
Надо сказать откровенно: идеологически стихотворение принадлежит советскому этапу нашей истории, который ныне осмеивается, окарикатуривается. Теперь развелись собственники-индивидуалисты, которым невдомек, что понятие «наше» выше, благороднее, чище, чем «мое».
Итак, в разомкнутой композиции изначально цельный образ расслаивается. Читатель не сразу улавливает это расслоение, причем стереотип мышления направляет предощущение по ложному пути, заставляя ожидать логически напрашивающегося завершения. Однако вместо формальной логики возникает логика диалектическая. Предмет обнаруживает свои различные грани, как правило, противоречивые: мир выявляет свою многомерность. Мысль поэта вскрывает неожиданные связи предметов, придает изображению стереоскопичность, проникает в глубинное содержание жизненного процесса и человеческого состояния.
Композиционный парадокс
Неожиданность, «нелогичность» концовки – общее свойство разомкнутой композиции. Оно может возрастать до степени парадокса, который у поэтов нередко выступает отдельным поэтическим образом, а разрастаясь – обретает композиционное значение. Парадокс – глубокое и странное неожиданностью рассуждение, которое, на первый взгляд, противоречит здравому смыслу.
Для разгона возьмем решетовское стихотворение.
Отец мой стал полярною землей,
Одной из многих
золотой крупинкой.
А я хотел бы,
в мир уйдя иной,
Вернуться к вам зеленою осинкой.
Пусть в гости к ней приходят грибники,
И целый день
звенит в листве пичуга.
А эти вот надежные суки —
Для тех, кто предал
правду или друга.
Тут нет надобности размышлять, насколько реально желание посмертного возвращения; это – всего лишь форма мечты, в которой отчетливо прорисовывается фактическая жизненная позиция поэта. Для понимания этой позиции требуется приглядеться, что включено в состав мечты. Вначале идут два незатейливых, но симпатичных пожелания. Возникает ситуация ожидания. Опыт не обманет: надо ждать объявления третьего слагаемого, там – главная суть. У Решетова происходит резкая смена тона: вместо завершения добрых пожеланий – угроза предательству.
Итоговый парадокс раскрывает реальную сложность и противоречивость явлений. Стихотворение включает разнополюсную тональность потому, что так устроена жизнь.
А нельзя ли выбрать что-нибудь пооптимистичнее? Отчего же нельзя – вполне можно! Возьмем пушкинское, хрестоматийное.
Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.
Это стихотворение необычно по содержанию. Оно (легко устанавливается) – прощальное. Такое бывает: любовные отношения не складываются, разлука, хоть и вынужденная, становится неизбежной. Разлуки редко бывают мирными, чаще они конфликтны. Это стихотворение поражает великодушием.
Как видно, здесь расставание происходит по взаимному согласию, потому и нет каких-либо упреков. Впрочем, мы можем судить только о чувствах поэта: героиня стихотворения присутствует здесь только как адресат послания; даже косвенного сообщения, что она чувствует, нет. Момент признания выбран такой, когда чувство поэта угасло еще «не совсем». Сказано об этом предположительно («быть может»), но можно ли поставить признание под сомнение, если в восьми строках стихотворения трижды (! ) звучит напоминание: «Я вас любил…» Это былое чувство и описывается! Что это: таков темперамент поэта – или подспудное сожаление об утрате чего-то душевно очень дорогого? Наверное, вероятнее второе.
Видеть это необходимо для того, чтобы оценить значительность концовки, масштабность пушкинского гуманизма. Это и в заботе о партнерше («Я не хочу печалить вас ничем»). Еще более – в великодушном пожелании ей встретить новую любовь не меньшего размаха.
Сопровождением расставанию обычно выступает ревность. Абсолютное искоренение этого злого эгоистического чувства и определяет уровень пушкинской «лелеющей душу гуманности» (Белинский).
Кажется, явленный уровень гуманного отношения к партнерше тут таков, что его невозможно превысить. Но это – на любительский взгляд. И как тут угадать возможности поэта?
Вот стихотворение Решетова. Тут тоже восемь строк.
И когда мои очи уже остывали
И прощальные слезы текли из-под век,
Я, теряя сознанье, подумал: едва ли
Был счастливей меня на земле человек.
Потому что (хотя ты меня не любила,
Избегала меня наяву и во сне)
Ты жила, ты дышала – и этого было
Для великого счастья достаточно мне.
Какова фантазия поэта: поэтически осмелиться прожить последние мгновения жизни! Стихотворение не только кончается, но и начинается парадоксом. Человек, «теряя сознание, подумал…» – и в последний момент перед окончательным обрывом сознания приходит мысль четкая и ясная по форме и уникальная по содержанию. Героиня стихотворения не жаловала поэта, избегала его; поэту «для великого счастья» оказалось достаточно, что она просто была. Такая степень бескорыстия парадоксальна. Будем знать: мысль поэта может достигать и таких высот.
Триада
По смыслу слова, триада – трехчастная композиция, понятно – не всякая трехчастная: здесь важно не только число, но и особый характер соотношения частей. Имеется в виду гегелевская триада, поясняющая закон отрицания отрицания. Соответственно три части композиции такого рода стихотворений выполняют роль тезиса, антитезиса и синтеза.
Применимы ли философские категории к произведениям искусства? Почему же нет, если они реализуются в художественной практике.
К слову, под таким углом зрения может быть рассмотрена композиция «Деревни». Вслед за вступлением легко выделить тезис (в теме деревни – «Везде следы довольства и труда», в теме поэта – «Учуся в Истине блаженство находить»). Очевиден и антитезис (соответственно «Везде Невежества губительный Позор» и «О, если б голос мой умел сердца тревожить»). Однако заключительное четверостишие («Увижу ль, о друзья, народ неугнетенный…») выводит композицию на трехчастный уровень. В итоговом четверостишии допустимо видеть синтез: надежду поэта на возможность преодоления обрисованного конфликта.
Трехчастные композиции, возникающие на базе антитезы или параллелизма, в поэзии существуют и заслуживают особого разговора. По смыслу они ближе всего к разомкнутым композициям; разница в том, что разомкнутые композиции двухчастные, а лишь подразумеваемый или вовсе невозможный в разомкнутой композиции синтез в триаде поэты озвучивают сами.
Вот стихотворение Александра Твардовского, которое поначалу развертывается как параллелизм.
Листва отпылала,
опала, и запахом поздним
Настоян осинник —
гарькавым и легкоморозным.
И далее выстраиваются в ряд эти неторопливые двустишия, играют внутренней рифмой, где хочется – преобразуются в четверостишия, деталь за деталью воссоздавая, с трепетной нотой светлой печали, картину осени.
Последними пали
неблеклые листья сирени.
И садики стали
беднее, светлей и смиренней.
Как пот, остывает
горячего лета усталость.
Нет ничего удивительного, что наступает ассоциативный переход к миру человеческой жизни:
Ах, добрая осень,
такую бы добрую старость:
Чтоб вовсе она
не казалась досрочной, случайной,
И все завершалось,
как нынешний год урожайный;
Чтоб малые только
ее возвещали недуги
И шла бы она
под уклон безо всякой натуги.
Удивительное здесь только в драгоценном чувстве меры поэта: пять строк воспроизводят картину осени, ровно столько же ведут обратным ходом к картине умиротворенной осени-старости. Здесь, допускаем, была бы возможна и итоговая точка. И было бы стихотворение, привлекающее рельефностью деталей, но – как бы сказать – геометрически холодное и окропленное розовым сиропом лести человеческому самолюбованию. Не таков Твардовский. Там, где чувство меры позволяет ожидать границу, возникает не концовка, но принципиальный рубеж стихотворения – отменяющее композиционный параллелизм итоговое двустишие:
Но только в забвенье
тревоги и боли насущной
Доступны утехи
и этой мечты простодушной.
Выясняется, что стихотворение не двух– (как по схеме параллелизма), а трехчастное и главная часть – финал. Нет ничего предосудительного в человеческом уподоблении жизни своей жизни природы, тем более что человек и есть часть природы, и сам Твардовский называет мечту о старости-осени «простодушной». Можно быть снисходительным к подобной мечте, но мужественнее от нее отказаться. Человеку – в отличие от других живущих на земле – дана еще и возможность осмыслить самое жизнь: способность мыслить – дар, но и крест, ибо неприлично «забвенье тревоги и боли насущной».
Поэт обстоятельно и азартно рисует умиротворение последнего этапа человеческой жизни – чтобы (при всей его обаятельности! ) от него отказаться. Поэт не иронизирует над читателем: он серьезен в каждой строке. Финал носит характер катарсиса: драматизм заключительной мысли преодолевается, высветляется сознанием причастности поэта (и читателя, кто разделяет его чувства) к высшим духовным ценностям человеческой жизни: в этом и только в этом достойная компенсация неизбежных страданий при расставании человека с жизнью.
Триаде ничуть не обязательно приспосабливать к своим целям иные структуры (как параллелизм в стихотворении Твардовского). Ее собственная структура (тезис – антитезис – синтез) уже обещает композиционный строй. Рассмотрим стихотворение Алексея Решетова «Белый лист».
О белый лист, поэту ты претишь.
Так белый флаг немыслим для солдата.
Так белой ночи давящая тишь
В рыданиях девичьих виновата.
Стихотворение начинает антитезис: сквозной для стихотворения («заглавный») эпитет дан в наборе предметов, символизирующих то, что поэт отрицает.
Тотчас противопоставляется тезис:
Но полон чуда, веры, торжества
Тот миг, когда естественно и просто
Приходят вдохновенные слова
На лист, необитаемый, как остров.
Позиция поэта определилась полностью, критерии оценок решительны и предельно ясны. Стихотворение закончено? Нет: субъективное проходит проверку объективным. Позиция поэта вызывает горячее сочувствие, но она – желаемое, а желаемое не всегда, не просто, не без потерь становится действительным. Идеальное поверяется жизнью.
О белый лист – как белое чело,
Как белые больничные постели,
Как белый снег, что рухнул тяжело
От выстрела на пушкинской дуэли…
Белый лист – плохо, исписанный лист – благо. Но вот горькие условия, когда листы остаются белыми; это трагично – но это реальность; приходится скорбеть, но отменить взятые на выбор (и подобные им) ситуации выше человеческих возможностей.
Триада возникает в художественном отражении таких сложных жизненных ситуаций, где антитезы оказывается недостаточно: проходит контроль позиция поэта, и художник имеет мужество признать, где и в чем его позиция (на первый взгляд – безупречная) обнаруживает слабость.
Весьма своеобразна триада в элегии Василия Жуковского «Море»: море спокойное – море взволнованное – море успокаивающееся.
Безмолвное море, лазурное море,
Стою очарован над бездной твоей.
Ты живо; ты дышишь; смятенной любовью,
Тревожною думой наполнено ты.
Безмолвное море, лазурное море,
Открой мне глубокую тайну твою:
Что движет твое необъятное лоно?
Чем дышит твоя напряженная грудь?
Иль тянет тебя из земныя неволи
Далекое, светлое небо к себе?..
Таинственной, сладостной полное жизни,
Ты чисто в присутствии чистом его:
Ты льешься его светозарной лазурью,
Вечерним и утренним светом горишь,
Ласкаешь его облака золотые
И радостно блещешь звездáми его.
Поэт задает вопросы морю, но оно безмолвно; ответы поэт находит сам. Он полагает гармоничными отношения спокойного моря с ясным небом. Таков тезис элегии.
Но временами тучи закрывают небо…
Когда же сбираются темные тучи,
Чтоб ясное небо отнять у тебя —
Ты бьешься, ты воешь, ты волны подъемлешь,
Ты рвешь и терзаешь враждебную мглу…
И мгла исчезает, и тучи уходят…
Антитезис излагается кратко. Хотя поэт сам обозначает, что пишет элегию, сгущать краски он не желает.
Но, полное прошлой тревоги своей,
Ты долго вздымаешь испуганны волны,
И сладостный блеск возвращенных небес
Не вовсе тебе тишину возвращает;
Обманчив твоей неподвижности вид:
Ты в бездне покойной скрываешь смятенье,
Ты, небом любуясь, дрожишь за него.
Синтез прописан в элегии наиболее интересно. Картина, как положено, возвращается к начальной, но не копирует ее – тогда бы движение шло по кругу, а оно идет по спирали. Пережитое не исчезает: оно оставляет заметный след. Такова диалектика.
Заболоцкий в стихотворении «Некрасивая девочка» идет чрезвычайно трудным путем. Поэт прямым текстом ставит философскую проблему («что есть красота…»), но четкие умозрительные размышления заменяет эмоциональными картинами. Более того, он не боится, что его эмоциям очень даже могут противостоять бессознательные эмоции совсем другого содержания.
Стихотворение самим автором разделено (пробелом) надвое. Начало вне философской схемы, портретно: оно необходимо как материал для последующих размышлений.
Среди других играющих детей
Она напоминает лягушонка.
Заправлена в трусы худая рубашонка,
Колечки рыжеватые кудрей
Рассыпаны, рот длинен, зубки кривы,
Черты лица остры и некрасивы.
Двум мальчуганам, сверстникам ее,
Отцы купили по велосипеду.
Сегодня мальчики, не торопясь к обеду,
Гоняют по двору, забывши про нее,
Она ж за ними бегает по следу.
Чужая радость так же, как своя,
Томит ее и вон из сердца рвется,
И девочка ликует и смеется,
Охваченная счастьем бытия.
Уже очень простое название стихотворения производит впечатление оксюморона, соединения несоединимого. Художник верен правде жизни и заглядывает туда, куда глядеть охотников отнюдь не переизбыток (изыски декадентов не в счет). Что поделать, если эта девочка – внешне – некрасива…
Бытовой портрет, бытовая сценка – и такой мощный разбег концовки фрагмента: счастье бытия. Логичный переход к философским размышлениям.
Тут неизбежно столкновение тезиса и антитезиса. Но азарт поэта силен, ему так не хочется выводить героиню из зоны счастья бытия! Он дополняет портрет еще одной строфой.
Ни тени зависти, ни умысла худого
Еще не знает это существо.
Ей все на свете так безумно ново,
Так живо все, что для иных мертво!
Но и через «не хочу» приходится воспроизводить горький антитезис.
И не хочу я думать, наблюдая,
Что будет день, когда она, рыдая,
Увидит с ужасом, что посреди подруг
Она всего лишь бедная дурнушка!
Такое состояние фиксируется, но не развертывается – по двум причинам. Художник надеется на внутренние силы героини, которые позволят преодолеть трудную ситуацию. Он хочет верить, что победит внутренняя красота, которую его проницательный взгляд четко различает.
Мне верить хочется, что сердце не игрушка,
Сломать его едва ли можно вдруг!
Мне верить хочется, что чистый этот пламень,
Который в глубине ее горит,
Всю боль свою один переболит
И перетопит самый тяжкий камень!
И пусть черты ее не хороши
И нечем ей прельстить воображенье, —
Младенческая грация души
Уже сквозит в любом ее движенье.
И следует, как положено в триаде, синтез, но, как и другие компоненты, он в этом стихотворении необычен, поскольку завершается не утверждением, а вопросом:
А если это так, то что есть красота
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?
Относительно характера авторской позиции гадать не приходится, она выражена отчетливо. В итоговой строфе даже заметен авторский пережим: просто напрашивается ответ на вопрос, что красивее: пустой сосуд – или сосуд с мерцающим огнем? Оригинальность ответа заключается в том, что аргумент в пользу некрасивой девочки облекается в форму красивой метафоры. Кто откажется предпочесть сосуд с мерцающим огнем? Однако огни в сосудах не зажигают… Подсказка поэта значительна, но у каждого ли хватит воображения поэтическую метафору реализовать в жизни? И будет ли столь чуток тот, кто вслед за поэтом прозреет «младенческую грацию души»?
Можно ли рационализировать ситуацию неопределенности? Автор предпочел оставить ее под вопросом, может быть, рассудив, что дидактическое напутствие не прибавит сторонников; выбор все равно сделает читатель по своему разумению и по подсказке эмоций.
Здесь хочу отвлечься, чтобы поставить необходимый, неизбежный вопрос, который мог возникнуть и раньше: угадан ли в предлагаемых анализах (если да, в какой степени угадан) авторский замысел? Общий ответ на такой вопрос невозможен, потому что сами художники резко различаются. Одни (назовем их интуитивистами) равнодушны (некоторые даже агрессивны) по отношению к теории. Тут возможна аналогия с известной притчей о сороконожке, которая резво бегала – до поры, когда ее спросили, в какой последовательности она переставляет свои ноги. Задумалась сороконожка – и не смогла шагу сделать. Интуитивно – само собою все получалось, а рационального осмысления не последовало. И есть художники, сами участвующие в разработке теоретических положений.
Наша ситуация усугубляется. Мы имеем дело с произведениями малого объема и только в редких случаях знаем повод написания стихотворения, располагаем какими-либо исходящими от автора сведениями о начальном замысле. Перед нами завершенные произведения, мы оцениваем результат. Типология композиции ранее не разрабатывалась; в большинстве случаев поэты не задумывались о том, в какую группу будут отнесены их творения. Субъективизма в нашем исследовании избежать невозможно, но ограничить его можно и должно. Критерий один: делать выводы на основе фактов, но не подгибать, не подтягивать факты в угоду концепции.
Композиционную триаду я вижу в знаменитом когда-то стихотворении Константина Симонова «Жди меня». Сразу же со всей решительностью могу предположить, что философской триады в сознании поэта не было (она точно не популяризировалась в ту пору); Маяковский свидетельствовал о многих: «Мы диалектику учили не по Гегелю…» Не будем гадать, как все получилось, а вот на то, что получилось, посмотрим.
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у окна,
Выпьют горькое вино
На помин души…
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: – Повезло. —
Не понять не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, —
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.
Стихотворение оригинально построено ритмически, здесь едва ли не мистическое наполнение получает число три. В послании три строфы, они состоят из трех четверостиший, зарифмованных простой перекрестной рифмой. А рифма сквозная мужская; когда к ней прибегают, чаще используют парную рифмовку. Получается, что ритмическую основу образуют именно четверостишия, создающие неразрывную цепь рассуждений. Но и трехчастность для поэта важна, поэтому он усиливает выделение строфы принятым в печати пробелом, начиная каждую строфу дублируемой строкой («Жди меня, и я вернусь…»). Этого было бы достаточно, чтобы определить тип композиции стихотворения как пунктирный, но примем во внимание и другие компоненты.
Что значит для понимания стихотворения число три? Родство с философской триадой: тезис, антитезис, синтез. Нет надобности выжимать из послания «Жди меня» философский смысл; поэт способ мышления опустил на почву быта; способ сработал и здесь.
Композиционные части даны не автономно, а в зацеп, наверное, потому, что и в быту крайности уживаются рядышком. Для поэта тут еще одна возможность сделать стихотворение целостным.
Тезис прописан наиболее ярко. Заглавный призыв делается основой, настойчиво звучит на фоне калейдоскопа меняющихся обстоятельств, описание которых принимает форму универсального перечня; строки соединены анафорой; при всей их широте варианты равноценны, вносят свой вклад в утверждение сквозной установки.
И все-таки обозначаются контуры иной позиции, это анонс антитезиса. Во второй строфе на первый план выходят те, кого именуют родными и близкими: сын, мать, друзья. В их добрых чувствах к автору сомневаться не приходится, но, бывает, и надежду одолевает усталость. Было время, когда Симонову критика предъявляла упрек за якобы неверную расстановку акцентов: самой верной и надежной объявлялась материнская любовь. Но тут нет универсальных решений, в жизни каких только вариантов не случается, истина конкретна. Выбор художника может быть подкреплен практикой, любой правомерен.
В третьей строфе вслед за «близкими» обозначаются «далекие», их можно посчитать наблюдателями со стороны. Может быть, их взгляд, лишенный субъективных пристрастий, окажется самым убедительным? Нет, уверен художник, этот взгляд не проникает глубже поверхности. Истина принадлежит любящим сердцам.
Стихотворение написано в самом начале большой войны. В гарантии вернуться защищенным силой ожидания любимой был немалый риск. В послании к другу (соседствующим с посланием к любимой) сказано точнее: «Нас пули с тобою пока еще милуют». Дело случая, который не прогнозируется! Но в экстремальных обстоятельствах все укрупняется. Почему бы и ожиданиям не пренебречь логикой здравого смысла! А вдруг…
(Ныне реклама, не уставая, нахваливает всяческие сексуальные удовольствия, включая имитации. Духовные ресурсы любви оказываются невостребованными).
Год 1833 С. Л. Абрамович назвала «последним счастливым» для Пушкина «годом». Ах, сердце-вещун! Ведь посреди счастливого года написано стихотворение (при жизни поэта не публиковалось) пронзительное, пророческое.
Не дай мне бог сойти с ума.
Нет, легче посох и сума;
Нет, легче труд и глад.
Не то, чтоб разумом моим
Я дорожил; не то, чтоб с ним
Расстаться был не рад:
Когда б оставили меня
На воле, как бы резво я
Пустился в темный лес!
Я пел бы в пламенном бреду,
Я забывался бы в чаду
Нестройных, чудных грез.
И я б заслушивался волн,
И я глядел бы, счастья полн,
В пустые небеса;
И силен, волен был бы я,
Как вихорь, роющий поля,
Ломающий леса.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































