Текст книги "Лирика: поэтика и типология композиции"
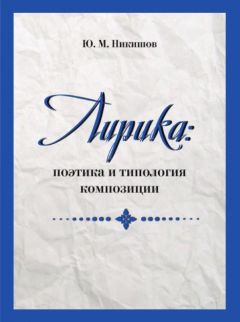
Автор книги: Юрий Никишов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 16 страниц)
Да вот беда: сойди с ума,
И страшен будешь как чума,
Как раз тебя запрут,
Посадят на цепь дурака
И сквозь решетку как зверка
Дразнить тебя придут.
А ночью слышать буду я
Не голос яркий соловья,
Не шум глухой дубров —
А крик товарищей моих,
Да брань смотрителей ночных,
Да визг, да звон оков.
И у счастливого человека вырывается такое катастрофическое предчувствие?! Да, это предчувствие: который раз муза поэта упреждающим образом проигрывает доопытную ситуацию. Разумеется, стихи не надо понимать слишком буквально. Духовное и физическое здоровье поэта было крепким, и клиническое осуществление пророчества ему не грозило. Но ситуацию, в которой силы человека изнемогают, когда здравый ум не способен найти выход из нелепого положения, сердце-
вещун угадывало.
Опять парадокс: в стихах речь идет о запредельном состоянии человека, а мысль выражена с хрустальной прозрачностью, гибко и стройно. Или действует закон: чем напряженнее переживание, чем глубже проникновение в ситуацию, тем тщательнее поэт прочерчивает рисунок композиции?
В элегии можно видеть чрезвычайно выразительный образец композиционной триады. Пушкин творчески выстраивает триаду, не заканчивая, а начиная элегию синтезом, в сущности, главным восклицанием. Сумасшествие превосходит всякие иные беды, все другие – легче. А почему? Поэт густо выписывает первую строфу, оставленную без своей пары, но строфа по смыслу делится пополам и вполне анонсирует да и нет, которые столкнутся между собой: сойти с ума – быть вольным, для кого законы не писаны (благо! ), но сойти с ума – быть запертым в психушку (мука! ).
И будто мысль поэта вырывается на волю, делается размашистой, нескованной. В блоках по две строфы рисуются две картины, контрастные по отношению друг к другу. Обе условны, и условия эти зловещи. И можно бы, и хорошо бы – если бы не. Но вот этого если не избежать. И все рушится.
В сущности, ясная, прозрачная мысль поэта и воссоздает ситуацию, преодолеть которую она бессильна. Она идет на приступ стены – и убеждается в ее неприступности. Остается в бессилии замереть. Ситуация остается предельно конфликтной, в любой момент может последовать катастрофический взрыв, но человеку остается ждать и надеяться, что взрыва не произойдет. Благополучного разрешения ситуация не имеет, она трагична по определению.
Ум человека способен осознать подобные ситуации. Ум человека бывает бессильным их разрешить.
Таких вот крайних пределов достигает мысль Пушкина.
СПИРАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ
О спиральной композиции писал В. М. Жирмунский: под спиралью он понимал соединение анафоры и концовки, повторение анафорического стиха, начинавшего строфу (стихотворение), в соответствующих концовках. В нашей работе понятие спиральной композиции вводится совершенно в ином значении, по-прежнему с ориентацией на содержание стихотворения. Может быть, из всех предлагаемых трактовок это самая необычная и непривычная. И все-таки, если предлагаемый путь помогает глубже вникнуть в содержание произведений, если он позволяет внести обоснованную реплику в понимание произведений, вызывающих длительные споры, – это значит, что новая концепция имеет под собой объективную почву, не надуманна, опирается на реальную структуру самих лирических текстов.
Трудность вычленения спиральной композиций состоит в том, что внешне подобные структуры весьма похожи на разновидность линейной структуры: композиционные части тоже строго следуют одна за другой. Тем не менее характер взаимоотношений частей здесь принципиально иной. В линейных структурах части стихотворения (как – в свой срок было показано) подчеркнуто равноправны. В спиральных композициях наблюдается нечто иное. Композиционно самостоятельные части описаний или рассуждений логически не согласуются между собой. Исключается элементарное предположение насчет эклектичности, идейно-художественного несовершенства подобных творений: видимым противоречиям надо найти достойное объяснение.
Но – сухая ложка рот дерет. Нужна подпитка практикой.
К числу поэтов высокой поэтической культуры принадлежит Блок. Композиционный рисунок его стихотворений преимущественно отчетлив и изящен. Остановимся на стихотворении принципиально важном – «Река раскинулась…», первом и программном в цикле «На поле Куликовом».
Вполне очевидно, что первая строфа – особняком:
Река раскинулась. Течет, грустит лениво
И моет берега.
Над скудной глиной желтого обрыва
В степи грустят стога.
Прежде всего, эта строфа выделяется в структуре текста своим рисунком: это единственная картина, пейзаж; медитация присутствует только в скрытом виде, в метафорах: «река… грустит», «грустят стога». Кроме того, строфа задает важную пространственно-временную точку отсчета: если речь идет о поле Куликовом, месте памятного исторического события, то чрезвычайно существенна ориентация на «лирическое», остросовременное, «сиюминутное» переживание и сопереживание.
Последующий текст целостен, един в том смысле, что он представляет собой медитацию, авторский монолог, поэтическое размышление. Подготовленный элегическим тоном пейзажа, нагнетением подспудного чувства, монолог начинается высокой нотой обращения-восклицания: «О, Русь моя! Жена моя!»
Но если монолог целостен по своей структуре, он может быть подразделен на части по содержанию и настроению. Вглядывание, вслушивание в текст позволяет группировать строфы попарно. Вот первая часть монолога:
О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!
Наш путь – стрелой татарской древней воли
Пронзил нам грудь.
Наш путь – степной, наш путь в тоске безбрежной,
В твоей тоске, о, Русь!
Но даже мглы – ночной и зарубежной —
Я не боюсь.
Здесь в восьми строках четырежды повторяется слово «путь», трижды в сочетании «наш путь»; дважды «наш путь» выступает в качестве анафоры. Стало быть, «наш путь», путь Родины и есть предмет авторской медитации в первых двух строфах, в первой части монолога, но это и содержательная программа всего стихотворения.
Начальные строфы медитации целостны по настроению. Здесь звучит голос восторга от обретенной возможности интимно задушевного, как к жене, обращения к Родине, но такое обретение оплачено острым состраданием страданиям Руси – и отсюда сквозные драматические, страдальческие ноты монолога («до боли», «пронзил нам грудь», «в тоске»).
Первая часть монолога поддерживает и развивает «сиюминутность» экспозиционной строфы. В данном тексте мало глаголов, но настоящее время легко читается в пропуске глагольных связок при именных формах сказуемого. Единственная форма прошедшего времени («пронзил нам грудь») не вносит диссонанса: прошлое, как наследство, здесь составляет часть настоящего. И, напротив, звонко звучит глагольная форма настоящего времени в конце отрывка: «Я не боюсь».
Две последующие строфы, вторая часть монолога, обращают внимание как раз резкой переменой временных форм:
Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами
Степную даль.
В степном дыму блеснет святое знамя
И ханской сабли сталь…
И вечный бой! Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль…
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль…
Здесь формы будущего времени в первой строфе фрагмента сменяются формами настоящего времени во второй строфе. Но как в предшествующей части не контрастировали формы прошедшего и настоящего, так здесь в синтезе выступают формы будущего и настоящего: опыт истории позволяет видеть в настоящем фундамент будущего.
Вторая часть монолога насыщена глаголами, энергией движения. Ритм упруг, экспрессии столько, что трижды двустишия обрываются многоточиями, как будто из стремительного потока переживаний и картин резкими штрихами выхватываются некоторые, особенно необходимые. Отрывок привлекателен пафосом утверждения, его центр – знаменитое восклицание: «И вечный бой!»
И наконец, заключительная пара строф, третья часть монолога:
И нет конца! Мелькают версты, кручи…
Останови!
Идут, идут испуганные тучи,
Закат в крови!
Закат в крови! Из сердца кровь струится!
Плачь, сердце, плачь…
Покоя нет! Степная кобылица
Несется вскачь!
Здесь также обращает на себя внимание конструкция фраз. Дважды они обрываются многоточием и семь раз венчаются восклицательным знаком (в предыдущем тексте восклицания были одиночными). Интонация становится нервной, возбужденной. Только здесь в ритмическом рисунке строфы – в сочетании длинных и коротких поэтических строк – короткие строки интонационно автономны («Останови!», «Плачь, сердце, плачь…»); стиховая пауза дополняется (и тем усиливается) паузой интонационной.
Текстуально примыкая ко второй части монолога, находясь в сфере и ее проблематики, и поэтических образов, третья часть существенно отличается по смыслу и настроению. Если только что в антитезе вечного боя и покоя провозглашалась здравица вечному бою («И вечный бой! Покой нам только снится…»), то теперь восклицания «Останови!», «Покоя нет!» полны растерянности и сожаления.
Необходимо синтезировать полученные в результате анализа наблюдения.
Мы двигались последовательно, от одного звена авторских рассуждений к сменяющему его звену. Этот подход может дать исчерпывающую картину, если мы имеем дело с линейным типом композиции. Есть соблазн ограничиться таким толкованием композиции блоковского стихотворения, поскольку как будто и устанавливаются действительно последовательные этапы: вводная экспозиционная строфа, далее общая мысль о пути Родины, затем утверждение «вечного боя» как характерной черты этого пути, наконец, сожаление о невозможности покоя.
Однако такая интерпретация стихотворения носит описательный характер; она лишь фиксирует особенности конструкции, но не объясняет их. А объяснить требуется многое. Почему происходит такой резкий слом настроения при переходе от второй к заключительной третьей части монолога? Почему дважды повторенный образ степной кобылицы, символ движения Родины, тоже дается в разном значении? Сравним: «Летит, летит степная кобылица / И мнет ковыль…» – и «Покоя нет! Степная кобылица / Несется вскачь!»; в одном случае горделивый, величавый бег, а в другом – неуправляемый, пугающий галоп. И еще странность: когда во второй части монолога действие переводится в будущее время («домчимся», «озарим», «блеснет»), все предметные детали воспроизводят приметы давно прошедшего события («В степном дыму блеснет святое знамя / И ханской сабли сталь»). Почему будущее предстает в старинных одеждах? Композиционный анализ должен дать ответы на все эти вопросы. Отнесение композиционного строя стихотворения к линейному типу композиции неудовлетворительно.
Тип композиции в этом творении – спиральный. Понятие спирали использовал сам Блок, правда, в осмыслении всего своего творческого пути; это понятие поддерживает, в том же значении, что и поэт, такой авторитетный исследователь Блока, как Д. Е. Максимов[12]12
См.: Максимов Д. Е. Идея пути в поэтическом сознании Ал. Блока // Максимов Д. Е. Поэзия и проза Ал. Блока. Л. 1975.
[Закрыть]. Понятие спирали вполне объясняет строение данного стихотворения.
Данное стихотворение написано Блоком 7 июня 1908 года, в период реакции, наступившей вследствие поражения первой русской революции. Совершенно очевидно остросовременное звучание цикла «На поле Куликовом». Создавая цикл, Блок мучительно размышлял о трагическом разобщении народа и интеллигенции. Обращаясь мыслями к давнему историческому событию, поэт менее всего стремился дать эпически объективную картину истории. Куликовская битва принадлежит, по убеждению Блока, «к символическим событиям русской истории. Таким событиям суждено возвращение. Разгадка их еще впереди»[13]13
Блок А. Собрание сочинений: В 8 т. М.: Л., 1960. Т. 3. С. 587.
[Закрыть]. Именно поэтому образы далекого прошлого становятся пригодными для осознания настоящего и даже будущего.
Тут надо обратить внимание (пространственно) на точку обзора или размышления автора. В лирике чаще всего эта точка неподвижна, хотя позволяет видеть движение изображаемого предмета или движение мысли. К слову, мысль, может быть, самое подвижное, что можно фиксировать на земле. Она свободно перемещается во времени взад и вперед. В мгновения ока она перемещается на любые, даже фантастические расстояния, не требуя для этого никакой внешней энергии. Что удивительного, если позволяет себе быть подвижной и точка обзора?
Спиральная композиция сходна с триадой – тем, что тоже трехчастна и включает тезис, антитезис и синтез. Принципиальное отличие этих двух типов композиции состоит в том, что в триаде картины и размышления по их поводу даются с устойчивой, неподвижной точки обзора, тогда как спираль втягивает в движение точку авторского восприятия. С разных витков спирали по-разному воспринимается и воспроизводится предмет изображения.
Спиральная композиция имеет некоторое внешнее сходство с композицией кольцевой – ситуацией «вращательного» движения. Но сами слова-термины хорошо показывают тоже принципиальную разницу между ними: кольцо – круг замкнутый, спираль – круги разомкнутые, когда возвращение к исходному положению происходит не в стык, но на новом уровне. В стихах с кольцевой композицией в конце происходит буквальное возвращение к началу. Зато в стихах со спиральной композицией возвращение к задействованному предмету (или теме размышления) сопровождается резким изменением эмоционального тона. Само движение по спирали внешне не обозначается, оно остается в пробеле между строфами, но движение, и именно такого рисунка, заметно благодаря изменению эмоционального тона.
При круговом обзоре знаменитого Медного Всадника эмоциональное воздействие памятника меняется весьма значительно. А теперь представим, что при осмотре памятника мы сделали несколько снимков и после, дома, рассматриваем их. Но не те ли – только в словесной форме – снимки (и не слитно, как на видео, а порознь) предоставляет нам поэт? И нам необходимо учитывать, под каким ракурсом эти снимки сделаны.
Восприятие композиции блоковского стихотворения как композиции спиральной позволяет понять его «странности». Точка обзора в первой части медитации – сзади и сверху. Взгляд с «дальнего» витка спирали различает контур будущего сквозь призму уже давно миновавшего события; будущее воспринимается как проекция событий прошлого на перспективу разомкнутого предстоящего. «Дальний», притом «верхний» виток позволяет с высоты истории пронзить толщу веков, «долгий путь» Родины придает мысли поэта масштабность, исторический оптимизм.
Во второй части размышления наблюдение дается взглядом сбоку: именно такой ракурс позволяет различать величавость в картине движения.
В финале на «ближнем», притом опущенным до земли витке спирали ощущается горячее дыхание современности. Мы уже как будто опережаем движение – и ничуть не застрахованы от опасности быть смятыми копытами неуправляемой кобылицы. Чувствуется растерянность отдельного, частного человека перед лицом истории. Думается, что и различие эмоционального восприятия степной кобылицы зависит именно от такого ракурса восприятия.
Однако понятия «близи» и «дали» применительно к циклу «На поле Куликовом» требуют существенной коррекции. Мы воспользовались чисто условным пространственным обозначением; оно не совпадает с блоковским ощущением времени: долгое, особенно неопределенно долгое ожидание усиливает в поэте растерянность и тревогу, и – напротив – ощущение кануна события, близкой разрядки разрушает оцепенение, вселяет бодрость. В этом смысле контрастны вторая и третья части монолога: «Пусть ночь. Домчимся» – «Закат в крови!» (в первом случае уже ночь накануне утреннего события, во втором – еще только закат перед томительной ночью). Точно так же контрастируют опорные настроения даже отдельных стихотворений цикла – четвертого:
И я с вековою тоскою,
Как волк под ущербной луной,
Не знаю, что делать с собою,
Куда мне лететь за тобой! —
и пятого, завершающего:
Доспех тяжел, как перед боем.
Теперь твой час настал. – Молись!
Логично: когда летят стрелы, паче гремят пушки, не время предаваться рефлексиям, нужно действовать.
Образы блоковского стихотворения нельзя воспринимать только в узком предметном значении. Разрывая с символизмом как с литературным течением, в рядах которого он начинал творческую деятельность, Блок до самого конца, вплоть до «Двенадцати» и «Скифов», не расставался с символами как разновидностью художественного образа. Отдадим отчет в том, что символ как образ не есть ни изобретение, ни монополия символизма, он пронизывает всю толщу мирового искусства, от античности до современности, не чужд ни романтикам, ни реалистам.
Символы в анализируемом стихотворении представлены широко и многообразно. Символической воспринимается сама Куликовская битва. Вот почему предметный ряд стихотворения в основном и поставляют образы данного события. В силу повторения или, по Блоку, возвращения исторических событий и возможно использовать детали предметной изобразительности, перенося их из истории в современность.
Ясно, что навеянный теми же ассоциациями образ степной кобылицы важен отнюдь не только предметностью изображения. Образ возникает в цепи рассуждений Блока о судьбах Родины. Очевидно, что бег степной кобылицы символизирует движение истории. Ход исторического события бывает руководим, управляем, бывает выражением осознаваемой закономерности, актом человеческой воли: отсюда горделивая поступь – полет кобылицы. Но событие может выходить из-под контроля, восприниматься неуправляемым, хаотичным, стихийным: отсюда зловещие краски, сопровождающие пугающий галоп кобылицы. Спиралевидный характер восприятия динамики и этого образа-символа вполне очевиден.
Структуру спиральной композиции хотелось бы показать и на современном примере. Алексея Еранцева глубоко волновали судьбы деревень, попавших в разряд «неперспективных», исчезновение их, сопровождаемое утратой людьми своих «корневых» связей. Вместе с тем поэт избегал прямых публицистических рассуждений; он напряженно искал пути реализации скрытой лирической медитации, внешне прикрытой поэтической картиной.
Вот стихотворение из трех четверостиший, где четко различаются синтез (или постановка проблемы), тезис и антитезис.
Когда умирают деревья
И ветер кустарники гнет,
Уходят ночные деревни
С нагретых картофельных гнезд.
Принцип образования метафорического ряда здесь вполне прозрачен: в жизни покидают родные места люди, а брошенные дома, которые с собой не прихватишь, ветшают; в стихах реализованной метафорой движение усилено, ему придан универсальный характер. Поднимаются со своих мест целые деревни. Фактически гибнут. Изображаются как пилигримы.
Дырявыми ставнями машут,
В железные трубы гремят.
Скрипят позвоночники матиц,
Заслонки гремят, как набат.
Композиционный рисунок движения поэтической мысли тоже прост: экспозиционная строфа информативна, во второй строфе происходит расчленение общей мысли на детали, акцент с медитации переносится на описательные картины.
Особо важное значение для понимания структуры данного стихотворения имеет установление ракурса восприятия, что и позволит увидеть (модернизированную) спираль. Первый и самый важный, организующий, толчок этому восприятию дает энергичная метафора «уходят» с гнезд. Становится необходимой задача зрительно представить уход деревень. Поскольку обильно включаются зрительные и слуховые образы, возникает эффект присутствия рассказчика (и вместе с ним, вслед за ним – читателя) на месте «происшествия». Трепет кустарников, взмахи ставень (да еще ночью) видеть, скрип матиц, громыханье заслонок слышать можно только вблизи. Очевидно также, что вблизи наблюдаемая картина получает особо экспрессивный характер. Картина движения ночных деревень принимает реально-фантастический оттенок.
Тем неожиданнее эффект заключительной строфы:
Сияние звездного снега
Летит на оконную грусть…
До глаз приподымутся в небо
И в землю уходят по грудь.
В стихотворении Блока спиральное перемещение точки обзора в слове не фиксировалось, замечалось по результату (изменению описания тех же деталей). У Еранцева такое перемещение помечено в тексте; частное, конкретное соответствует характерному для поэта интересу к вертикали в общем строении мира. Спираль при этом, не теряя своей сущности, выпрямляется, понятия «ближний» и «дальний» виток заменяются простыми понятиями верха и низа.
Новый образ (звёзды – светящиеся снежинки) изысканно красив; он, как и другие образы стихотворения, двупланов, т. е. обретает значение символа. Не порывая с конкретным содержанием, понятия неба (звезд) и земли, согласно элегической традиции, образуют антитезу идеального, высокого обыкновенному, преходящему.
«Сияние звездного снега / Летит…» Этот образ, как и другие, динамичен. Но движение света, в силу предельно высокой в мироздании скорости его, зрением не фиксируется. Движение летящего снега взору привычно, но не дано забыть, что снег здесь метафоричен, что звезды для земного наблюдателя неподвижны. Чувство правды могло бы воспротивиться этому образу, если бы не законное допущение, что движение – понятие относительное; если звезды (для земного наблюдателя) визуально неподвижны, то ничто не мешает представить сближение благодаря встречному движению – взора с Земли. Необходим лишь порыв, лишь смена ракурса, но эта минимальная перестройка восприятия необходима и для заключительного акта: устремившись в высь, мы бросаем последний взгляд сверху вниз. Именно в таком ракурсе дана картина итогового двустишия: «До глаз приподымутся в небо / И в землю уходят по грудь».
Да, действительно: композиционная структура стихотворения полностью определяется ракурсом восприятия. Почти аналогично звучат строки в начале и в конце: «Уходят ночные деревни» – «И в землю уходят по грудь». Общий глагол фактически обозначает совсем разный характер движения. В первом случае мы воспринимаем движение продольным; инерция восприятия поддержана деталью описания: «уходят… с гнезд». Во втором случае движение вертикально: воображаемый порыв вверх – реальное движение вниз.
Но как же так: ведь речь идет об одном и том же движении? Движение одно, но оно выглядит по-разному, когда воспринимается с разных положений. Одно дело – воспринимать вблизи расположенный предмет, с одного с ним уровня (продольное движение было бы заметным, но оно – лишь воображаемое), другое – из выси (отсутствие продольного движения отчетливо заметно, но вертикаль страшнее, потому что подчеркивает реальное движение оставленных домов, их разрушение-оседание). Качественное изменение масштаба вносит решающие коррективы в восприятие: важное в одном случае становится совершенно неважным во втором.
Особенности построения стихотворения отчетливо ясны, если распознать спиралевидный характер его композиции. Здесь предмет изображения нарочито один, развертывается, по видимости, последовательное описание, однако стремительным динамизмом обладает точка восприятия. Ее траектория – крутая спираль (или даже вертикальный взлет). С одного, «нижнего», витка спирали мы наблюдаем деревню покидающею нагретые гнезда. С другого, «верхнего» витка спирали мы видим старые дома на своем месте, еще глубже оседающими в родную землю. Крестьянские дома не пригодны для шествий, они не на курьих ножках. Движение продольное, движение вертикальное для них одинаково гибельное. Деревни никуда не уходят, но они перестают жить, как будто и в самом деле уходят…
К этому можно добавить, что стихотворение поражает резкими контрастами лишь при первом чтении. Когда свыкаешься с манерой автора, вникаешь во все детали, представляешь общую картину мира поэта, то контрасты изображения сглаживаются. Поначалу картина ночного шествия деревни кажется экспрессивной, натуральной – при всем том, что одновременно и фантастической. Однако вглядимся в картину: движение нисколько не реально, полностью воображаемо. Махание ставень, скрип матиц, громыхание труб и заслонок – это совсем не обязательные признаки движения, все это признаки состояния недвижных домов под напором гнущего кустарники ветра. Под воздействием энергичной метафоры «уходят с гнезд» все остальное воспринимается однородным рядом метафор, тогда как это – ряд метафор другого, «статичного», рода, что, в свою очередь, теперь уже воспринимается пластичной подготовкой статики восприятия «космического» ракурса. Поэт – не сказочник. Он лишь позволил себе дать толчок читательскому воображению – и первым возвращается на позиции суровой реальности.
Между прочим, этот более спокойный вариант прочтения нисколько не умаляет внутренней экспрессии стихотворения: так или иначе меняется только внешняя картина изображаемого. «Скрипят позвоночники матиц», «набат» и др. – все это детали тревожного психологического состояния, они едины при любом прочтении, они передают напряженное эмоциональное состояние поэта. Оно не может не передаваться читателю. И тогда в самом читателе – уже в форме привычного ему бытового сознания – возникает размышление о судьбах деревень в стремительный век НТР. На это самостоятельное размышление, вероятно, и хотел подтолкнуть читателя поэт, свою позицию обозначив исключительно в эмоциональном ключе. (Ныне судьбы русской деревни чрезвычайно усложнились, стали еще драматичнее).
Теперь, когда спиральный тип лирической композиции, надеемся, прояснился, будет уместным анализ еще одного стихотворения. Выбранные примеры, при всей их красноречивости, еще не во всем убеждают. Творчество Алексея Еранцева, к сожалению, не известно широкому кругу читателей; его стихотворение никогда прежде не анализировалось. Чтение «по первому следу» имеет свою особенность: выводы не с чем сопоставлять. Блок – поэт популярный, его цикл «На поле Куликовом» широко известен, но и эти стихи, осмысляемые обычно в целом, подробному текстуальному анализу не подвергались. Стало быть, и этот анализ в определенной степени сохраняет колорит первого чтения. Вот почему для обоснования полезности и объективной обоснованности вычленения спиральной композиции (после предварительного с нею знакомства) особенно показательно обращение к тексту, который, во-первых, у всех на слуху, а во-вторых, в течение длительного времени остается остро дискуссионным, порождая диаметрально противоположные выводы.
Возможность и подтвердить жизненность выдвигаемой нами концепции, и сделать попытку решить давний литературоведческий спор дает стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»; стихотворение не имеет авторского заглавия, но для удобства в обиходе устойчиво именуется «Памятником».
Но прежде нужно отреагировать на весьма обоснованное недоумение: можно ли подвергать композиционному анализу, да еще под непривычным углом зрения, стихотворение, не вполне оригинальное именно в композиционном отношении, поскольку композиционно-тематическая канва задана Горацием – Державиным (особенно заметно Державиным, благодаря общности языка). В четырех строфах Пушкин действительно идет за своими предшественниками, применительно к своему опыту преломляя в их же русле темы, поднятые ими, а вот конечная строфа заимствует только тему (обращение к музе). Но Гораций и Державин призывали своих муз гордиться тем, что с их помощью поэты сделали и самой презирать тех, кто посмеет ее презирать. И Гораций, и Державин построили свои стихотворения в логике линейной композиции: сразу заявлено главное утверждение, в последующих строфах дается подтверждение ему, в заключительной строфе меняется адресат (не вообще читатель, а родная муза), но сохраняется пафос. Пушкин свою музу (да еще именем Бога) призвал к скромности и смирению. Так что не будем рассматривать композицию стихотворения в целом: она сложная и комбинированная; выделим лишь элемент спиральной композиции в концовке стихотворения.
Среди пушкинистов продолжается спор, как «согласовать и увязать» пафос и содержание четырех строф стихотворения, в особенности строфы четвертой:
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал —
и строфы последней, пятой:
Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца;
Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспоривай глупца.
Совершенно очевидно, что речь идет не о мелком противоречии, не о частных несогласованностях: в сущности, финальный тезис «не требуя венца» и «хвалу… приемли равнодушно» отвергает саму идею памятника, народного признания.
Не приходится удивляться, что вокруг концептуально важного пушкинского стихотворения кипят страсти, на много десятилетий растянулся острый литературоведческий диалог. История изучения «Памятника» многократно излагалась; отдельному стихотворению (редкий случай) посвящена капитальная монография[14]14
См.: Алексеев М. П. Стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг…» Л., 1967.
[Закрыть]. Необходимо лишь напомнить наиболее существенные версии.
М. О. Гершензон (1919) смысл пушкинской позиции видел воплощенным исключительно в пятой строфе; соответственно предшествующий текст предлагается читать с иронической интонацией, как чужое мнение. В ключевой фразе четвертой строфы «буду любезен народу» исследователь предполагает сарказм: поэт якобы предчувствует, что его позицию перетолкуют, поймут так, что он «сердца собратьев исправлял». Исследователь заключает: «Всю жизнь он слышал от толпы это требование, и всю жизнь отвергал его; но едва он умолкнет, толпа объяснит его творчество по-своему»[15]15
Гершензон М. Памятник // Гершензон М. Избранное. Т.1.Мудрость Пушкина. М.; Иерусалим. 2000. С. 46.
[Закрыть]. Озвучиванием мнения толпы исследователь считает любое позитивное толкование начальной части стихотворения.
В. В. Вересаев (1927), много споривший с М. О. Гершензоном по поводу понимания автобиографизма пушкинских стихов, в истолковании «Памятника» фактически с ним солидарен, ссылаясь, правда, не на исследователя, а на чтение стихотворения артисткой Эльгой Каминской: «Эльга Каминская исполняет стихотворение так: первые четыре строфы она произносит повышенно-торжественным, слегка даже напыщенным, чуть-чуть насмешливым тоном; потом пауза; и потом – почти полушепотом, глубоко интимным, как бы к себе обращенным голосом…» В. В. Вересаев принял такое чтение: «Слушаешь, – и вдруг встает ошеломляющая мысль: да не пародия ли все это стихотворение? Прославленное стихотворение, в котором Пушкин, “в горделивом сознании своих заслуг”, дает себе должную оценку, отрывки из которого вырезываются на постаментах пушкинских памятников, – не пародия ли оно? Ясно выраженная, неприкрытая пародия на “Памятник” Державина. Неприкрытая, даже подчеркнутая намеренным повторением выражений Державина»[16]16
Вересаев В. В двух планах: Статьи о Пушкине. М., 1929.С. 117-118.
[Закрыть].
Современное пушкиноведение отвергает восприятие «Памятника» в пародийном ключе; и все-таки полезно вспомнить о существовании данной трактовки, ибо тут дело в принципе: за основу смысла всего стихотворения берется пятая строфа, а противоречие ее предшествующему тексту снимается ироническим к нему отношением. Очевиден и изъян такой трактовки: исследователи поднимают руку на ценности слишком высокого ранга (чувства добрые, свободу, милость к падшим).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































