Текст книги "Лирика: поэтика и типология композиции"
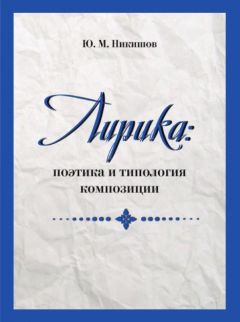
Автор книги: Юрий Никишов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.
Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья…
«Элегия» самым непосредственным образом принимает эстафету от «Бесов». И тема ее прямо объявлена: «мой путь…» Но внешнего сходства нет никакого: в «Бесах» «путь» – картина (с переходом в символ), в «Элегии» – предмет авторской рефлексии. И разница не только в изменении формы высказывания: меняется настроение поэта, возрождается то активное начало, которое, казалось бы, в «Бесах» замирает.
«Порой опять гармонией упьюсь…» – в «Элегии» поэт выделил и такое желание на будущее. А ведь и «Бесы» – по композиции – гармоничнейшее создание! Просто на удивление: описывается неуправляемое движение – а стихи складываются равномерными и размеченными группами, прямо под стать современным автострадам. И тут хочется высказать мысль, не претендующую на универсальное значение, но вполне поясняющую Пушкина: если трудная, запутанная ситуация не позволяет принять решение, все равно постарайся в оценках ее достигать четкости и внятности.
Иначе построено стихотворение Николая Старшинова «Древний сюжет» – в эпическом ключе; понятие «сюжет» даже вынесено в заглавие. Здесь взято одно событие евангельской истории: последствия предательства Иуды, но эпизодов его выделено не скупо (Иуда вылез из петли – совершил марш-бросок[5]5
Марш-броски совершают подразделения, а не одиночки. Здесь очередной иронический выпад против зловещего персонажа стихотворения и заодно знак современности: автор поэт-фронтовик Великой Отечественной.
[Закрыть] на Голгофу – выскуливал прощение у Христа – получил его отповедь – утешается местью), и каждый включает подробности. Для лирики объем текста получился большой. Соответственно современное переложение древнего сюжета вполне могло быть рассмотрено у нас в ином разделе.
Но стихотворение многое потеряло бы, если из него убрать композиционный повтор. Его и рефреном нельзя назвать. Вначале это ритмические повторы, а в третий раз, в концовке – всего лишь ритмический перифраз. Но именно сходство канвы, по которой вышивается совсем иной узор, эффективно разоблачает опасного персонажа баллады.
Растекаясь по песку,
Солнце жгло до зуда…
На осиновом суку
Корчился Иуда.
У осины до земли
Ветви наклонились.
И Иуда из петли,
Изловчившись, вылез.
И к Голгофе марш-бросок
Сделал по дороге…
Раскалившийся песок
Жег босые ноги.
Шел народ на высоту,
Ожидая чуда…
И к распятому Христу
Подошел Иуда.
Ну хотя бы не юлил,
Помолчал бы, что ли,
Так ведь нет же – заскулил
О несчастной доле:
– До сих пор я весь трясусь,
Сам с собой не слажу.
Ты прости меня, Исус,
За мою продажу.
Тридцать денег – все добро,
Небольшая плата.
И вернул я серебро
Книжникам Пилата.
Истомился я, скорбя.
Ни к чему уловки…
И тогда я сам себя
Вздернул на веревке.
Вот и мне платить пришлось,
Да какою платой!..
И тогда сказал Христос,
На кресте распятый:
– Что угодно я стерплю.
А тебя, Иуду,
Не любил и не люблю,
И любить не буду.
До того я не люблю, —
Хоть и жду наветов, —
Что впервые отступлю
От своих заветов.
Терпелив к любой вине,
Я – за всепрощенье.
Лишь предательство во мне
Будит отвращенье.
Я нисколько не ропщу.
Но тебя, Иуду,
Не прощал и не прощу,
И прощать не буду.
Чтобы так не поступать, —
Нет вины позорней, —
Лучше ты себя опять
На осине вздерни.
А меня навек забудь,
Уходи отсюда!
И потек в обратный путь,
Сгорбившись, Иуда.
Он-то знал: Христос воскрес!
И нашел уловку —
Сам в петлю он не полез,
Только снял веревку.
Чтобы злость на всех сорвать,
Чтоб себя утешить,
Чтобы снова предавать,
А предавши, продавать,
А продавши, вешать.
«Древний сюжет» рассказывается не в каноническом варианте; изложение сюжета дается в естественной свободной композиции. При этом вполне очевидна скрепляющая роль трехкратного повтора. Повтор идейный, текстуально вариативный, что обретает особое значение: формулируемому принципу придается движение. Вначале в устах Христа опорная фраза означает переход от эмоционального суда к действию: «Не любил и не люблю, / И любить не буду» – «Не прощал и не прощу, / И прощать не буду». (В первом случае фраза легко охватывает прошлое, настоящее и будущее время; глагол заменен – из-за ритмической надобности простая форма будущего времени дублируется сложной; трехчастная конфигурация оказывается важнее сохранения трех ликов времени.)
В концовке стихотворения стержневой принцип в ином наполнении, но в типологически хотя бы отчасти сходной форме используется для характеристики зловещего персонажа. Это предстает предупреждением. Для одиозных людей, лишенных совести, моральные внушения мало сказать – бесполезны, они производят едва ли не контрастное действие, разжигая мстительное чувство.
Сюжет древний, людским отношениям – продолжаться. Стихи Старшинова – призыв к бдительности.
ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ
Лирика – принципиально немногословный род литературы. Впрочем, жанры лирики разнообразны, но среди них немало таких, которые специально ориентированы на малый объем, на концентрированное выражение переживания. Возможно, под воздействием жанра миниатюр возникает и общая тенденция лирики к лаконизму.
Однако истина конкретна и относительна. Сейчас мы обратимся к стихам, которые подчеркнуто тавтологичны – не потому, что сыры по исполнению. Будем говорить о завершенных пушкинских стихах. Известно стремление пушкинской лирики к лаконизму: стало быть, если встречается нарушение правила, оно художественно значимо.
Вновь оттолкнемся от реального текста.
Погасло дневное светило;
На море синее вечерний пал туман.
Шуми, шуми, послушное ветрило.
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
Я вижу берег отдаленный,
Земли полуденной волшебные края:
С волненьем и тоской туда стремлюся я,
Воспоминаньем упоенный…
И чувствую: в очах родились слезы вновь;
Душа кипит и замирает;
Мечта знакомая вокруг меня летает;
Я вспомнил прежних лет безумную любовь,
И всё, чем я страдал, и всё, что сердцу мило,
Желаний и надежд томительный обман…
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
Лети, корабль, неси меня к пределам дальным
По грозной прихоти обманчивых морей,
Но только не к брегам печальным
Туманной родины моей,
Страны, где пламенем страстей
Впервые чувства разгорались,
Где музы нежные мне тайно улыбались,
Где рано в бурях отцвела
Моя потерянная младость,
Где легкокрылая мне изменила радость
И сердце хладное страданью предала.
Искатель новых впечатлений,
Я вас бежал, отечески края;
Я вас бежал, питомцы наслаждений,
Минутной младости минутные друзья;
И вы, наперсницы порочных заблуждений,
Которым без любви я жертвовал собой,
Покоем, славою, свободой и душой,
И вы забыты мной, изменницы младые,
Подруги тайные моей весны златыя,
И вы забыты мной… Но прежних сердца ран,
Глубоких ран любви, ничто не излечило…
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан…
Это удивительное стихотворение, своего рода уникум в пушкинской лирике. Для творческой лаборатории Пушкина, даже в сфере лирики, характерно неторопливое вынашивание замысла. «Погасло дневное светило…» – экспромт. Конечно, в обширной лирике Пушкина наберется и немалое количество экспромтов. Но экспромты – стихи на случай – имеют обычно прикладное значение. «Погасло дневное светило…» – программное стихотворение. Программа-экспромт – вот что определяет уникальность этого стихотворения в составе пушкинской лирики.
«Погасло дневное светило…» написано на корабле в ночь с 18 на 19 августа 1820 года при переезде из Феодосии в Гурзуф. Элегия открывает первую страницу пушкинского творчества в южной ссылке: перед этим, в силу известных обстоятельств, муза Пушкина молчала несколько месяцев. И вдруг – прорвалось. Эта трепетность, сиюминутность горячего чувства навсегда закрепилась в строках стихотворения. Но вот парадокс: «необдуманная», предельно непосредственная элегия строго подчинена требованиям гармонии! Пушкин, преклоняющийся перед светлым даром поэтического вдохновения и в то же время прямой наследник века Просвещения с его культом разума, не может изменить себе. Порыв чувства стремителен – и дисциплинирован.
«Погасло дневное светило…» – «дорожные» стихи, но, конечно, не в том прямом смысле, что они и написаны в дороге, и колорит написания в себе несут. Это прежде всего философская элегия, и конкретное обобщено. Дорога, в которой написаны стихи, особого рода: она не повседневная, не бытовая, она эпохальная, рубежная – из прошлого, с которым поэт решительно порывает, в будущее, которое туманно и неотчетливо. В этом значении стихи выходят за пределы своего конкретного содержания и несут общечеловеческий смысл: каждому доводится переживать переломные моменты, выходить на качественно новый этап жизни.
Интересно начать новый раздел именно этим стихотворением, где рефрен, трижды повторенный, делит стихотворение на три неравные по объему части. Наличие рефрена позволяет усматривать в элегии и пунктирную композицию. С формальной точки зрения такой подход выглядит несомненным. Троекратное повторение рефрена графически четко размечает пространство элегии. Соответственно возникает необходимость оговорить композиционную роль паузы, аналогичной паузе строфической, здесь междучастной. Но далее первостепенной задачей становится (уже поверх пунктира) уяснение связи выделенных частей: эта связь оказывается особенной.
Первая часть элегии (всего лишь четверостишие) – экспозиция. Вместе с тем это удивительная экспозиция: в сущности, это едва ли не мини-стихотворение, воплощающее основное содержание всей элегии.
Начальное двустишие передает реальный колорит создания элегии, написанной в ночь путешествия. Но Пушкин остро чувствует философскую связь общего и частного, а потому вполне естественное реальное выговаривается почти цитатно (вспомним известную строку народной песни: «Уж как пал туман на сине море…»).
Если первому двустишию доверено представить обстоятельства переживания, то второе содержит первый всплеск эмоций. Тут два восклицания. С одной стороны, они естественны и продолжают дорисовывать колорит дороги. Коль скоро поэт на корабле, он и обращается к послушному, человеком устанавливаемому ветрилу и угрюмому океану. Однако заслуживает внимания, что предметы обращений контрастны: послушное ветрило – угрюмый океан (т. е. непослушный; впрочем, это не мешает поэту обратиться к океану с призывом; правда, поэт зовет океан к тому, что тот сам, без подсказки, делает). Антитеза обращений оттеняет, что в элегии идет речь не о простой морской прогулке, а о философской дороге жизни. В этом плане антитеза «послушного» (осмысленного, задуманного, рукотворного, активного человеческого) и «угрюмого» (стихийного, неподвластного) – разве это не установление двух начал в человеческой жизни? Человек – существо активное: он осмысливает свою жизнь, делает выбор, ставит цели, добивается их. Вместе с тем не все зависит от его воли: вмешивается сила обстоятельств, способствующих или препятствующих достижению цели. Ее, согласно мировоззренческим позициям, объясняли и идеалистически (как Божий промысел, Рок, Судьбу и т. п.), и материалистически (как стечение обстоятельств); само многообразие позиций лишь подчеркивает объективный и всеобщий характер того, что существует и требует объяснения.
Пушкин признает наличие сознательной и стихийной сил, управляющих человеком, и закрепляет это антитезой обращений. Экспозиция уже вполне выявляет философский характер «дорожной» элегии.
Вторая часть состоит из трех четверостиший. Она вводит новый мотив. В сущности, и в экспозиции идет речь о непосредственных переживаниях поэта, но они даны в опосредованной форме, «эпично». Теперь прорывается «лирика», предметом изображения становятся сами переживания, частым делается употребление «я», включается слово «душа». Однако – на новом уровне – развертывается и прежний – «дорожный» – мотив.
Состояние человека в дороге – особое состояние. Оно включает момент острой реакции на окружающее, на то, что происходит в настоящем. Есть это и в элегии Пушкина: «Я вижу берег отдаленный, / Земли полуденной волшебные края…» Однако, напоминаем, речь идет об особого рода дороге: это не экскурсионная прогулка, концентрирующая на себе все внимание. На пути из прошлого в будущее настоящее сжимается, оно выявляет себя только повышенной эмоциональностью восприятия, но живет человек как раз не настоящим. Именно это – у Пушкина: «С волненьем и тоской туда стремлюся я / Воспоминаньем упоенный…» Поэт на миг даже совместил порыв в будущее и дань прошлому. Однако ясно, что долго удержать такое непрочное единение невозможно: должен возобладать один предмет размышлений. Это и видим в элегии: обозначив порыв в будущее, поэт практически полностью погружается в воспоминание.
Третья часть по объему вдвое больше второй. Не только содержанием, но и формой она повторяет сказанное во второй. Здесь дублируется порыв в будущее: «Лети, корабль, неси меня к пределам дальним…» И точно так же порыв лишь обозначен, точно так же над поэтом довлеют воспоминанья о былом. Здесь это даже демонстративнее. Поэт благословляет корабль нести его куда угодно, «Но только не к брегам печальным / Туманной родины моей, / Страны…» А далее набегает целая серия придаточных предложений, поясняющих, что это за страна, – и совершенно невольно обнаруживается, что с прошлым порвать не так-то просто, что воспоминания о былом – главные, они затягивают, заставляют говорить взахлеб, горячо и взволнованно.
Почему данную композиционную структуру уместно назвать возвратно-поступательной?
Поступательная она потому, что в стихотворении есть внутреннее движение: и сквозной мотив обретает новые тона и краски, и возникают новые, добавочные мотивы.
Возвратная она потому, что композиционные части удивительно повторяют, дублируют предыдущие. В сущности, три части элегии Пушкина – это три стихотворения на одну тему, развивающие общий мотив.
Тогда возникает вопрос: зачем нужны три стихотворения, где должно быть одно?
Однако элегия «Погасло дневное светило…» и есть одно, органичное, хотя и трехчастное, стихотворение. Просто нужно уточнить механизм, благодаря которому стихотворение и обретает цельность.
В конкретном случае это особое состояние человека – не просто взволнованного, но потрясенного.
Пушкин начинает стихотворение сдержанным, «эпическим» тоном и выговаривает – не все, конечно, но главное – сразу. И тотчас следует взрыв эмоций. Чувство тоже выговаривается быстро, сразу, без остатка. Так что же – ставить точку, стихотворение состоялось? Да нет же: поэт лишь разбередил сердечную рану. И стихотворение с той же точки начинает новый круг. Но размах шире, обозначенное в общем виде теперь обретает предметные детали, сам круг этих деталей увеличивается. Меняется сама интонация, она теперь требует глубокого дыхания; синтаксические конструкции удлиняются, но остаются гибкими, поскольку подчеркнуты анафорами.
То обстоятельство, что мысль поэта не столько подвигается вперед, сколько возвращается к уже сказанному (или хотя бы обозначенному), нисколько не снижает художественные достоинства стихотворения, не дает оснований воспринимать его «сырым», «недоработанным». Здесь форма в полной мере соответствует содержанию: воспроизведению состояния потрясенного, взволнованного. Возвратно-поступательная композиция как бы спорит с самим принципом лаконизма: лаконично можно обозначить состояние, а этого мало; нужно выговориться и раз, и два, чтобы и читатель, наконец, почувствовал, насколько горячи и трепетны чувства поэта, если к ним трудно подобраться с одного захода, как важно к ним возвращаться вновь и вновь.
В третьей части встретятся детали, для понимания которых текста элегии недостаточно, надобно знать факты биографии поэта. Весной 1820 года по Петербургу распространилась гнусная сплетня, что Пушкина за его крамольные с точки зрения властей стихи высекли в тайной полиции. Легко понять чувства поэта, когда до него дошла эта кощунственная весть; трудно представить степень его страдания. Отголоски этих чувств – в черновике оставленного неотправленным письма к царю; оно написано пять (! ) лет спустя после драматических событий (подлинник по-французски) – а сколько тут кипения страстей!
«Я решил тогда вкладывать в свои речи и писания столько неприличия, столько дерзости, что власть вынуждена была бы наконец отнестись ко мне, как к преступнику; я надеялся на Сибирь или на крепость как на средство к восстановлению чести».
Дважды за одну вину не наказывают; реальное наказание (ссылка) перечеркивало бы гнусные сплетни.
Вот только один эпизод дерзкого поведения. В театре, прилюдно, Пушкин демонстрирует портрет Лувеля, убийцы наследника французского престола, с надписью «Урок царям». «Таким же образом он во всеуслышание в театре кричал: “Теперь самое безопасное время – по Неве идет лед”. В переводе: нечего опасаться крепости»[6]6
А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1985.T. I. C. 91.
[Закрыть]. «Перевод» Пущина (ему принадлежит это свидетельство) точен, но есть и подтекст: Пушкин как будто подсказывает властям акцию с помещением его в крепость.
Пушкин – из-за сложившихся обстоятельств – выбрал ссылку сам: подтверждают это его поэтические признания. В первом же «южном» стихотворении, а это и есть элегия «Погасло дневное светило…», находим очень понятное в рассматриваемом контексте, а вне его загадочное заявление, дважды повторенное: «Я вас бежал…» Допустим, это пишет поэт, сопровождающий путешествующих Раевских. Но как может написать такое невольник, убывавший из столицы с подорожной «по казенной надобности»? Может – если он воспринимает себя бунтарем, добровольно оборвавшим прежние связи. Этот мотив повторится и в 1821 году, сначала в стихотворном фрагменте письма к Гнедичу: «Твой глас достиг уединенья, / Где я сокрылся от гоненья / Ханжи и гордого глупца…» – затем в послании «К Овидию», где Пушкин назовет себя – «изгнанник самовольный». Мотив возвратится воспоминанием в восьмой главе «Евгения Онегина»: «Но я отстал от их союза / И вдаль бежал…»
Отражение тех же настроений находим в письмах поэта. Еще в разгар петербургских событий Пушкин пишет Вяземскому (около 21 апреля I820 года): «Письмо мое скучно, потому что с тех пор, как я сделался историческим лицом для сплетниц Санкт-Петербурга, я глупею и старею не неделями, а часами. Прости». Потому так естествен порыв: «Петербург душен для поэта. Я жажду краев чужих; авось полуденный воздух оживит мою душу».
Если человек страдает за убеждения, будучи не поколебленным в них, он переносит страдания твердо и гордо. Рылеев написал мужественные строки (они были выцарапаны на оловянной тарелке в Петропавловской крепости):
Тюрьма мне в честь, не в укоризну,
За дело правое я в ней,
И мне ль стыдиться сих цепей,
Коли ношу их за отчизну.
Пушкин имел все основания воспринимать ссылку не как внешнюю кару, но как добровольный разрыв со светской чернью: отсюда его стойкость и непреклонность. Тут можно конкретизировать адресацию, увидеть, что объявленный разрыв имел в виду отнюдь не только отношение к фигурам одиозным. Уточняется:
Я вас бежал, питомцы наслаждений,
Минутной младости минутные друзья…
В письмах поэта данной формулы удостоены Яков Толстой, Никита Всеволожский, руководители «Зеленой лампы». Факт существен как знак серьезного переосмысления многих понятий, в том числе дружбы. Но и тут не обошлось без парадокса! Первые представления о дружбе возникли у поэта на лицейской скамье, но именно лицейское братство (и только оно) сохранило свой ореол до самого конца.
«Подруги тайные моей весны златыя», естественно, собственных имен или узнаваемых псевдонимов не получают, а в связи с их родовым обозначением можно отметить любопытный прием: они иначе именуются в пору, когда были предметом общения и воспевания, – и задним числом, после расставания с ними. Собственно, в поэзии Пушкина уже в Лицее начинается, а в Петербурге усиливается соперничество двух женских типов. Один складывается медленно и трудно: прекрасная, несравненная, незабвенная, потом гений чистой красоты, наконец – Мадонна. Преобладает другой, ему элегия «Погасло дневное светило…» шлет отречение:
И вы, наперсницы порочных заблуждений,
Которым без любви я жертвовал собой,
Покоем, славою, свободой и душой,
И вы забыты мной…
Во время «заблуждений» этот тип получал пакет наименований: «прелестницы», «вакханки», «жрица наслаждения», «монашенка Цитеры», «египетские девы». В элегии тип назван иначе: «изменницы младые».
Тут приведем любопытную аналогию. А. А. Ахматова размышляет над фрагментом из «пестрого фараона», который мечет перед влюбленным Онегиным его воображение.
То видит он врагов забвенных,
Клеветников и трусов злых,
И рой изменниц молодых,
И круг товарищей презренных…
Исследовательница замечает: «Разве это не пушкинские воспоминания? Никаких презренных товарищей у пустынного Онегина мы не знаем. Каверин? Автор романа? В никаком кругу этот нелюдим как будто не вращался». Ахматова приводит стихотворные параллели, заключая: «Пушкину для Онегина ничего не жалко – он даже отдает ему собственных “изменниц молодых”». Вывод по содержанию блистательный; аргументы нуждаются в уточнениях. Нелюдимом Онегин становится в деревне; вести активную светскую жизнь и быть нелюдимом невозможно. В столице образ жизни автора и героя во многом совпадает, включая разочарование в нем (на этой почве они и подружились). И полностью совпадает то, как поэт и герой именуют предметы своих ухаживаний: у Онегина они в пору общения – «кокетки записные», «причудницы большого света», задним числом – «рой изменниц молодых». Так что поэт отдает герою не своих «изменниц молодых»[7]7
Ахматова Анна. О Пушкине: Статьи и заметки. 2-е изд.,дополн. Горький, 1984. С. 187-188.
[Закрыть], а свой поэтический прием разного именования (разной оценки) того, что на глазах, и того, что извлечено из памяти. Подарок не менее ценный!
Не хотелось бы оставлять впечатление, что возвратно-поступательная композиция пригодна лишь для стихов экспромтного типа, передающих живое, непосредственное чувство и соответственно интонации импровизационного разговора, возникающего в данную минуту. Есть возможность обратиться к иной ситуации, к стихотворению Пушкина иного типа, лишенному как экспромтного характера, так и импровизационности, стихотворению обдуманному и взвешенному, написанному в интонации спокойного, несуетного размышления. Это элегия «Брожу ли я вдоль улиц шумных…»
Перечитаем ее неспешно, с остановками, выделяя ее композиционные части по ходу разговора.
Брожу ли я вдоль улиц шумных,
Вхожу ль во многолюдный храм,
Сижу ль меж юношей безумных,
Я предаюсь моим мечтам.
Мало сказать гармоничный, просто красивый рисунок мысли: бьющие в одну точку посылки-строчки (их три – магическое число в народном творчестве) – и резюмирующая строка-обобщение.
Правда, это обобщение странное: здесь (если воспользоваться модным нынче словом) не так уж много информации. Так неторопливо и обстоятельно готовится основная мысль, но итога в сущности нет, строфа остается разомкнутой, вывод предстает обещанием. Впрочем, ждать приходится недолго: опорную мысль стихотворения несет вторая строфа:
Я говорю: промчатся годы,
И сколько здесь ни видно нас,
Мы все сойдем под вечны своды —
И чей-нибудь уж близок час.
Свершилось: вот мы и узнали, какая мысль так неотступно тревожила поэта.
И – не будем спешить, последуем за неторопливым складом речи Пушкина. Самое время теперь уже на конкретном материале поразмышлять насчет лаконизма. Дело в том, что в рукописи первоначально вместо двух приведенных строф была всего одна:
Кружусь ли я в толпе мятежной,
Вкушаю ль сладостный покой,
Но мысль о смерти неизбежной
Везде близка, всегда со мной.
Мы знаем множество примеров, когда поэт сжимал, сгущал черновые редакции. Но вот обратный случай, позволяющий рассудить: лаконизм – не самоцель. Замедленное движение к опорной мысли, кружение на подступах к ней обретает дополнительный психологический смысл: слишком интимна, задушевно богата высказываемая мысль, чтобы дать ее в лоб, без разбега, чтобы не потомить читателя ожиданием, ибо ожидание – форма подготовки читательского восприятия.
Помимо всего прочего развертывание одной первоначальной строфы в две (равно как исключение первоначальной шестой строфы, ставшей «лишней»; к тому же она не объединялась по содержанию с соседними) выполнило еще одну сквозную структурную задачу стихотворения: здесь действует закон парности, парного взаимодействия строф.
Принято считать, что, помимо чисто формального скрепления (устойчивого количества строк и характера рифмовки), строфа обладает единством содержательным, ритмико-синтаксическим, выражая законченную мысль. Формально пушкинская элегия выдерживает принцип строфического членения, хотя здесь используется тип микрострофы – четверостишие с наиболее распространенным перекрестным способом рифмовки. В печатном тексте строфы разделены пробелами. Границы строф выдерживаются «чисто», строфических переносов нет.
И все-таки, заключая в себе «ритмико-синтаксическое целое», отдельно взятая строфа элегии содержательно не завершена. Действие «закона парности» мы можем наблюдать на примере первых двух строф: первая строфа не несет особо существенной «информации», она лишь готовит ее; но и вторая, «информационная», строфа звучит в полную силу как раз потому, что превосходно подготовлена первой. Тут и повод отметить явление, композиционная роль которого в общем виде у нас уже выделялась: при парной группировке строф строфическая пауза между ними ослабляется.
Две первые парные строфы различаются своим художественным рисунком: экспозиционная – «поэтичнее» (в том смысле, что гуще оснащена деталями словесной образности), «информационная» – оголеннее: большинство слов здесь употреблено в непосредственном словарном значении.
В первой строфе существенная нагрузка ложится на эпитет: «улиц шумных», «многолюдный храм», «юношей безумных». Композиционно либо сам эпитет, либо определяемое слово выносятся в конец строки; единообразие не переходит в однообразие, поскольку инверсионное в двух случаях положение эпитета разбивается обычным его положением.
Композиционная скрепа строфы – ассонанс на «у»: на малой площади четверостишия этот звук повторен девятикратно; строфа приводится в пособиях по поэтике как хрестоматийный образец ассонанса.
Во второй строфе мысль преимущественно воплощена в своей прямой логической форме, посредством образа-рассуждения. При всей принципиальной разнице в построении двух строф они не выглядят чужеродными в отношении друг к другу. Во-первых, и поэтически «украшенная» строфа обильно вбирает в себя прямое, «словарное» значение слова. Во-вторых, из поэтических украшений выбирается такое, как анафора («брожу ли», «вхожу ль», «сижу ль»), – свойство логически четко построенной речи; в синтаксическом отношении вся первая строфа представляет собой период, когда начальные строки-посылки уравновешиваются строкой-обобщением. Зато уже с первого же случая «логическая» строка задает тон употребления слов не в прямом значении: таково «я предаюсь моим мечтам»; здесь «мечты» имеют не прямое, хотя для Пушкина и характерное значение – «раздумья». Такого рода перифразы будут обычными во второй, «логической», строфе: «сойдем под вечны своды» (ср. черновое прямое – «мысль о смерти неизбежной»; смягчение, эвфемизм перифраза исполнен высокого благородства) и «близок час» (в более широком значении – срок).
В пушкинской элегии картина и рассуждение в известной мере противостоят друг другу; первая строфа по преимуществу картина, вторая – по преимуществу рассуждение. Но обладая относительной самостоятельностью, картина и рассуждение не противопоставлены, а тяготеют к близкому соседству, взаимодействию, даже взаимопереходу друг в друга. Каждый из двух типов образов не столько контрастно оттеняет достоинства другого, сколько вступает с ним в тесное содружество, перенимая его достоинство. Логическое «мы все сойдем под вечны своды» благодаря перифразу несет на себе отсвет картинности, хотя это именно отсвет, поскольку «вечны своды» вряд ли нужно представлять зрительно (да и не в русских обычаях было оставлять гробы в склепах). Читательское восприятие вообще стремительно; в процессе чтения мы не делаем остановок, дабы воспроизвести в сознании ту или иную картину; и все-таки акцент в обращении поэта к чувственному или рациональному восприятию существует; этим обстоятельством и мотивируется целесообразность подразделения словесных образов на картины и рассуждения.
Пушкинская элегия и далее строится на плодотворном взаимодействии картины и рассуждения.
Парно расположены две последующие строфы элегии:
Гляжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю: патриарх лесов
Переживет мой век забвенный,
Как пережил он век отцов.
Младенца ль милого ласкаю,
Уже я думаю: прости!
Тебе я место уступаю:
Мне время тлеть, тебе цвести.
Обе строфы в своем построении аналогичны, обе используют принцип параллелизма. Общему же движению стихотворения они придают возвратно-поступательный характер. Возвратный – потому что происходит возрождение формы начальных посылок (ср.: «Брожу ли я вдоль улиц шумных» и др. – «Гляжу ль на дуб уединенный» и – с инверсией – «Младенца ль милого ласкаю»). Поступательный – потому что возвращение к исходному не абсолютно, каждая из новых строф по-своему варьирует, развивает, подвигает логическую мысль второй строфы.
Если образ-картина и образ-рассуждение начальных строф, стремясь к близкому контакту, все-таки в основном расчленены, в последующих строфах они фактически слиты. Основа этих строф – рассуждение («я мыслю», «уже я думаю»), но поскольку предмет рассуждения уже афористически сформулирован, новые нюансы добавляется исключительно за счет картинного оформления мысли. И опять-таки эмоциональное воздействие картинности подкрепляется эмоциональным тоном рассуждения: высокий предмет раздумий питает архаизированную торжественность речи («дуб уединенный» – без «ё»: рифмуется с «забвенный»; конкретное «дуб» сменяется перифразом «патриарх лесов»); по-прежнему пленяет изящная звукопись («прости», «место уступаю», «цвести»; «младенца ль милого ласкаю» и др.).
Четвертая строфа исчерпала половину текста стихотворения. Содержание отрывка концентрируется вокруг опорной, афористически выраженной мысли:
Мы все сойдем под вечны своды —
И чей-нибудь уж близок час.
Начальная строфа эмоционально готовит этот вывод, две последующие строфы, не уклоняясь от заданной темы, варьируют основную мысль, внося в нее дополнительные оттенки. Вот почему и возникает проблема поэтического лаконизма, ибо мы наблюдаем явное, хотя почему-то не бросающееся в глаза: мысль поэта неоднократно описывает круги. Остается вопрос: почему поэта не удовлетворило однократное рассуждение?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































