Текст книги "Лирика: поэтика и типология композиции"
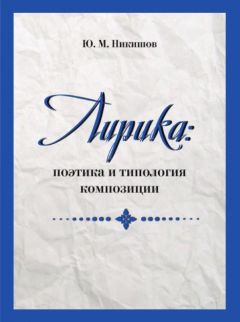
Автор книги: Юрий Никишов
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
Сюжетная
Но там, где что-то происходит, возможен рассказ об этом: возникает сюжет! Сразу оговоримся: в лирике законно наличествует жанр сюжетный – баллада; о нем говорить не будем, жанр потребовал бы слишком большого отвлечения.
Рассмотрим «партизанский» захват сюжета бессюжетной лирикой. Если встречаем сюжет (хотя бы его звенья), это неминуемо означает движение, но если сюжет совпадает с фабулой, то движение и получится линейным.
Модернизация эпического сюжета в лирике хорошо видна в стихотворении Юрия Кузнецова «Атомная сказка».
Эту сказку счастливую слышал
Я уже на теперешний лад,
Как Иванушка во поле вышел
И стрелу запустил наугад.
Он пошел в направленье полета
По сребристому следу судьбы.
И попал он к лягушке в болото,
За три моря от отчей избы.
– Пригодится на правое дело! —
Положил он лягушку в платок.
Вскрыл ей белое царское тело
И пустил электрический ток.
В долгих муках она умирала,
В каждой жилке стучали века.
И улыбка познанья играла
На счастливом лице дурака.
Стихотворение (имеющее дату 2 февраля 1968 года) перепечатывалось много раз, получило несколько обновлений. В первой строке сказка первоначально именовалась нейтрально «старинной». Изменение добавило горечи иронии в адрес сказки атомной; добавление, на мой взгляд, необязательное; горечи сарказма в концовке и без того предостаточно. Отмечу и еще одно заострение. Вначале стрела падала «вдалеке от родимой избы». Гипербола удержу не знает: «за три моря от отчей избы». Стрелу на такое расстояние не запустить (ныне ракета понадобится) – и как на таком расстоянии со сребристого следа не сбиться? Но, может быть, здесь хоть и в атомную сказку включен собственно сказочный мотив, который не требует бытового соответствия.
Новый герой вначале повторяет действие своего далекого предшественника, а потому именуется по инерции ласково Иванушкой. Иван – активное имя в сказочном репертуаре. Тут встретим и царевича, и крестьянского сына, и умного, и дурака. В старинных сказках в ходу сюжет, когда братьев оценивают по репутации («Старший умный был детина, / Средний был и так и сяк, / Младший вовсе был дурак»), а победа, вопреки этой умозрительной иерархии, останется за младшим. В атомной сказке нас ждет рокировка. Здесь герой, в умственных способностях которого вроде бы не было повода сомневаться, заслуживает суровый авторский приговор.
Правомочно ли здесь определение – сюжетная композиция? Что за сюжет в четырех четверостишиях? Вышел в поле, пустил стрелу, пошел по следу: вот и половина стихотворения. Повторяет схему старинной сказки. Прихватил добычу, использовал для какого-то эксперимента, получил авторскую отповедь: это новое, но его не густо. Между тем это звенья именно сюжета, и они не противоречат пластике именно лирического повествования. В лирике совсем не обязательно заполнять связи между картинами или рассуждениями: эти связи восстанавливаются воображением читателя. Александр Блок заметил: «Всякое стихотворение – покрывало, растянутое на остриях нескольких слов. Эти слова светятся как звезды. Из-за них существует стихотворение». Поэт признает и «темные» стихи, где опорные слова «не блещут». «Хорошо писать и звездные, и беззвездные стихи, где только могут вспыхнуть звезды или можно их самому зажечь» [3]3
Блок Александр. Записные книжки. М., 1865. С. 84.
[Закрыть]. Отсюда вытекает, что чтение стихов – это особого рода искусство. Надо уметь выделять опорные слова, надо уметь улавливать связи между ними: пластика описания в стихах совсем иная, чем в прозе. Так что сюжет остается сюжетом, хотя в лирике обретает свою специфику.
Не льстит Кузнецов потомкам, хоть они и ума-разума поднабрались, и технически далеко от предков ушли. Поэт решительно против самоцельного познания, ради познания как процесса, без обдумывания последствий затеянного эксперимента. Сказочными надеждами жить нельзя, но высушенным умозрением жить не лучше.
Евангельский эпизод нашел воплощение в стихотворении Бориса Пастернака «Чудо» (включается в цикл «Стихотворения Юрия Живаго»).
Он шел из Вифании в Ерусалим,
Заранее грустью предчувствий томим.
Колючий кустарник на круче был выжжен,
Над хижиной ближней не двигался дым,
Был воздух горяч и камыш неподвижен,
И Мертвого моря покой недвижим.
И в горечи, спорившей с горечью моря,
Он шел с небольшою толпой облаков
По пыльной дороге на чье-то подворье,
Шел в город на сборище учеников.
И так углубился он в мысли свои,
Что поле в унынье запахло полынью.
Все стихло. Один он стоял посредине,
А местность лежала пластом в забытьи.
Все перемешалось: теплынь и пустыня,
И ящерицы, и ключи, и ручьи.
Смоковница высилась невдалеке,
Совсем без плодов, только ветки да листья.
И он ей сказал: «Для какой ты корысти?
Какая мне радость в твоем столбняке?
Я жажду и алчу, а ты – пустоцвет,
И встреча с тобой безотрадней гранита.
О, как ты обидна и недаровита!
Останься такой до скончания лет».
По дереву дрожь осужденья прошла,
Как молнии искра по громоотводу.
Смоковницу испепелило до тла.
Найдись в это время минута свободы
У листьев, ветвей, и корней, и ствола,
Успели б вмешаться законы природы.
Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог.
Когда мы в смятеньи, тогда средь разброда
Оно настигает мгновенно, врасплох.
Наверное, заслуживает отдельного внимания обзор и буквальных соответствий первоисточнику, и, более того, отклонений от него. Но можно предположить, что буквализм вряд ли интересен рассказчику: пересказ позволяет выразить мироощущение поэта.
Сюжетная композиция существует не только в индивидуальных пересказах историй, известных по другим источникам. Кстати, у Пастернака очень активна сюжетная композиция на основе быта. Тут все дело не в констатации, а в философском осмыслении происходящего.
Статичная
Отметим статичный тип линейной композиции. Ее условие – известное равноправие, автономия самостоятельных частей, причем описываемые явления происходят одновременно. Человеческому размышлению обычно свойственна динамичность, внутренний диалогизм; посылки, аргументы не равны выводу. Трудность понимания этого типа композиции в том и состоит, что отнюдь не очевидной предстает последовательность размещения по сути равноправных компонентов. Тем не менее статичные структуры встречаются, и они представляет определенный интерес.
Обзор начнем с самой простой структуры: описание – медитация по его поводу. Вот стихотворение Степана Щипачева:
Себя не видят синие просторы,
И в вечном холоде светлы, чисты,
Себя не видят снеговые горы,
Цветок своей не видит красоты.
И сладко знать, идешь ли ты лесами,
Спускаешься ли горною тропой:
Твоими ненасытными глазами
Природа восхищается собой.
Выразительный образец статичной композиции – лермонтовское «И скучно и грустно…»
И скучно и грустно! – и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды…
Желанья… что пользы напрасно и вечно желать?
А годы проходят – все лучшие годы!
Любить – но кого же? – на время не стоит труда,
А вечно любить невозможно…
В себя ли заглянешь? – там прошлого нет и следа,
И радость, и муки, и всё так ничтожно.
Что страсти? – ведь рано иль поздно их сладкий недуг
Исчезнет при слове рассудка,
И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, —
Такая пустая и глупая шутка!
Воистину – Лермонтов выговаривается сразу, если не в первой строке, то уж полностью во вступительном двустишии. Правда, выдвинутый тезис слишком решителен, он поверяется серией вопросов. Ответы однозначны.
Все-таки попробуем собрать все, на что падает взор поэта: желанья? любовь? следы прошлого? страсти? И вроде бы все полно движения: «годы проходят»! Только то, что проходит (как в «Думе»), не оставляет приметных следов…
Возможно, возникнет впечатление, что в стихотворении все-таки происходит нарастание экспрессии: конкретные посылки завершаются обобщением: желанья, любовь, страсти – и жизнь. Ведь очевидно, что жизнь как целое не равна ее частным проявлениям.
Но тут выясняется: в логике данного стихотворения частное и обобщенное имеют общую судьбу. «И радость, и муки, и всё так ничтожно». «Всё» – обобщение уравнивает контрастное, радости и муки, однако одно, и другое, и третье дается с тем же сочинительным союзом, в едином ряду, без выделения.
Лермонтов начинает стихотворение предельно высокой нотой; далее он как раз пытается сбавить тон, найти нечто снимающее напряжение; эти попытки безуспешны, поскольку тотчас опровергаются; частное и общее уравнены. Впрочем, поменять местами тут ничего нельзя. Формально равное частному обобщающее «жизнь» все-таки единственно на своем, заключительном месте.
Еще заметим: данное стихотворение полностью медитативно, а это означает, что последовательность рассуждения целиком в воле художника.
Логическая
Стихотворение Лермонтова «Завещание» «эпично» в том смысле, что представляет собой монолог лица, отделенного от поэта: это исповедь умирающего солдата. Разумеется, это характерное лермонтовское стихотворение, просто авторское миросозерцание здесь обретает опосредованное выражение.
Стихотворение состоит из четырех восьмистрочных строф; Лермонтов очень строго выдерживает чистоту строфы не только во внешнем, формальном (рифмическом) отношении, но и в содержательно-тематическом: каждая строфа несет и исчерпывает свой идейный мотив, важный как компонент целого. Правда, строфические теории предписывают и интонационное единство, однако это требование само по себе следует признать чрезмерным (оно предопределяло бы монотонность строфически организованных произведений); в лермонтовском «Завещании» интонационное единство строфы мешало бы передать живую непосредственность устной речи; естественно, поэт отдает предпочтение последнему.
Композиционное построение стихотворения («что за чем») имеет колоссальное значение для уяснения всех оттенков его содержания. Сначала просто пройдем вслед за автором.
«Завещание» начинается густо информационной строфой.
Наедине с тобою, брат,
Хотел бы я побыть:
На свете мало, говорят,
Мне остается жить!
Поедешь скоро ты домой;
Смотри ж… Да что? моей судьбой,
Сказать по правде, очень
Никто не озабочен.
Болью неизбежной разлуки наполнены первые слова умирающего солдата. Достаточно было бы одной причины разлуки, а их сразу две: близость пророчимой (кем? ужели лекарями? ) смерти и скорый отъезд товарища; одна причина дублирует другую и делает разлуку совершенно неотвратимой, причем разлукой навсегда. Легко понять, что это усугубляет страдания умирающего.
Но собеседник – земляк, и он едет на родину: реальна возможность передать последний, прощальный привет. Это и образует подспудный «сюжетный» нерв стихотворения. Заявка дана сразу же: «Смотри ж…» Это заявка на напутствия. Позже она будет реализована, создавая «программу» стихотворения; здесь через все три «адресные» строфы проходит наказ: скажи им – скажи – расскажи. Собственно, аналогичный жест задан уже первой строфой: «сказать по правде»; он обращен не столько к другу, сколько к самому себе.
В своем начале программа напутствий прерывается на полуслове. Мир лермонтовского стихотворения удивительно многослоен. Монолог по форме постоянно усложняется, становится диалогом и полилогом: просто сознание одного человека пытается понять сущее с разных сторон, пытается спорить само с собой; «маленький», беспомощный человек оказывается «наедине» с огромным, холодным, безграничным миром – и ищет с ним духовного контакта. Этот человек неуемно жаден – и трезво скромен. Вот почему он молит о контакте – и не надеется на него («моей судьбой, / Сказать по правде, очень / Никто не озабочен»). Он не надеется на контакт – и жаждет его. Драма героя вполне определилась уже в первой строфе: трезвый голос уже вполне ясно пророчит бессмысленность усилий к контакту, но порыв настолько силен, что резоны рассудка усмирить его бессильны. Впрочем, тормоз разума не бесследен: герой не апеллирует к миру в целом, он всецело обращается к миру близких. Естественно, помнить его могут только на родине.
А если спросит кто-нибудь…
Ну, кто бы ни спросил,
Скажи им, что навылет в грудь
Я пулей ранен был;
Что умер честно за царя,
Что плохи наши лекаря,
И что родному краю
Поклон я посылаю.
И вот первый парадокс, а может быть (мало этого слова), чудо стихотворения: мольба, безусловно, адресованная близким, обретает нарочито обобщенную форму («Ну, кто бы ни спросил…») И никак, ничем не подтвержденная в конкретном смысле мольба (не будем же мы наивно полагать, что говорит реальный солдат NN, адресующийся к землякам N-ского уезда N-ской губернии, вряд ли услышанный земляками) именно и только в этом обобщенном виде находит отклик! «Кто бы ни спросил…» Но более полутора веков существует лермонтовское стихотворение, и у скольких (уже мало сказать – читателей) читательских поколений наполнялось сердце сочувствием и состраданием; обмолвка, безгранично расширяющая круг адресатов, оказалась многозначительной. Находишь там, где не искал. Правда, для этого понадобилось перевоплощение реального (или подобного реальному) явления в акт искусства; не голос умирающего солдата, а голос поэта слышат читатели; но поэт захотел говорить голосом солдата.
Строфа начинается придаточным условия: «А если спросит кто-нибудь… / Скажи им…» А если не спросят? Мал шанс быть услышанным у «прототипа» героя «Завещания» – и каким мощным усилителем стало слово поэта!
А далее новый парадокс. Земляки о пропавшем солдате могут спросить – и не спросить, но есть двое, кто спросил бы непременно, – если живы. Но им приготовлен иной ответ:
Отца и мать мою едва ль
Застанешь ты в живых…
Признаться, право, было б жаль
Мне опечалить их;
Но если кто из них и жив.
Скажи, что я писать ленив,
Что полк в поход послали,
И чтоб меня не ждали.
Кто помнит – лучше бы не помнили, кто не очень помнит – хотелось бы, чтобы вспомнили: вот каким сложным и противоречивым, как жизнь, предстает мир человеческих отношений в стихотворении Лермонтова.
В исповеди перед миром человек раскрывается сам. Глубоким, очень емким предстает характер героя в «Завещании».
Уже в первой строфе привлекает беспредельное мужество смотреть суровой правде в глаза. Но и слаб человек, чтоб вовсе отказаться от иллюзий. Очень условна надежда второй строфы: «А если спросит кто-нибудь…» Но есть эта надежда, и греет она остывающее сердце. А еще пересеклись в одной точке такие разные чувства – и нотка тщеславия (все-таки хочется, чтоб кто-нибудь о нем вспомнил), и великодушие (он-то привета с родины уже не дождется, но сам родному краю посылает последний благодарный поклон). Третья строфа – апогей великодушия: отказ от сочувствия там, где оно всего реальнее. Жаль печалить близких; груз печали солдат берет на себя.
Делу венец – конец; это строфа четвертая:
Соседка есть у них одна…
Как вспомнишь, как давно
Расстались!.. Обо мне она
Не спросит… всё равно,
Ты расскажи всю правду ей,
Пустого сердца не жалей;
Пускай она поплачет…
Ей ничего не значит!
Возникает целая триада: «спросит кто-нибудь» – отец и мать (или кто-то из них, если жив) спросят: это элементарно предполагается – «она не спросит». В третьем случае разговору быть в новых условиях: заведомо на преодолении сопротивления. Изложение приобретает новые краски и существенно корректирует сказанное вначале.
Выделим строку: «Ты расскажи всю правду ей…» Видимо, возможны варианты в понимании строки: где поставить акценты. Можно «сглотнуть» словечко «всю», выделив «правду»: правда – она и есть правда, а что «вся», это просто для усиления, как правда под честное слово. Однако можно подчеркнуть «всю правду», т. е. мере придать решающее значение: правда бывает и частичной, и полной. Такой подход резоннее: у больших поэтов слов-«затычек» не бывает. Но тогда возникает возможность под этим углом зрения вновь увидеть все содержание стихотворения.
Знаменательно, что слово «правда» замыкает «Завещание» на кольцо: соседке нужно сказать «всю правду» – умирающий сам умеет смотреть на вещи прямо: «моей судьбой, / Сказать по правде, очень / Никто не озабочен». Уже отмечалось: солдат способен говорить по правде, но – слаб человек – может, хотя бы немножко, уступать напору иллюзий.
И вот вопрос: есть ли разница между «всей правдой», которую нужно рассказать соседке, и той правдой, которую нужно сообщить землякам (тем, которые полюбопытствуют о судьбе солдата)? Это – «вся» правда?
Скажи им, что навылет в грудь
Я пулей ранен был;
Что умер честно за царя,
Что плохи наши лекаря…
Конечно, это – правда, от первого до последнего олова. И все-таки это не «вся» правда или, другими словами, не «такая» правда, которую надо сказать соседке. Сообщение для земляков не лишено примет индивидуальности, но индивидуальное уступает место обезличенности, казенному слогу («умер честно за царя»). Правда остается правдой, но она уже не «вся» правда, поскольку становится отретушированной, подрумяненной, – «Федот, да не тот». Соседке нужно сказать правду без грима, конкретную, а потому страшную. Обезличенная правда предназначается и обезличенным слушателям; она и на реакцию рассчитана официальную, холодно-вежливую. Индивидуальная правда сильна подробностями, деталями, которые не выдуманы, они единственны.
Дыхание трагедии усиливается от строфы к строфе. Трагедия обозначена сразу: судьбой солдата «очень / Никто не озабочен». «Не очень» будут опечалены земляки, даже если печальная весть до них дойдет. «Не очень» озабочены судьбой солдата родные: они оплакали заживо еще рекрута и давно живут своими печалями, солдату и не хочется добавлять еще одну. Соседка не просто забыла, а уже при расставании вычеркнула из памяти…
Почему же тогда трагедия все-таки требует своего катарсиса, такого малого – слез пустого сердца, которые ничего не значат?
Тут, видимо, надо усмотреть две причины. Одна, побочная, приоткрывает трагедию давнюю, трагедию разлуки. Сердце соседки названо пустым: оно не опустело за годы разлуки (как бы узнал об этом солдат: более они не общались); стало быть, сердце соседки обнаружило себя пустым при расставании. Солдат проявляет себя великодушным перед земляками, не навязывая им печаль по себе («если спросит…») и умеряя ее официальностью предстоящего диалога. Солдат проявляет себя великодушным перед родителями, отказываясь прибавлять им новую печаль. Но солдат отнюдь не великодушен перед соседкой. В рассказе против ее желания отчетлив укор: что-то было при разлуке, что не прощается. «Пускай она поплачет…»: императив жесткий, неуступчивый.
Однако подобный ход был бы более оправдан, если бы был рассчитан на раскаяние, на глубокие, пусть запоздалые чувства. Но солдат не забывает о пустом сердце и ничего не значащих слезах. Неужели и в них все-таки есть отрада?
Произносятся слова прощальные, последние, перед нами завещание. Подводится итог жизни, устанавливается ее ценность. Тут есть слова высокие, есть скептические. На великую чашу весов кладется человеческая жизнь – и ее уравновешивают легко вызываемые, недолгие, ничего не значащие слезы пустого сердца? Даже сердечных материнских слез солдат не хочет: ему хватит таких. Такая малая цена? Как грустно! Однако торг не на базаре, а перед совестью. Оценим мужество героя и стоящего за ним поэта, и наступает катарсис – очищение через сострадание, которое происходит в душе читателя…
От первой к третьей строфе по нарастающей развивается мотив великодушия. Но если бы тот же акцент давала последняя, четвертая, строфа – все стихотворение обретало бы совсем иной смысл, замыкаясь в рамках морали христианского всепрощения. Но нет этого смирения в бунтарском лермонтовском стихотворении. Герой, способный на высокую степень благородного великодушия, в последнем эпизоде проявляет жестокость, настаивая на ней. Но это отнюдь не агрессивное общее озлобление, но частного характера мстительность. Сущая малость («ей ничего не значит») оказывается принципиально значимой: она делает образ героя не плоским, а многомерным.
Трудным оказывается контакт человека и мира. Человек поставлен в безысходную ситуацию: он обречен, он одинок, он умирает. Но какой диапазон чувств в этом угасающем сознании! Какая амплитуда неостывающих желаний!
В другом авторском размышлении «И скучно, и грустно…» прогнозировалось, что страсти исчезнут «при слове рассудка». Герой «Завещания» сохраняет ясный ум – но действует под напором страстей! Он зажигается возможностью послать поклон землякам и четко переходит от общего к интимному. Поскольку страсти не контролируются рассудком, возникает противоречие: чтό, если земляк, поинтересовавшийся судьбой солдата, придет с соболезнованиями к родителям солдата (если они живы), а им уже сказано, что сын в поход услан…
Удивительная четкость композиции позволяет атрибутировать композицию стихотворения – логическая. Но логический строй не возглашается. И какой логики ждать от устной речи, произносимой экспромтом, да еще и с прямым противоречием: надиктовывая разные сообщения о своей судьбе отдельно для любопытствующих и для родных, солдат упускает из виду, что земляки могут общаться и без посредников. Но имеется в виду не логика речи рассказчика, а логика построения стихотворения, которая безупречна.
Строфы произведения невозможно поменять местами, каждая строго на своем месте. Они обладают высокой автономией, что раздвигает картину мира, и задают целенаправленное движение от обобщенного к индивидуальному.
В «Завещании» уравниваются порывы страстей и голос рассудка. Оставаться человеком до конца – не в этом ли смысл лермонтовского завещания? И до последнего дыхания – жить земными заботами?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































