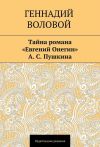Текст книги "Непонятый «Евгений Онегин»"

Автор книги: Юрий Никишов
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Будем держать в сознании облик автора (по его биографическим данным) – другими глазами будем видеть то, что изображено в романе. Увидим то, на что вряд ли обратили бы внимание.
Парный портрет автора и героя
Возникает устойчивое впечатление, что Онегин настолько погружен в собственный внутренний мир, что вовсе не замечает окружающего его мира. Вот пример.
Онегин едет на бульвар,
И там гуляет на просторе,
Пока недремлющий брегет
Не прозвонит ему обед.
«Гуляет на просторе…»[70]70
К слову, Пушкин вычеркивает в черновике «в тесноте» (VI, 227), которое более соответствует реальности.
[Закрыть]. Воистину, ему просторно на бульваре: как будто он тут один-одинешенек; ни встреч, ни наблюдений, ни эмоций – ничего[71]71
Колоритность детали многократно усиливается, если взять во внимание, что указанный бульвар – это Невский проспект. См.: Бродский Н. Л. «Евгений Онегин». Роман А. С. Пушкина. С. 69; Набоков В. Комментарии. С. 71; Кошелев В. А. ««Онегина» воздушная громада…» (2009). С. 29. Напрашивается красноречивое сравнение с повестью Гоголя.
[Закрыть]. Пушкинский герой, если опереться на понятия современных психологов, – типичный интроверт.
Онегин на самом деле замкнут в себе и не любопытен. Но многое зависит и от манеры авторского повествования: необычайно широкая по своему диапазону (и в эпизодах весьма разнообразная), авторская речь не ставит задачей передать процесс мышления героев, воспроизвести непосредственную диалектику души, с комплексом переживаний. В повествовательной манере романа гибкой и подвижной является прежде всего авторская интонация.
Но Онегин (он же ведет светскую жизнь) часто рисуется и на фоне других лиц, впрочем, чаще обозначенных лишь силуэтно. Исключение доступно образу автора: тут показано общение духовное. Выделим сцену сближения автора и героя, их прогулки белыми петербургскими ночами по набережной Невы.
Воспомня прежних лет романы,
Воспомня прежнюю любовь,
Чувствительны, беспечны вновь,
Дыханьем ночи благосклонной
Безмолвно упивались мы!
Как в лес зеленый из тюрьмы
Перенесен колодник сонный,
Так уносились мы мечтой
К началу жизни молодой.
Велик соблазн иронично воспринимать указание, что поэт и его герой «мечтой» уносятся «к началу жизни молодой»: оба от этого самого начала ушли еще совсем не далеко. Парадокс и в том, что жизнь Онегина от самого рождения перед нами как на ладони: здесь не все показано, но вроде ничего и не утаено; в этой жизни нет отрадной полосы, куда можно было бы погружаться воспоминаниями; в «начале жизни» Онегина «не было ничего мечтательного и поэтического»[72]72
Слонимский А. Мастерство Пушкина. М., 1959. С. 314.
[Закрыть]. Но ведь перед нами не портрет героя, а парный портрет поэта и героя: у поэта было за плечами нечто неизгладимо вечное (несколько позже Пушкин и «каторжную нору» Пущина осветит «лучом лицейских ясных дней»). И еще: здесь требуется пренебречь бытовыми деталями и «начало жизни» понимать в философском плане (можно ведь обдумывать и неиспользованные – соответственно, в романе не обозначенные – варианты влечений).
Отмечая способность Онегина умозрением заменять поступок, припомним ситуацию умозрительных совращений героем юных девиц: в этом свете она не покажется слишком фантастической.
Остается признать, что авторское указание на сходство Онегина с Кавказским пленником – по первому замыслу – вполне основательно. В исходном моменте Онегин представляет собой тот же самый типаж, что и Пленник: человек с «преждевременной старостью души», охваченный немотивированной романтической разочарованностью в жизни (и тем оба близки поэту, раньше их пережившему в прошлом нечто подобное). Онегин похож на Пленника и тогда, когда устремляется «мечтой / К началу жизни молодой»: у Пленника вроде бы в истоках тоже нет ничего отрадного, а поди ж ты – воспоминания довлеют даже над живым (привлекательным!) чувством.
Отношение поэта к его первой южной поэме неоднозначное: поэма начинает цикл южных романтических поэм, во многом носит новаторский характер – Пушкин любил ее («…отеческая нежность не ослепляет меня насчет «Кавказского пленника», но, признаюсь, люблю его сам, не зная за что; в нем есть стихи моего сердца», – говорится в черновике письма Гнедичу 29 апреля 1822 года; Х, 508) и в то же время судил о недостатках поэмы едва ли не резче, чем его друзья, высказывавшие критические замечания. В письме к В. П. Горчакову (1822) мнение выражалось категорично: «Характер Пленника неудачен; доказывает это, что я не гожусь в герои романтического стихотворения» (Х, 42). Неожиданным здесь является удостоверение автобиографического характера героя поэмы. Выясняется: даже при почти полном отсутствии внешних совпадений в биографиях автора и героя между ними может возникнуть тайная внутренняя близость.
Должное надо отдать и автобиографическим краскам в портрете Онегина. Это ведь не просто акварель (за отсутствием еще в ту пору фотографии) себе на память. Герой сам по себе или в духовном родстве с автором – это обобщение типических явлений в жизни (лично близких поэту). Преждевременное взросление ведомо Пушкину (элегический цикл поэта-лицеиста конца 1816 – начала 1817 годов), это явление, им наблюдаемое («Стансы Толстому», 1819). Начало взросления переживается Пушкиным вовремя и реально (1821: «Кокетке», «Алексееву», «Приятелю»). В письме Дельвигу 23 марта 1821 года поэт пускает в ход своеобразнейшую метафору: «под старость нашей молодости» (Х, 23).
Онегин нарочито дан человеком со своей особенной судьбой, не повторяющей судьбу поэта. Их объединяет только в самом широком смысле общность среды, принадлежность к одному поколению. Они родились в разных местах, и выросли в семьях разных, и воспитание у них иное и т. д. Все основания оговорить «разность» между Онегиным и автором.
А наряду с этим какая удивительная общность героя и автора! Об органической связи автора и героя в первой главе выразительно писал Е. Е. Соллертинский: первая «глава лишь внешне посвящена Онегину, внутренне же в ней идет параллельное развитие персонажа, пожалуй, не менее важного, чем Онегин, – автора романа, рассказчика, современника и в какой-то мере участника событий. Площадь этой главы не распределена между ними поровну или как-либо еще. Вовсе нет – они оба развиваются друг в друге: то Онегин вдруг приоткроется в каком-то сокровенном размышлении автора, то автор мелькнет на фоне бала, разделив чувства своего героя, то протянется прямая параллель между ними в как будто невзначай брошенном «мы», порой очень значительном»[73]73
Соллертинский Е. Е. Лирические отступления и их место в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин». С. 61–62.
[Закрыть].
Картина будет более рельефной, если мы, увидев сходство изображаемых, отметим и их различие. Такой широты подхода в пушкиноведении мне не встречалось. Возможно, подсознательно ощущалась неэтичность самой задачи: как можно углубляться в сопоставление несопоставимого? С одной стороны тут первый поэт России, с другой – не очень щедро наделенный талантами виртуальный персонаж… Боюсь, что именно такое восприятие, даже и неосознанное, влияло на формирование негативного отношения к Онегину. Между тем с полным основанием мы можем сопоставлять изображение персонажей, имея в виду не биографического Пушкина, а включенный в повествование образ автора, «я» текста.
Тут обнаружится неожиданность: герой оказывается решительнее, чем поэт. Разочаровавшись в светском способе прожигания жизни, Онегин последователен в разрыве с подобным образом жизни. Этого не видят, соответственно не признают критически воспринимающие героя исследователи. Поэт хотя бы в мягкой форме отдает дань традиции: на романтического героя, личность крупную и своевольную, было принято смотреть взглядом снизу вверх. Есть такой ракурс и в изображении Онегина:
Сперва Онегина язык
Меня смущал; но я привык
К его язвительному спору,
И к шутке с желчью пополам,
И злости мрачных эпиграмм.
Привычка уравняла отношения автора и героя!
Как сказывается на восприятии героев то обстоятельство, что они предстают перед читателем не на равных? Единственный источник наших сведений о вымышленном Онегине – текст романа и авторские суждения о герое за его пределами. Автор, помимо того, что он создатель произведения, еще и явлен в нем как персонаж. Тут он сопоставим с героем. Но он же не перестает быть человеком с биографией, создателем многих других произведений. Невозможно забыть об этом! И не надо забывать: что такое преждевременная старость души, нагляднее показано в пушкинской лирике. Противопоказано только подменять иными материалами изображение романа.
С учетом этих соображений все-таки приходится признать, что изображение героя, каким бы оно ни было широким, все равно оказывается несколько сплюснутым в сравнении с изображением персонажа, который еще известен нам и по другим источникам. Не потому ли обозначена бόльшая резкость и категоричность в отречении от соблазнов светской жизни у Онегина, чем у автора, который декларирует отречение, но продолжает многим любоваться?
Кроме того как не вспомнить особенность первоначального замысла: на Онегина обрушилась преждевременная старость души, «равнодушие к жизни и ее наслаждениям»; такой процесс и не мог быть длительным.
Надобно учитывать и такое обстоятельство. Пушкину претит указующий перст классицистов. Ему интереснее рисовать проблемную ситуацию, в которой выбор героя не декларируется, а обозначается. Позиция автора остается последовательной и четкой, но читателю надлежит понять ее по косвенным деталям. А поэт не прочь даже и провоцировать читателя.
Несколько обгоняя сюжетные события, хочу поддержать М. Л. Гаспарова в его проницательном противопоставлении авторского решения читательским ожиданиям: «Вот Евгений Онегин получил письмо от Татьяны. Чего ждали первые пушкинские читатели? «Вот сейчас этот светский сердцеед погубит простодушную девушку, как байронический герой, которому ничего и никого не жаль, а мы будем следить, как это страшно и красиво». Вместо этого он вдруг ведет себя на свидании не как байронический герой, а как обычный порядочный человек – и вдруг оказывается, что этот нравственный поступок на фоне безнравственных ожиданий так же поэтичен, как поэтичен был лютый романтизм на фоне скучного морализма. Нравственность становится поэзией – разве это нам не важно?
А теперь – внимание! Пушкин не подчеркивает, а затушевывает свое открытие, он пишет так, что читатель не столько уважает Онегина, сколько сочувствует Татьяне, с которой холодно обошлись. И в конце романа восхищается только нравственностью Татьяны («Я вас люблю… но я другому отдана»), забывая, что она научилась этому у Онегина. А зачем и какими средствами добивается Пушкин такого впечатления – об этом пусть каждый подумает сам, если ему это интересно…»[74]74
Гаспаров М. Л. Филология как нравственность: Статьи, интервью, заметки. М., 2012. С. 190–191.
[Закрыть].
В этом замечательном размышлении есть серьезная неточность. Пушкин отнюдь не затушевывает свою позицию, а прямо ее выставляет на вид, поскольку четвертой главе романа предпосылает эпиграф (из Неккера): «Нравственность в природе вещей» (подлинник по-французски). Но парадоксально, что перед этим он сам провоцирует отношение к Онегину как к безжалостному байроническому герою:
Татьяна, милая Татьяна!
С тобой теперь я слезы лью;
Ты в руки модного тирана
Уж отдала судьбу свою.
Погибнешь, милая…
Открываясь Онегину, Татьяна серьезно рисковала. Она могла погибнуть, и если не погибла, то потому, что перед ней ее кумир не был соблазнителем.
Так что главное наблюдение М. Л. Гаспарова не только не слабеет, а увеличивает свою силу. Читатели не просто поддаются своему своеволию, но якобы следуют прямой (а фактически провокационной) подсказке автора, тогда как воля его обозначается в эпиграфе. В основе такого читательского (и распространенного исследовательского!) субъективизма – недооценка решительности Онегина в его разрыве со светским образом жизни. В сознании многих в деревню приезжает все тот же светский лев. Переход героя от демонстративного нарушения приличий на позиции нравственности остается незамеченным!
А почему Пушкину понадобилось оговаривать своего героя, именуя его «модным тираном»? Потому что ему нужен вдумчивый читатель, который автору только на слово не верит. Доверяй – но наблюдай и размышляй!
Тут еще раз откроем предисловие к первой главе. Пушкин сообщает, что у него уже готовы «несколько глав» (реально в черновике таковых три; создание беловых рукописей поэт не датирует). Далее – неожиданность: «Писанные под влиянием благоприятных обстоятельств, они несут на себе отпечаток веселости…» (по аналогии с «Русланом и Людмилой»). Обстоятельства названы благоприятными откровенно издевательски в адрес тех, кто их устроил. Еще поэт прогнозирует, что «дальновидные критики» станут осуждать «некоторые строфы, писанные в утомительном роде новейших элегий, в коих чувство уныния поглотило все прочие» (V, 427). Включая веселость!
Вот такая задачка встает перед нами: как найти синтез обозначенных крайностей? Ведь веселость и уныние – это действительно крайности, противоположные полюса психологических состояний.
Пушкинские элегические настроения отчетливы и в грусти по Петербургу, который кем-то сочтен «вредным» для поэта. Они и в грустном расставании с театром, знаковым увлечением автора. На каком-то душевном сломе строится заключительная строфа воспоминаний о театре. Первые семь строк – целая серия набегающих друг на друга вопросов, исполненных темпераментного пафоса, взволнованных восклицаний:
Мои богини! что вы? где вы?
Внемлите мой печальный глас:
Всё те же ль вы? другие ль девы,
Сменив, не заменили вас?
Услышу ль вновь я ваши хоры?
Узрю ли русской Терпсихоры
Душой исполненный полет?
В сущности, ничто не мешало ответить если не на все, то на многие вопросы утвердительно. Никто (и сам поэт) не считал ссылку вечной. Надежда на возвращение в Петербург была неясной во времени, но не прерывалась. Следовательно, новая встреча с театром была несомненной. А между тем грусть овевает мечту поэта! Последующие семь строк строфы заполняет единственный вопрос, обращенный к самому себе. Но откуда тут усталая, онегинская интонация?
Иль взор унылый не найдет
Знакомых лиц на сцене скучной,
И, устремив на чуждый свет
Разочарованный лорнет,
Веселья зритель равнодушный,
Безмолвно буду я зевать
И о былом воспоминать?
Пожалуй, дело не в том, что изменятся лица на сцене. Новое артистическое поколение вовсе не обязательно должно быть хуже старого. Пушкин спокойно относился к мысли о смене поколений. Во второй главе поэт свяжет ее с судьбой своего поколения: «Придет, придет и наше время…» Поэт принимает это как должное, без тени злорадства по адресу внуков, вытесняющих стариков. Таким образом, конечно же, грусть поэта объясняется не столько тем, что переменится сцена, но преимущественно тем, что переменится он сам: именно эта перемена лишит, угадывает поэт, театральные встречи былого очарования.
То, что предполагалось, – осуществилось. В седьмой главе, где рассказывается о холодном приеме Татьяны в московском обществе, появляется новая строфа о театре; здесь замечанием в скобках «(Что было также в прежни леты, / Во время ваше и мое)» поэт удостоверяет: театр тот же. Поэт стал другим. Он предчувствовал это и об этом в первой главе грустил.
А вслед за элегией расставания с театром идет элегия расставания с балами и светскими красавицами. Наконец, все вершится итоговой элегией:
Погасший пепел уж не вспыхнет,
Я всё грущу; но слез уж нет,
И скоро, скоро бури след
В душе моей совсем утихнет…
Итак, целая цепочка утрат и расставаний. Отчасти это возрастное. Поэт проходит определенный рубеж и остро чувствует, что возврата к прошлому нет и не будет. Перед нами двадцатичетырехлетний Пушкин, по-прежнему молодой, но тем не менее прощающийся со своей юностью. Возрастное возмужание совпало со ссылкой и расставанием с родными местами – отсюда на страницах не только грусть, но и горечь.
И вновь встретим неожиданность! В своем повествовании поэт следует за героем по пятам: это его голос, его интонации мы слышим в повествовании. При этом «страсти» автора нельзя назвать «необузданными»; они как раз усмиренные и отчасти перегоревшие; но темперамент поэта неудержим. Онегин дан в одном состоянии, уже утомленным, накануне полного разочарования. Он равнодушно читает в постели записочки-приглашения, бесстрастно гуляет по бульвару и обедает в ресторане, зевает в театре и… но автор не уточняет, как чувствует себя Онегин на бале. Следуя за своим героем, автор все время остается как бы в его тени. И как раз именно это постоянное прикрытие героем позволяет автору строить свой исключительно темпераментный рассказ. Онегин равнодушен, но «Стразбурга пирог нетленный / Меж сыром лимбургским живым / И ананасом золотым» объективно прекрасен.
Перед померкшими домами
Вдоль сонной улицы рядами
Двойные фонари карет
Beселый изливают свет
И радуги на снег наводят:
Усеян плошками кругом,
Блестит великолепный дом… —
эта картина пленительна.
Первая глава омрачена острым столкновением поэта со светским обществом, клеветой «друзей», усугубившей драматизм ссылки. Конфликт носит универсальный характер. Исключение делается для узкого круга избранных лиц. Кстати, таков же Онегин, с кем автор «подружился» в пору его резкого отступничества от всяких, в том числе и лучших, проявлений светской жизни.
Человеческий автопортрет Пушкина в первой главе двойствен. Он сочетает живые, теплые, достоверно рельефные черты и нарочитую деформацию, вплоть до мистификационных оттенков.
Подчас поэт выглядит мрачнее своего приятеля: «Я был озлоблен, он угрюм». Буквально следом автор и герой как будто меняются местами:
Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей;
Кто чувствовал, того тревожит
Призрáк невозвратимых дней:
Тому уж нет очарований.
Того змия воспоминаний,
Того раскаянье грызет.
Чего ждать после такого нагнетения страсти? «Всё это часто придает / Большую прелесть разговору». И только-то! Тут поэт как будто гасит напряжение.
Элегия разочарования в настроениях Пушкина неожиданно совместилась с элегией расставания. К 1823 году, к началу работы над «Онегиным», острота обиды сглаживалась, зато чувство утраты обострялось. «Писано в Бессарабии», «писано в Одессе» – напоминает поэт читателям, подчеркивая свое разъединение с Петербургом, о котором пишет. Впрочем, конфликтные отношения не забыты; тем не менее решающее значение принадлежит не самому факту конфликта, но тону, которым об этом повествуется.
Увы, на разные забавы
Я много жизни погубил!
Но если б не страдали нравы,
Я балы б до сих пор любил.
В «увы» – открытый вздох сожаления. Но тут же через сослагательное наклонение, через оговорку происходит смягчение разочарования. И вдруг внезапный взрыв. Уже не в прошедшем, а в настоящем времени:
Люблю я бешеную младость,
И тесноту, и блеск, и радость,
И дам обдуманный наряд;
Люблю их ножки…
А потом снова возвратится мотив и утрат, и разочарования. Но потому, что и разговор ведется на далекой дистанции, которая скрадывает противоречия предмета и добавляет ему очарования, и потому, что автор в известной степени «шутя» говорит о своей разочарованности и охладелости, авторская ирония в первой главе больше озорна, чем сокрушительна; Пушкин пожалеет, что назвал себя в предисловии к первой главе сатирическим писателем.
Тут выяснится, что известную нерешительность отречений можно наблюдать и в лирике Пушкина. Уже в 1818 году поэт публикует послание «Прелестнице» с самым решительным осуждением героини, а позднее (хотя и с оговорками) расточает похвалы героиням того же типа («Дорида», «Дориде»). Стало быть, «онегинский» автопортрет всего-навсего правдив! Разница между поведением автора и героя обретает психологический характер.
Еще важное обстоятельство: и герой, и автор изображены находящимися в зоне кризиса. И тут сходство рука об руку с различием. Напомню, что начало работы Пушкина над «Евгением Онегиным» состоялось практически одновременно с «Демоном», манифестом периода кризиса. Но Пушкин уже убедился, что поэт не может творить при потере идеала. Поэтому он не отрекается механически от былых духовных ценностей, но каждую подвергает строгому разбору. Мы видели, что чувствительнее всего удар пришелся по кумиру свободы. Кумир любви (в числе других ценностей) Пушкин от нападок Демона уберег. Даже больше! Поэт не меняет образ жизни, оставаясь убежденным холостяком. Соответственно он не ищет подруги жизни, довольствуясь временной близостью, «краденой» любовью. Он пробует одухотворить плотские отношения, хотя они не выходят из круга «науки страсти нежной». Проступает двусмысленность в самом начале описания этого занятия. С легкой иронией поэт перечисляет успехи Онегина в усвоении опыта светской жизни. По инерции ждешь иронии и тогда, когда речь заходит о его главном интересе, а он и заключается в этой самой науке. Но тут нас ждет резкая перемена интонации:
Которую воспел Назон,
За что страдальцем кончил он
Свой век блестящий и мятежный
В Молдавии, в глуши степей,
Вдали Италии своей.
Вот так: «наука», которую заранее хотелось бы назвать бесплодной, вдруг, освященная именем Овидия, предстает достойной воспевания, того, чтобы ей посвящать жизнь, даже рискуя благополучием.
Но тут не будет лишним попутное замечание. Овидию принадлежит лирическая поэма «Наука любви» (современный перевод выполнен М. Л. Гаспаровым). Античный автор прямо объявляет, что пишет «о дозволенном блуде». Пушкин, чуткий к слову, для науки обольщения жалеет громкого слова, пользуется эвфемизмом, но – теплым, и все-таки у него наука не любви, а «страсти нежной».
Известный этюд о ножках в первой главе кончается мотивом разочарования («Но полно прославлять надменных…»); этюд построен по закону антитезы, и решительное «но», ее знак, взгляд на предмет с другой стороны, как и полагается, врывается не мотивированным, не подготовленным, внезапным. Внутренняя разработка темы динамична. Мотиву разочарования отведено полстрофы, тогда как мотиву упоения – четыре строфы (три полных и две половинки). Начало этюда элегично: это воспоминание об утраченных (причина не поясняется) ценностях.
Исчезло счастье юных лет —
Как на лугах ваш легкий след.
И – первый эмоциональный взрыв: уже не в прошедшем времени, в настоящем бурная вспышка страсти.
Дианы грудь, ланиты Флоры
Прелестны, милые друзья!
Однако ножка Терпсихоры
Прелестней чем-то для меня.
Она, пророчествуя взгляду
Неоценимую награду,
Влечет условною красой
Желаний своевольный рой.
Люблю ее, мой друг Эльвина,
Под длинной скатертью столов,
Весной на мураве лугов,
Зимой на чугуне камина,
На зеркальном паркете зал,
У моря на граните скал.
Описание предмета раздвигается вширь. Начало своей конкретностью, избирательностью могло подтолкнуть к поиску адресата, теперь нарочитая обобщенность исключает персонификацию героини (героинь). Встретившееся имя собственное – имя литературное, условное (оно бытовало и в лирике поэта), и можно определить лишь тип героини: это прелестница. Чувство, которое испытывает к ней поэт, названо словом: «Опять тоска, опять любовь!..» Ведь прорвалось сюда и придерживаемое высокое прямое слово! Получается: первая глава «Онегина», рисующая разочарование героя в легковесных увлечениях, в то же время не противостоит, а примыкает к «Кавказскому пленнику» и «Бахчисарайскому фонтану» установкой на одухотворение чувственного.
Финал этюда усугубляет игру временами. Вновь подчеркивается, что речь идет о воспоминании.
Я помню море пред грозою:
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам!
Стало быть, снова напоминается об утраченных ценностях. Но дело в том, что утрата не гасит, а распаляет огонь страстей.
Нет, никогда средь пылких дней
Кипящей младости моей
Я не желал с таким мученьем
Лобзать уста младых Армид…
<…>
Нет, никогда порыв страстей
Так не терзал души моей!
Далее все-таки будет сказано об «увядшем сердце», только кровь в нем способна зажигаться, выходит, что никакого увядания на деле нет, если кровь кипит, если страсти терзают душу. Герой разочарован в игре страстей («рано чувства в нем остыли…»), поэт принужденно солидаризируется с ним, говорит о своем разочаровании – и сохраняет силу страсти.
Мы пробуем рассмотреть парный портрет автора и героя в концовке первой главы. Отметили и сходство их, и различие. Сличаются не только собственно человеческие качества светских людей, хотя и этому придается значение. Пушкин даже к описанию добавил канву рисунка и попросил брата найти художника для профессионального воспроизведения рисунка, но с условием, чтобы фигуры были размещены «в том же положении» (поэт – лицом к Петропавловской крепости). Картинки к роману были созданы и помещены в «Невском альманахе». Художнику показалось интереснее изобразить поэта в фас, а не в профиль, но разворот позы удостоился едкой эпиграммы портретированного.
В этом сугубо частном и даже фактически «постороннем» эпизоде увидим нечто знаменательное: образ автора-поэта выделяется не только своим содержанием, но и приемом изображения: у него очень много опосредований с миром. Вот и на канве рисунка: для позы героя-персонажа достаточно дружелюбия к партнеру. Для поэта оказался необходимым подтекст, который задает Петропавловская крепость.
Возможно, в несовпадениях между личностью поэта и художественным автопортретом первой главы еще сказываются рецидивы романтической поэзии, активно прибегавшей к маскам поэта. Может быть, поэтому образ поэта еще сохраняет черты то ленивого баловня судьбы, эпикурейца, то элегического воздыхателя, хотя уже обозначился и отход, расставание с этими обликами. Но и при несовпадениях перед нами Пушкин и именно Пушкин, но не обобщенный образ.
Пушкинское лицо угадывается в первой главе не только по автобиографическим приметам. Пожалуй, еще существеннее характерное мироощущение. В одном из зрелых своих стихотворений поэт даст чеканную формулу: «Мне грустно и легко; печаль моя светла…» В этой формуле – квинтэссенция пушкинского отношения к миру.
Мы часто забываем, насколько трудна была жизнь поэта. А забываем потому, что видим Пушкина в его произведениях. А здесь – «мне грустно и легко…» Или как в первой главе «Онегина»: «Я всё грущу: но слез уж нет». И закрадывается невольное ощущение: значит, беды были невелики, если с ними легко удавалось справиться. Как раз наоборот: великим было мужество поэта; именно оно дало ему силу выстоять, не сломаться под тяжестью невероятно трудных жизненных испытаний. Выстраданное мужество подсказывало гордые строки – «печаль моя светла…» Так что у Пушкина и контрастные состояния, веселье и элегическое уныние, умеют контактировать.
Итак, образ автора при наличии доминанты (автобиографической основы и выстраданного оптимизма) подвижен, и амплитуда колебаний весьма значительна. Но удивительно и то, что мерцает оттенками, казалось бы, недвижный текст!
В начале романа, в полном соответствии с состоянием «охлажденного» Онегина («Нет: рано чувства в нем остыли…») поэт показывает «охлажденность» и своего собственного чувства. Доверчивая исповедь Ленского перед Онегиным комментируется автором снисходительно: «Обильный чувствами рассказ, / Давно не новыми для нас». Это состояние выражено и в обобщенном виде: признается неизбежным приход людей «под знамя / Благоразумной тишины»; такие духовные старцы любят слушать «страстей чужих язык мятежный», подобно старым инвалидам, прилежно внимающим «рассказам юных усачей».
Между тем создававший начальные главы романа Пушкин был еще очень молод; в изображении ранней охлажденности поэта есть оттенок бравады или литературной моды, над чем сам поэт подшутит в конце шестой главы:
Ужель и впрямь и в самом деле
Без элегических затей
Весна моих промчалась дней
(Что я шутя твердил доселе)?
В свете последнего признания волей-неволей необходимо переосмыслить меланхолические сетования первой-второй глав. И приходится признать, что никакой шутки, даже намека на шутку в них при первом чтении не воспринимается: внешне разговор ведется основательно, серьезно. Можно сказать больше: никакой шутки и не было в первом автопортрете. Поэт наделил героя преждевременной старостью души, состоянием, которое ему самому было ведомо изнутри.
Но старый текст, вроде бы строго определенный, вдруг начинает менять смысл. Текст, который, казалось бы, неизменен, обретает новые оттенки, получает новую жизнь! При повторном чтении благодаря перекличке деталей обозначается лукавая улыбка там, где она и не предполагалась (где ее первоначально, вероятно, и не было). Читатель мудреет: не всякое слово в художественном тексте надо принимать в его буквальном смысле. Слово емко, многозначно; надо вникать в него, сопоставлять с другими утверждениями, соразмышлять вместе с поэтом. Признаваясь в мистификации, поэт воспитывает в читателе активное отношение к слову. Обнаружение розыгрыша ничуть не умаляет доверия к авторским рассуждениям: просто открывается их многомерность, стереоскопическая объемность. Меланхолия начального портрета не отменяется полностью, она лишь приобретает новый вид и значение. В самой возможности (и необходимости) многократного обращения к деталям текста кроется источник неиссякаемой свежести романа в стихах.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?