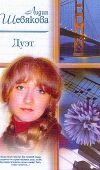Текст книги "Соль"

Автор книги: Жан-Батист Дель Амо
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Луиза
Рынок гудел шуршанием льда, разложенного на рыбных прилавках, и нестройным хором голосов. Она занималась покупками, ей махали рукой, спрашивали о здоровье, осведомлялись, здоровы ли дети. Присутствие Луизы было здесь привычным, здесь она когда-то работала на разных поставщиков и была признана как жительница Сета, жена моряка. Взгляды обращались к ней дружелюбно, снисходительно, и горы фруктов, овощей, аппетитные тьеллы[8]8
Блюдо южнофранцузской кухни, популярное в Сете, – закрытый пирог с рыбой и морепродуктами.
[Закрыть], чистое сияние барабульки и кусков лосося успокаивали ее. Она еще не решила, какое блюдо приготовит вечером; хотелось чего-нибудь, что понравилось бы детям. Дремота, охватившая ее в гостиной, рассеялась, но Луиза несла с собой чувственные пары того дня на пляже тридцать два года назад.
Она сама не знала, до какой степени непохожа на женщину, которой была в тот день. После рождения Жонаса они все вместе ходили в порт, и Арман вывез их в открытое море. Оно было бескрайним, и взгляд не выдерживал его мерцания. Фанни и Альбен прыгали в тихую воду, пенные брызги от их загорелых по летнему времени тел сыпались тяжелым дождем на кожу Луизы. Арман держал штурвал, его спина отчетливо вырисовывалась против света, и она ощущала удовлетворение на его лице – так бывает удовлетворен мастер, тщательно выполнив работу. Она тогда воспринимала детей и мужа как достижение. В ней были вера и самоотверженность, свойственные молодым женщинам ее времени, подумалось ей. В начале их отношений, вспомнила Луиза, ей случалось испытывать проблески этой надежды, почти мучительной, укоренившейся в ней, в ее груди.
Она решила приготовить фаршированных мидий и макаронаду. Выбрала букет приправ, несколько головок чеснока.
– Дети придут ко мне сегодня вечером, – сочла она нужным оправдаться, покупая окорок и говяжью лопатку.
Луиза сказала это с гордостью, и мясник понимающе кивнул ей:
– Это хорошо, что дети рядом с вами.
Вправду ли его заботило ее одиночество? Сквозь стеклянный прилавок она смотрела на ряды колбас, на розоватые штабеля мяса.
– Дайте еще мозговую косточку. Конечно, мне грех жаловаться. Они со мной. Больше, чем надо. И потом, они тоже должны жить своей жизнью, я им всегда это говорю.
Мясник покивал, уже устав от ее откровений, и у Луизы защемило сердце: почему на самом деле она была уверена, что дети, приходя к ней, как бы отбывают повинность? Особенно Фанни, хотя она больше всех усердствовала с визитами. Что она сделала, чтобы стать до такой степени непохожей на ту Луизу, которую они когда-то обожали? Неужели ее дети забыли – да и знали ли вообще, – что она была женщиной, прежде чем стать их матерью?
Она несла бремя вины за тот день на пляже, но, когда большие руки мясника резали мясо, поняла, что задолго до того дня заметила перемену в Армане, – после рождения Жонаса. С тех пор он стал отдаляться от них, нет, не бесповоротно, но временами, периодами; они теряли его, и на пути, которым была их совместная жизнь, годы, последовавшие за смертью его отца, возвестили неотвратимость его потрясения как самый тяжелый период для них всех.
Стояло засушливое лето. Ни капли дождя не упало, чтобы напоить развороченную землю и пополнить пересыхающие озера. От тел туристов не было прохода на пляжах, их приток разукрасил Сет пестрыми красками. Фламинго розовели вдали, в теплой воде, зеленой от застоя. В духоте дома в Пуэнт-Курте, где вязли лодки в засохшем иле, Луиза наблюдала агонию своего свекра. Жившие в Неаполе Антонио, брат Армана, и его жена Анна перебрались в Сет. Луиза сразу прониклась любовью к этой толстой смешливой женщине, говорившей по-французски с певучим акцентом. В то лето они мочили рукавички в тазу с холодной водой и мыли потное тело старика в комнате, куда раньше ни одна из них не входила. Фотография у кровати напоминала о коренастой суровой женщине, которая была матерью их мужей. Их сестрам, разместившимся у теток, не выпало выбора чужбины, и Луиза познакомилась с ними только на похоронах старца перед концом лета.
В густом запахе нафталина они с Анной видели наготу этого человека, по отношению к которому ни та, ни другая никогда не испытывали ничего, кроме страха. Сыновья, когда его навещали, ждали в гостиной, пока женщины обиходят старика и уложат в постель. Говорили они мало, и Луиза с Анной выходили, чтобы не мешать мужскому обществу. Дед, Луиза поняла это тогда, был чудовищем. Ни разу он не выказал ей или Анне ни капли благодарности. Когда они мыли его, он выкрикивал в их адрес ругательства. Много раз пачкал свою постель дерьмом. Не случайность и даже не недержание были тому виной, просто ему нравилось видеть написанное на их лицах отвращение, когда они входили в комнату. Часами они стирали в ванне простыни и одеяла. Эти саваны сушились весь день ордой молочно-белых медуз на веревках, которые они натягивали прямо на улице.
Луиза и Анна по собственной инициативе стали надевать старику памперсы. Они ни словом не обмолвились мужьям, да те и не жаждали знать, что им приходится копаться по локти в испражнениях их отца. Мытье и одевание становились тяжким испытанием. Старец с силой хватал их за руки, не стыдился царапаться и драться, горстями вырывал им волосы, а стоило им сделать неловкое движение, пытался ударить негнущейся ногой. В тот вечер, когда они впервые подложили под него памперс, он вырывался как бешеный и бил их с такой силой, что Луиза потом долго ходила с синяками на ляжках и груди. Она боялась, что на его вопли сбегутся соседи, но он в конце концов устал и, когда они его уложили, продолжал тихонько покрикивать во сне.
Назавтра Луиза пришла раньше обычного и, едва переступив порог, поняла, что он опять взялся за свое. Запах ударил ей в нос в дверях, и она поспешно вошла в комнату, уверенная, что увидит, по обыкновению, простыни в экскрементах. Зрелище превзошло ее ожидания: поносной жижей были покрыты стены и занавески. Как только он ухитрился встать с кровати, чтобы добраться до каждого уголка комнаты, когда им приходилось вдвоем высаживать его на горшок, если он снисходил предупредить их о своем желании. Следы рук не оставляли никаких сомнений в намерениях старика, и сам он был перепачкан от колен до торса. Полового органа и волос на лобке не было видно под темной коркой. Памперс лежал на полу, разорванный. Клочья тяжело закружились, залетая под кровать, когда Луиза распахнула створки окна. Зажав рукой рот, она бросилась вон из дома, чтобы отдышаться. Когда она вернулась, старик смотрел на нее с кровати. Он ликовал.
Она позвонила Анне, та тотчас прибежала. Все утро они оттирали стены, а старик вдоволь попотчевал их ругательствами.
– Mangia! Mangia! Scopami il culo![9]9
Ешь! Ешь! Трахни меня в зад! (ит.)
[Закрыть] – кричал он Анне, когда та подтирала ему зад.
А потом державшейся поодаль Луизе:
– А ты, толстуха, нравится тебе это, а, поглазеть охота?
Он указывал на свой дряблый член, лежавший на пеленке между тощих ляжек. Тут Анна, до сих пор хранившая молчание, невзирая на брань, схватила старика за шиворот, приподняла с подушки, а другой рукой взяла ночной горшок, стоявший на стуле у кровати, и сунула ему под нос:
– Non sono la tua serva, vecchio. Appena caghi nelle tue lenzuola, giuro che ti faccio bere ‘sto secchio fino all’ultima goccia[10]10
Я тебе не прислуга, старикашка. Если ты наделаешь в свои простыни, обещаю, что заставлю тебя все это выхлебать до последней капли (ит.).
[Закрыть].
Старик устремил на нее потрясенный взгляд. Анна не опускала глаз, пока он не отвернулся, потом поставила горшок на стул и отпустила ночную рубашку. Дед тяжело повалился на кровать и вытянулся, мелко подрагивая. Они выбились из сил, отчищая комнату, после чего сожгли целую пачку «Армянской бумаги»[11]11
Парфюмерное изделие для маскировки и устранения неприятных запахов путем его воскурения или нагревания.
[Закрыть], которую нашли в ящике комода. Когда они наконец вышли на воздух, было уже за полдень, и дом благоухал, как индуистский храм.
Анна сунула руку в карман фартука и достала пачку «Житан».
– Смотри, что я стянула в гостиной.
Ни одна из них не курила, но они смотрели на синюю пачку как на запретный плод. От них разило жавелем, волосы липли ко лбу и вискам, под мышками и на спине выступили пятна пота. Анна поднесла сигарету к губам и зажгла. От первой же затяжки обе раскашлялись как туберкулезницы.
– Что ты сказала старику? – спросила Луиза, осмелев от собственного вида с окурком в пальцах.
– Я сказала, что мы ему не служанки и что, если он будет продолжать срать под себя, я заставлю его выхлебать из горшка до последней капли.
Луиза оглянулась на окно спальни с полузакрытыми ставнями.
– Ох, правда?
– Ей-богу, la ultima goccia![12]12
До последней капли (ит.).
[Закрыть]
Они помолчали, докуривая сигареты, не обращая внимания на головную боль, потом Луиза прыснула, и обеих разобрал неудержимый смех. Они так хохотали, что едва держались на ногах, валились друг на друга, утирали фартуками слезы и хлопали себя по толстым ляжкам. Животы болели, они сгибались пополам, упираясь руками в колени, на краю тротуара, не обращая внимания на косые взгляды прохожих.
После смерти Анны несколько лет спустя, на паперти церкви, где ее отпевали, именно этот момент вспомнит Луиза, вновь увидит их, хохочущих и обнимающихся на улице, и убежит, и спрячется за домом священника, где посмеется вволю, так, как никогда больше ей смеяться не доведется.
Луиза вспомнила об этом на рынке, и улыбка тронула ее губы. Свекор с тех пор справлял свои надобности только в фаянсовый ночной горшок, но Луиза и Анна поняли, с каким человеком выросли их мужья, хотя ни один из них никогда об этом и словом не обмолвился. Луиза пыталась поговорить с Арманом, чтобы тот урезонил отца. Однажды вечером, придя без сил, она расплакалась и взмолилась:
– Я не могу больше, не могу, понимаешь? Скажи ему хоть ты, чтобы сделал усилие, доктор говорит, что он все может.
– Да что, черт побери, ты хочешь, чтобы я ему сказал, Луиза? – ответил он с яростью, какой она за ним еще не знала. – Ты что, не умеешь подтирать зад? Совсем ни на что не годишься? Хочешь, чтобы я это делал, да? Поверь мне, не тот это человек, от которого можно чего-то требовать. Ухаживай за ним, как если бы он был твоим отцом, это все, о чем я тебя прошу. Не спорь.
Иногда он добавлял: «Я знаю, как это нелегко» или «Мне ли не знать, какой он, старый мерзавец», и ей приходилось довольствоваться этим участием.
Старец угас, когда левые получили большинство на муниципальных выборах, и Луиза решила, что это избавление. Эта смерть освободила ее, но вскоре она поняла, насколько самим своим отсутствием и прошлым, так и оставшимся для нее навсегда тайной, старик довлел над жизнью Армана. Потерять отца, которого он наверняка ненавидел, значило потерять костяк своей жизни, невероятное бремя запретов, на которых он сумел себя построить. Она снова видела, как он за приоткрытой дверью заставляет их сына поцеловать это тело, знакомое ей теперь до самых интимных подробностей. Когда Альбен вышел из комнаты, моча расплывалась у него на штанине и хлюпала в ботинке. Она отчитала его и переодела – грубо, нетерпеливо, сменив бархатные брючки на слишком большие шорты, принадлежавшие старику, в которых Альбен выглядел смешно. В следующие годы, однако, мальчик сблизился с отцом и никогда не держал на него зла за властный характер, да и за отлучки, в то время как Жонас и Фанни, похоже, от них страдали.
* * *
Луиза ждала прихода дочери и решила с ней поговорить. Ей была дорога эта возможность побеседовать «между нами, девочками» до ужина. На обратном пути она шла, убаюканная своим мерным шагом, покачиванием бумажных пакетов у бедра. На площади Леона Блюма она присела, поставив покупки рядом. Посмотрела на голубей, расхаживавших у ее ног. Часы на церкви Святого Людовика прозвонили одиннадцать, и она встревожилась, как бы Фанни не поцеловала замок, но не могла заставить себя поспешить на улицу От. Годы обретали очертания, рисовали вокруг нее круги, которые она созерцала с утра, не улавливая их смысла. Альбен отдалился от нее; он отвечал на ее заботы подростковым упрямством. Фанни стала девушкой и прилагала все усилия, чтобы бежать из дома; Луизе подумалось, что дочь воспринимала ее тогда как пассивную зрительницу распада семьи. Быть может, она даже судила ее как виновницу уходов Армана? В те годы Фанни, казалось, прониклась неприязнью к матери, с которой Луиза оказалась не в силах бороться. Говорить с детьми не было ей свойственно: ее воспитание на ферме в Севеннах[13]13
Севенны – горный хребет во Франции.
[Закрыть] исключало всякое проявление чувств, и по образу и подобию своей матери Луиза всегда старалась выразить свою любовь к детям повседневными заботами, которыми она только и жила.
Заполняя пустоту, что оставлял Арман, уходя в море, где он силился сделать из Альбена моряка и свое подобие, Луиза не пасовала ни перед каким трудом. В свободные от работы на рынке часы она чинила одежду для швейной мастерской в старом центре. Дома готовила еду всегда вовремя, стирала белье, выбивала вывешенные за окно одеяла, натирала воском полы и мебель. Когда же ей наконец открывалась пустота дома, она цеплялась за присутствие Жонаса. Предчувствовала ли она, никогда себе в этом не признаваясь, непохожесть сына на других? Ее волновала его чувствительность, любовь, которую он без конца выказывал ей. Он от рождения был чудиком, не в меру впечатлительным, и она поддерживала это в нем, предвосхищая каждое его желание, каждую потребность. Важнее всего на свете была для нее забота о нем. Жонас был ее мальчиком, ее малышом, худеньким, угловатым ребенком с прозрачной кожей, с узкой и впалой грудью, который, казалось, не выживет без ее опеки. Они так и оставались одним существом, любителем одиночества и отчасти фантазером. Учителей Жонаса тревожила его невнимательность, но Луизе нравилось, что он такой особенный, и она всегда слушала их нотации вполуха. Она даже смотрела на них свысока, презирая их зашоренность, уверенная, что знает его куда лучше. Она любила его именно за то, что отличало его от ровесников. Спустя годы, когда Жонас станет так далек от нее, она будет страдать от того, что больше не понимает его, непреклонно отталкивающего все ее попытки сближения.
На площади Леона Блюма она вспомнила одно лето, когда Жонасу было не больше девяти. Они смотрели телевизор в гостиной; голова сына лежала у нее на коленях, и они следили без особого интереса за выпуском новостей, в котором сообщали об отмене антигомосексуального законодательства по инициативе Бадинтера[14]14
Робер Бадинтер (р. 1928) – французский государственный деятель.
[Закрыть]. В репортаже показывали мужчин, которые бесстыдно обнимались, целовались взасос и требовали свободы своей ориентации. Говорили и об эпидемии, косившей ряды сообщества. Луиза ощутила прилив жара, мурашки в руке, лежавшей на плече Жонаса, хоть и не могла ясно определить стеснившее грудь чувство, какой-то страх, дурное предзнаменование: возможно ли, что ее сын станет таким, что он будет обречен умереть от постыдной болезни?
– Никогда такого не делай, это отвратительно, – сказала она.
Жонас обернул к ней смущенное лицо, и Луиза поспешила переключить канал, тотчас укорив себя за то, что огорчила сына. Она отогнала от себя тревоги. Подозрение это с тех пор ни разу не шевельнулось в ней. По крайней мере, ни разу больше оно не оформилось так отчетливо, даже когда Жонас юношей не обращал внимания на девушек или, позже, совсем оторвался от семьи. Но, при неизменности любви к своему дитяти, на нее накатывал порой безотчетный гнев: она смотрела, как Жонас играет на улице, катается на трехколесном велосипеде, бегает с братом или чужими детьми, и вдруг мысль, что он живет без нее, делит что-то с другими, становилась ей невыносима. Все было за то, чтобы ей, безмятежной и довольной, видеть сына счастливым, но она не могла совладать с этим глубоким раздражением, этим зудом, словно нетерпением в руках и ногах, которому всегда в конце концов уступала. Луиза была убеждена, что Жонасу никто не нужен, поскольку у него есть она. И тогда она звала его, отрывала от игр и говорила ему иногда, лихорадочно сжимая его руки в своих:
– Мы с тобой классная команда, ты и я, верно?
Она пережила известие о его гомосексуальности как свой провал, со жгучей болью и уверенностью, что не знала по-настоящему своего сына и попусту потратила годы с ним в поисках понимания, отрицая очевидное. Потом появилось чувство вины; Арман возложил на нее всю ответственность:
– Не будь ты такой дурой-мамашей, не было бы у нас теперь окаянного пидора в семье.
Но Луиза была свободна от этого бремени сейчас, сидя на скамейке в Сете, поставив сумки с продуктами рядом с собой. Она сделала выбор: принимать все в своих детях, и для этого ей надо было понять, что они не отвечают тому, чего когда-то, неразумно и эгоистично, она для них пожелала. Уход Армана, поневоле признавала Луиза, ей в этом помог. Он умер, оставив ее в этой двойственности. Луиза наконец поднялась и пошла своей дорогой.
И потом, подумалось ей, Хишама она любила. Он был теперь таким же членом их семьи, как и оба ее сына.
Жонас
Они с Самюэлем выловили два десятка устриц и два кило мидий. Они молча шли по воде, привычные к присутствию друг друга и звукам озера. Жонас думал о своем, глядя на золотые прожилки, плюмаж трав, полет цапли. Рассвет охватил пламенем растительность, блики играли на пурпурной воде. Трамонтана пригибала высокую траву, и Жонас вздрогнул, взбодренный соленым воздухом. Камыши покачивали головками и серебристыми перьями, листья шелестели, и воздух наполнялся их дыханием. Самюэль и Жонас не разговаривали, зная, каждый на собственном опыте, хмель, охватывавший их на озере.
Жонас вспоминал свое детство, запах асфальта на улицах Сета под летним солнцем. Первые всплески гордости, когда он ответил на призыв комитета против репрессий по гомосексуальности, и острое облегчение от того, что смог назвать то, что чувствовал в себе, уверенность в своей принадлежности к сообществу, хоть и непостижимому, но на самом деле существовавшему. Колыхание света в салоне машины на автостраде в те редкие дни, когда они уезжали отдыхать. Запах бензина на заправке, где неоновые огни вспарывают тьму. Зуд в ногах на поле под паром. Окно, открытое в ночь, и шум самолета, тающий вдали. Появление СПИДа, заголовок в газете: «Эпидемия рака геев», и мысль, что и его рано или поздно настигнет болезнь. Голубой отсвет жилки на лбу Армана, когда он сердится, запах сока фиговых деревьев и концерт цикад. Влажная кожа Луизы, душок пота и крема для тела, когда он обнимает ее. Оглушительные раскаты грозы. Пестрый кусочек Берлинской стены в пластиковом пакете, переходящий из рук в руки на школьном дворе. Запах города, разливающийся в стуке проливного дождя. Дневной сон, из которого вырывают его игры Альбена и Фанни, и Жонас знает, что они живы и рядом с ним. Вечера на крышах автобусных остановок, под огромным сводом, в сладковатом запахе от двигателей мопедов, остывающих внизу. И смех, никогда не перестающий отдаваться эхом и разноситься в их жизнях. Эти воспоминания были подвижным калейдоскопом, в котором Жонас видел себя, мгновения и ощущения, из которых он состоял.
* * *
Фанни, встретив Матье, отдалилась от семьи. Двенадцать лет отделяли ее от Жонаса, никогда они не были особенно близки, и она окончательно стала чужачкой, которую Жонас вновь обрел только после смерти Леа, разделив ее скорбь. Альбен с годами приобрел суровость моряка. С братом он не церемонился и продолжал верить, что их отец не всегда был тем человеком, главной чертой характера которого оставалось в памяти Жонаса небрежение. Жонас забывался, грезя о том, как они когда-то вместе слушали этапы «Ромового рейса». Случалось иногда, что Арман отвлекался от терзаний, известных ему одному, и снова становился заботливым отцом. Семья уже привыкла к этим переменам и надеялась на них. Когда, возвращаясь с ловли, Арман переступал порог, Луиза и дети оценивали его настроение. Жонас видел, как явно менялась его мать. Он чувствовал ее радость, непривычную томность движений. Ее плоть вновь брала верх над домом, над семьей, и та, что была всем нутром предана своему младшенькому, из кожи вон лезла, чтобы покорить Армана. Жонас страдал, видя ее всецело настроенной на волну отца. Он прижимался к нему, пытаясь завладеть его вниманием, потому что быть любимым Арманом казалось ему единственным способом вернуть себе Луизу. Когда Арман наконец брал его на руки, Жонас восстанавливал эти им одним принадлежавшие узы, связывавшие его с матерью, а та, безмерно счастливая, что муж заинтересовался их сыном, пустяками силилась снискать для него благосклонность отца.
Они продолжали принимать моряков, и эти мужчины заменяли в доме присутствие отца. Жонас не знал, были ли они, как Павел, брошены в порту. Многие были иностранцами, и он никогда не мог предвидеть, как долго эти люди останутся с ними. Арман ли навязывал их присутствие Луизе? Альбен, Фанни и Жонас терпели его, не говоря ни слова. Иногда моряки появлялись только вечерами, а с утра уходили в море вместе с Арманом. Другие оставались у них днями или неделями, и Жонас так и не понял, чем они занимались и жили ли во время своего пребывания за счет его родителей. Они приходили пьяными в любое время дня и ночи, воняя дешевым спиртным. Альбену и Жонасу было велено вести себя тихо, и они играли молча, давая гостям проспаться в гостиной или в их комнате. Испуганно и завороженно смотрели они, как их мать обихаживает этих людей, терпеливо подносит к губам стакан с водой, прикладывает влажную рукавичку ко лбу, выносит стоящий у кровати таз с блевотиной. Странными запахами, непривычным звуком голосов, экзотическими языками вторжение моряков всегда грозило гармонии, в которой жили Луиза и Жонас, и, наверно, за это он и любил их присутствие: оно постоянно подвергало опасности их непреходящую любовь, делая ее тем самым еще сильнее и драгоценнее.
В каждом из этих мужчин ему виделась суровость характера, тронутого отчаянием, которое взволновало Жонаса в Павле несколько лет назад. Он искал их присутствия, сожалел об их уходе. Луиза никогда не удивлялась, что они покидали дом, порой без единого слова благодарности, и не объясняла их отсутствие детям. Утром, проходя мимо гостевой комнаты, они видели открытые настежь двери и окна, кровать со снятыми простынями. Жонас искал их в подвале, в корзине с грязным бельем, и зарывался в них лицом, чтобы вдохнуть их запах, ощутить это смятение, которое вызывал в нем хлопок, пропитанный их ночным потом. Чей-то безмолвный сговор, почти тайна, всегда окутывал присутствие моряков. Они не знали его причин и в силу привычки не пытались узнать. Благодаря морякам они редко бывали одни, семьей, друг с другом. Эти люди держали спасительную дистанцию между ними и, Жонас понял это позже, оберегали их от Армана. Эти годы семейного отчуждения выбросили Фанни на мель, а Жонасу продолжало сниться судно, которое раскачивает и поглощает темное море. Но на этот раз Арман и Альбен были на палубе, пытаясь убежать от захлестывающей их воды. Они метались и исчезали, поглощенные разбившейся волной.
В другом сне Жонас видел, как судно тонет, словно отягощенное свинцом, погружается в бездонные глубины, идет ко дну, где движутся впотьмах смутные формы. Их лица и руки тянулись к нему, и Жонас был всеведущим, одновременно морем и сном, богом, смотревшим, как они тонут, без единого жеста милосердия.
Через несколько месяцев Альбен пришел домой с Эмили и объявил Луизе и Арману, что они будут жить вместе. В пятнадцать лет, избавившись от присутствия брата и власти отца, Жонас забыл Луизу, чтобы пережить первый плотский опыт – он познавал его на пляжах, с безымянными туристами, в грубых и бесплотных соитиях за едва прикрытой дверью общественного туалета, воняющего мочой, забываясь в грязных объятиях моряков, хмельных от спиртного и крепкого табака, любовников с неразличимыми и пьянящими телами.
– Мы взяли все, что надо, Жонас, можно возвращаться, – сказал Самюэль.
Жонас поднял голову и увидел перед собой гладь озера. Ему слышался рев моря в нескольких сотнях метров от них. Волны разбивались о берег и сплошь устилали его водой. Они громадились, вздымались и падали; силой паденья бросало назад брызги. Сплошь пропитанные пронзительной синевой, волны лоснились, играли мазками света только на гребнях, как, переступая, лоснятся мускулами сильные кони. Волны падали; отступали – и падали снова, будто бы тяжело топал огромный зверь[15]15
Из романа Вирджинии Вулф «Волны» (перевод Е. Суриц).
[Закрыть].
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?