Текст книги "Столетняя война"
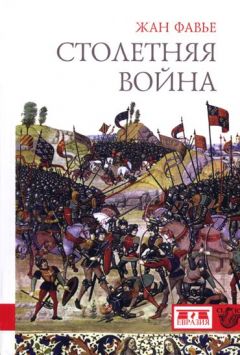
Автор книги: Жан Фавье
Жанр: История, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 58 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
Глава II
Прерванный рост
Оба короля приходились друг другу кузенами. Многие высокородные бароны, как, впрочем, и многие простые оруженосцы, многие дворяне имели фьефы, союзы и родню по обе стороны Ла-Манша. Английская канцелярия в тех актах, которые не хотела составлять на латыни, использовала французский язык. А к «английской нации»[9]9
Студенты в средневековых университетах делились на так называемые «нации» в зависимости от своего происхождения (прим. ред.).
[Закрыть] Парижского университета принадлежало столько же английских клириков, сколько их училось в колледжах Оксфорда или Кембриджа.
Различия
Все это не должно скрывать от нас глубокого различия между обеими странами. Английский воин, высадившийся на материке (он чаще говорил на англосаксонском или валлийском языках, чем на французском, языке своих военачальников), очень быстро замечал эти различия и в дороге, и в тавернах. Что же касается среднего француза из города или деревни, то поначалу он ненавидел англичанина за то, что тот – солдат, а потом за то, что тот – англичанин. Люди Черного принца еще не были оккупантами. Во многих областях оккупантами станут люди Бедфорда.
Действующие лица этой истории труднее всего воспринимали различия в политической структуре. Разглядеть их можно только с временной дистанции. Однако отмечали, что Генеральным штатам Филиппа VI и Иоанна Доброго не удалось поставить под политический контроль деятельность короля, а английский парламент это сделать смог: Штаты обессиливало мелочное соперничество между лоббистскими группами.
Зато наблюдателя, прибывшего с другого берега Ла-Манша, поражала чрезвычайная плотность населения в королевства Валуа. Не меньше удивляли его внушительные города и феномен урбанизации.
Англия насчитывала немногим более трех миллионов жителей, возможно, трех с половиной. В то же время в королевстве Франции проживало пятнадцать миллионов человек, в нынешних границах Франции – от двадцати до двадцати двух миллионов. Валуа были богаты людьми – подданными, подсудными, податными.
Обе страны были неравномерно заселены, насколько можно верить подсчетам их населения – по числу держателей, записанному в сеньориальных документах, заседателей в юридических документах, «очагов» (feux) в налоговых документах. Эти очаги еще были лишь единицей посемейного налогообложения, и с течением времени их число имело все меньше отношения к реальности. В начале XIV в. очаг еще означал семью, горящий очаг. Но в некоторых деревнях это была почти патриархальная группа – все потомки, объединенные вокруг старейшины. В других деревнях и в большинстве городов это был супружеский очаг, включавший родителей и холостых детей, если его не составляла вдова или наследница, оставшаяся в одиночестве. В конце века все еще говорили об «очаге», но лишь как о базовой единице для раскладки налогов, на основе которой получали цифру, характеризующую деревню, приход или диоцез, цифру, которую умножали на определенный коэффициент для расчета суммы налога, подлежащей истребованию: столько-то су с очага означало, что город платит столько-то су, умноженное на число очагов, но вовсе не значило, что столько же су платит каждая семья. А число очагов было предметов торга.
На протяжении долгой истории взаимоотношений между королем и его податными людьми в конце XIV и на протяжении всего XV в. число очагов в провинции, сенешальстве, диоцезе, городе, приходе постоянно росло, а чаще всего уменьшалось. Это зависело не от того, больше или меньше становилось жителей, а от того, процветали они или разорялись, покровительствовал ли им какой-нибудь член Королевского совета или у местных чиновников были иные друзья.
Несмотря на ненадежность наших цифр, можно сказать, что в Нормандии, в Иль-де-Франсе или в Пикардии в некоторых районах проживало более сотни жителей на квадратный километр и что такой же была плотность населения на плодородных землях графства Лестершир. Некоторые территории никогда не были так заселены и в будущем не смогут восстановить численность населения 1300-х гг. Люди селились даже в затопляемых зонах низких прибрежных долин. Заселенность склонов Центрального массива превышала, причем намного, современную: в горах Мон-Дор постоянные поселения можно было встретить на высоте до 1100 метров.
Картина порой менялась за несколько часов дороги. На пахотных землях Нижнего Лангедока, вокруг Нарбонна или Безье на квадратном километре проживало пятнадцать семей; а в соседних Корбьерах или Косее – самое большее три. В районе Гонесс насчитывалось девятнадцать очагов на квадратный километр, в Вильнев-Сен-Жорж и Монлери – тринадцать, а в районе Шеврёза – только шесть.
Неимоверный демографический подъем тогда достиг своего предела. Триста лет людей становилось все больше. Они вырубали лес, улучшали орудия труда, объединялись, чтобы верней выжить. Болезни отступали, страх уменьшался. Население Франции выросло вдвое, а Англии – втрое. Современники Филиппа Валуа поняли, что возможно все. Они уже не видели границ для расширения мира, как и для устремления ввысь готических нефов. Ланский собор вознесся на 24 метра, собор Парижской Богоматери – на 32 метра, Шартрский собор – на 37 метров. До замкового камня свода собора в Бове от земли было 48 метров. Три столетия развития и прогресса породили свои привычки.
Мир наполнился, но современники этого еще не знали. Они не ведали, что им помешает слишком суровый климат, недостаточно развитая технология. Они дошли до предела реальной производительности, до предела возможностей обмена. Время крестовых походов и великих соборов, массовых распашек и демографического подъема было временем великих надежд. Когда эти надежды внезапно рухнут, люди XIV в. испытают горькое разочарование.
Англичане, придя на материк, делали еще одно открытие: это очень урбанизованная страна. Куда бы они ни направились во Франции, везде натыкались на город. Люди видели город в материальном смысле – на горизонте. Со своей наружной стеной, колокольнями, башнями он возвышался над равниной. Обычно он защищал дорогу, горный проход, мост. Благодаря ему порт оказывал влияние на удаленные от побережья районы. Не в меньшей степени он был представлен и в системе социальных и экономических отношений. Это был рынок, суд, зрелище. Он производил и потреблял. Он стимулировал и эксплуатировал. Деньги городов вдыхали жизнь в деревню. Энергия промышленных предпринимателей и купцов соединялась с главным движителем сельской экспансии – потребностью в пище.
В Англии было мало больших городов Население Лондона приближалось к пятидесяти тысячам. Йорк и Бристоль насчитывали десять-пятнадцать тысяч. Остальное можно считать лишь большими поселками: три тысячи, пять тысяч жителей. Даже порт Саутгемптон, куда уже заходили итальянские судна и который был давно знаком всем морякам Ла-Манша и Северного моря, выполнять настоящие городские функции был еще не в состоянии.
Естественно, запад и центр Франции не достигли той плотности городского населения, какая была присуща промышленному Северу, большим речным долинам и даже Югу, где еще виднелись следы римской цивилизации. Однако во Франции не было ни одного региона, который бы не знал, что такое настоящий город с населением в десять-пятнадцать тысяч жителей, объединяющий все функции – интеллектуальные, религиозные, административные, финансовые, – какими характеризовались города. Такого значения достигли крупные дорожные узлы, такие, как Лион, крупные порты, как Марсель, – в политическом смысле не входящие в состав королевства, – и большие промышленные центры, как Аррас или Дуэ Другие были близки к этому, прежде всего большие епископские города Реймс, Альби, Эвре и еще многие.
Три города с населением тридцать-сорок тысяч человек уже были похожи на настоящие столицы. И действительно, Бордо, Руан и Тулуза охотно соперничали с Парижем Тулузский университет оспаривал у Сорбонны право выражать мнение интеллектуалов королевства. Суд Шахматной доски Руана претендовал на положение верховного суда Бордо ловко извлекал выгоду из особого политического положения, а также из очень плотного контроля над вывозом главного экспортного продукта Франции – вина.
Тем не менее над всей сетью городов, затянувшей Францию, бесспорно доминировал Париж. Здесь принимались решения, здесь завершались карьеры, здесь пересекались интересы. С двумястами тысячами жителей – 61 098 очагов, согласно переписи 1328 г., – Париж представлял собой нечто вроде демографического монстра, это был одновременно финансовый центр, международный рынок, региональный транзитный порт, интеллектуальная и университетская метрополия, политическая и экономическая столица. Намного обогнав Милан, Флоренцию и Венецию, население которых приближалось к сотне тысяч жителей, Париж стал первым городом Западной Европы.
Рост давал о себе знать и в пейзаже. Давно используемые земли расширяли, посреди леса или ланд осваивали новые. Отступление лесов начало создавать угрозу зыбкому равновесию между земледелием и скотоводством. Каждый ел досыта, но плотники отныне тщетно искали хорошие бревна. Уже говорили не о Ла-Лей или Ла-Бьер, а о Сен-Жерменском лесе или о лесе Фонтенбло На глазах у людей деревня и освоенная земля вытесняли лес.
Последняя волна частных распашек только что породила почти повсюду, но прежде всего в прибрежных и горных районах, прозябавшие, обособленные поселения, которым не удавалось приобрести автономию, какую имела деревня. С XIII в. новых церковных приходов в сельской местности уже не создавали. Время «вильневов»[10]10
Villeneuve (букв, «новый город») – одно из традиционных названий новых поселений во Франции в средние века (прим. ред.).
[Закрыть] прошло. А кое-где даже происходил откат. В Пикардии, в Артуа, в Божоле как в пространстве, так и в занятиях людей уже наметился регресс. Всего после нескольких лет обработки раскорчеванные участки вновь превращались в целину.
Динамизм эпохи
В то время как площадь освоенных земель прекратила увеличиваться, во многих регионах стал характерным следующий пейзаж: появились новые изгороди, подчеркивающие крестьянский индивидуализм и утверждающие определенный тип экономики. Так возник бокаж,[11]11
Тип пейзажа: поля, окаймленные лесными полосами (прим. ред.).
[Закрыть] в особенности на Востоке – в Бретани, Мене, Шаранте, – но также в горах Юры и на гребнях Центрального массива. Он будет распространяться и дальше, в течение следующих трех столетий. Это была реакция на необходимую, более или менее общинную организацию у совместно живущих людей и нарушение прав общины – особенно скотоводческой – на землях каждого из ее членов, и этот тип мышления отразился в пейзаже: появилось то, что стало символом и средством частного присвоения – ограда. Она обеспечивала безопасность домашним животным и защиту сельскохозяйственным культурам, она возводилась для животных и против животных, она представляла собой живую изгородь или длинную стену, сложенную сухой кладкой. Но смысл в ней был всегда один: каждый сам за себя.
Зачатки некоего сельского капитализма в некотором отношении способствовали «огораживанию» и зарождению ландшафта бокажей. Крестьянин уже мог располагать лучшими орудиями труда. Если он был вынужден занимать деньги, теперь ему не обязательно было обращаться к нотаблям своей деревни. Задолженность делала его таким же зависимым, как и ранее, но он менее зависел от сельской коммуны. Каждый выпутывался сам.
В этом мире, достигшем своих пределов, люди были такими же беспокойными, как и в эпоху, когда горизонты расширялись. Не прекращалось движение, толкавшее честолюбивых или изголодавшихся крестьян на поиск прибылей – предполагаемых или реальных – в городе, а находчивых торговцев и талантливых адвокатов – из маленького города в большой. Город стал жертвой демографической катастрофы, его население непрерывно обновлялось. Ведь в городе рожали мало. Из-за профессиональной нестабильности было все больше холостяков, поденщиков или слуг без семьи. Город, особенно большой город, не изобиловал своими детьми, в нем было много детей окружающей сельской местности, где уже не хватало земли с тех пор, как поля перестали расширяться.
За день можно было пройти «район притяжения» (радиусом в тридцать-сорок километров) маленького города, привлекательность которому для человека создавали прежние поездки или поселившиеся в городе кузены. Но в Периге встречались бретонцы и пикардийцы, баски и беарнцы. Влияние метрополии распространялось далеко благодаря традициям, политической верности и экономическим путям, а в некоторых случаях даже сознательной рекламе. Париж постоянно пополнялся нормандцами, анжуйцами, пикардийцами, шампанцами, бретонцами и овернцами. Весь Лангедок изо дня в день участвовал в заселении Тулузы. А по великому южному пути через долины Роны и Соны лангедокцы, провансальцы, савояры, бургундцы, жители Франш-Конте и лотарингцы, клирики и миряне, текли в город холостяков, каковым был по преимуществу папский Авиньон.
Как маленький, так и большой город взламывал наружную стену. Стену, часто построенную еще при Филиппе Августе, за которой в течение ста лет относительного мира горожане почти не следили. Стена рушилась, бреши расширялись, ворота утрачивали створки. Снаружи к стенам лепились дома. Беззащитные в случае осады, они облегчали осаждающим приближение к стене. Но кто в 1340 г., за исключением жителей хорошо известных районов сражений (Гиени, Фландрии и некоторых других), по-настоящему беспокоился о возможной осаде?
Париж расширялся во все стороны: к Сен-Жермен-де-Пре и Сен-Сюльпис – за ворота Бюси, уже не имевшие смысла, к Тамплю и Монмартру – за стену, уже отчасти разрушенную. Руан тянулся к Сент-Уэну, Орлеан – к Сент-Эньяну. Пробуждение будет тяжелым, когда крайне срочно и с большими затратами придется чинить, отстраивать и расширять эти укрепления, что в первые десятилетия войны недешево обойдется французским муниципалитетам.
Мельницы и пекарни, дубильные и черепичные производства, все, чего горожане не хотели видеть в самом городе, где места было мало, вольготно располагались за городскими воротами. Город уже не мог бы жить без предместий. Это была территория свободы – свободы предпринимательства от корпоративных ограничений, которые действовали внутри городских стен.
Франция была богата людьми. Не менее богатой она была и ресурсами земли. Нормандцы и пикардийцы обычно экспортировали пшеницу в Англию и в северные страны. Гасконское вино было одним из основных товаров, вывозимых в Саутгемптон и Брюгге. Соль из Пеккаиса, Йера и Берра продавалась в Генуе, соль из Бургнёфа, а также из Геранда – во всей Северной Европе, вплоть до Бергена и Новгорода. Эта торговля, для которой были задействованы целые флоты, обогащала региональные центры сбыта, такие как Париж, Аррас или Тулуза. Она порождала перемешивание людей, движение денег, регулярную переписку – все средства, благодаря которым человек XIV в. познавал мир лучше, чем его предки. В Ла-Рошели встречали немцев, в Руане – португальцев. В порт Бордо заходили фламандские, нормандские, бретонские, английские, байоннские и даже кастильские суда. Тосканские банкиры заправляли в Париже, и банкиров из Лукки там вскоре будет больше, чем в самой Лукке.
Скотоводство было достаточно развито, чтобы люди имели как мясо, так и тягловых животных. Рыбаки из Дьеппа и Булони снабжали треть Франции бочковой сельдью. В лесах охотились, в прудах и реках ловили рыбу. Франция кормила себя сама.
Для промышленности, по-настоящему развитой только во Фландрии (ткачи там работали прежде всего на английской шерсти), основное сырье французы находили у себя. Шерсти из Нормандии, Лангедока и Прованса хватало для местных ткацких мастерских, вайда из Пикардии и Лангедока запросто конкурировала на рынке синих тканей с дорогими красителями Востока. Франции, правда, недоставало олова, небогата она была и бронзой, но добывала железо – в Нормандии и Шампани, в Альпах и Пиренеях. В Лионской области у нее была медь, в той же Лионской области и в Комменже – свинец.
Зато хватало энергии. На всех реках теперь стояли мельницы, иначе говоря, колеса универсального назначения. Одна молола зерно, другая валяла сукно. Мельницы разжигали горны в кузницах и огонь в печах, двигали пилы, ковали железо, давили масло из конопли. Они были сердцем зарождающегося бумажного производства.
Руда, дерево, вода: этого было довольно, чтобы населить деревню «ковалями» (fèvres)[12]12
Ремесленники, работавшие со всеми металлами, кроме драгоценных (прим. ред.).
[Закрыть] на все руки, а города – ремесленниками с более узкой специализацией: торговцами металлическим ломом, ножовщиками, жестянщиками, точильщиками. Происходила дифференциация ремесел. На первый план выходило мастерство.
Развитие экономики еще сильно сдерживал технологический застой: за тысячу лет не открыли почти ничего нового. Наконец, во второй половине XIII в. Восток придумал пушечный порох, первое достоверное применение которого датируется 1320-ми годами. В ту же эпоху всеобщим достоянием стали два инструмента, открывшие европейцам путь в море: компас, благодаря которому теперь можно было удаляться от берега, и руль, крепившийся к ахтерштевню (по оси судна), который сделал моряка менее зависимым от ветра. Благодаря капитализму – чтобы снарядить судно, теперь объединялись, – увеличится водоизмещение судов без ухудшения маневренности.
В остальном все или почти все было знакомо с древних времен. Умели использовать колесные механизмы для передачи энергии или преобразования вида движения. Было известно зубчатое колесо, «фонарь» с параллельными перекладинами, рычаг. В то время возникло лишь одно новшество, однако достойное упоминания в эпоху, когда, кроме человека или животного, единственным источником энергии было мельничное колесо, – кулачковый вал, который превращал вращательное движение в прямолинейное. В конце века появится еще одно важнейшее изобретение – кривошипно-шатунный механизм, давший возможность возвратно-поступательного движения.
Если изобретали тогда мало, то много придумывали по мелочам. В результате орудия труда как крестьян, так и ремесленников все-таки совершенствовались. Соху сменял плуг, рычаг – винтовой домкрат, раскаленное острие – коловорот.
Циркуляция людей, информации и товаров привела к единственному прогрессу – в тоннаже судов. Всадник редко мог проехать 50 километров в день, а грузовая подвода или походные носилки обычно не делали и тридцати. Судно же преодолевало в день 100–150 километров, но его маршрут огибал сушу, и его задерживали как ожидание погрузки, так и отсутствие ветра. В зависимости от погоды и длительности дня повозка тратила две-три недели на путь из Тулузы в Париж. Кораблю требовалось три месяца, чтобы прийти из Венеции в Брюгге. Это означало замораживание вложенных средств и невысокие финансовые доходы.
Повсюду, однако, начинались перемены, которые решительно изменят лицо Франции и жизнь французов. Они также придадут новый облик экономической карте и нарушат общественные отношения, устоявшиеся в период уже завершенной экспансии.
Жизнь и смерть
Естественно, во всем объеме этого феномена не сознавали. Но люди того времени перед лицом бурного мира, где каждый день нес новые проблемы, не вели себя легкомысленно. Не был легкомыслен крестьянин, откладывая на время после Великого и Филиппова поста, с весны на осень и с осени на следующую весну свою женитьбу, которой он хотел как молодой парень, но опасался как владелец клочка земли: каким бы ничтожным тот ни был, его придется поделить между наследниками. Не меньше колебаний проявлял и ремесленник, знавший как хозяин мастерской, что прокормит работника, но две-три семьи содержать не сможет. И все знали, сколько стоит свадьба, ведь неприлично было не угостить по этому поводу родню и соседей. Богач отлынивал, бедняк отсрочивал. От этого проигрывал кюре и падала нравственность. Сожительство обходилось дешевле законного брака.
Пока безработица никому не грозила, самым бедным был обеспечен кров и пища, если они не надумают жениться: поденщик, батрак в селе, слуга городского ремесленника понимал, что не может создать семью, не влезая в долги, выплачивать которые придется лишь за счет своего труда. Взять жену означало попасть в полную зависимость от хозяина. Уж не будем говорить о девушке, которой муж сто раз напомнит, что взял ее без приданого.
К счастью, бывали «добрые хозяева». Известны случаи, когда подмастерья в день свадьбы гуляли за счет хозяина, в семье у которого их было немного. Но бывали и бедолаги, подмастерья, прозябавшие всю жизнь в каморке и время от времени утолявшие жажду любви с дешевой проституткой, бывали поденщики, не знавшие в жизни иного тепла, кроме близости животных, с которыми делили хлев или конюшню. У кого котелок был слишком мал, не спешил плодить нищету, да и котелок-то был не у всех.
Легче было бюргеру, даже если он не желал делить унаследованный или накопленный капитал. Он женился поздно, часто после тридцати. Брал девушку, которую быстро делал матерью. В восемнадцать лет незамужняя девушка начинала всерьез интересовать почтенного купца или преуспевающего адвоката. Дети рождались один за другим, но намного реже, чем хотелось бы некоторым, простодушно считавшим, что каждый год можно рожать по ребенку. Все время кормления мать была бесплодной, и уже этого вполне хватало, чтобы между рождением детей были интервалы. Те немногие приемы, которые церковь осуждала, но которым девушки учились у матерей, помогали некоторым растянуть межродовой период – в среднем до полутора-двух лет. В остальное время женщина все-таки имела жалкий вид.
Увы, смерть родами была не мифом. Женились снова. Вдовцу это было совсем нетрудно, а разница в возрасте между супругами в результате повторных браков часто росла. Но муж старел, и после женитьбы сорокалетнего мужчины на юной девушке оставалась вдова, а не вдовец.
Если вдова не наследовала ничего, она могла оказаться в затруднительном положении. Зато повторное замужество было ей обеспечено, если она получила наследство, имела лавку и инструмент, могла передать поклоннику ремесленный патент первого мужа. Двадцатипяти-тридцатилетняя вдова, если была женщиной мудрой, весьма удачно выходила замуж, тогда как старая дева того же возраста шансов уже почти не имела. Старый муж, впрочем, не питал иллюзий. Но пусть вдова не будет слишком разборчивой:
Если после меня, друг мой, у Вас будет другой муж, Вы должны будете весьма заботиться о нем. Я настаиваю, ибо, когда женщина потеряла первого мужа и вернулась к прежнему положению, ей нелегко будет найти второго по вкусу.
Иначе говоря, на вдове женились по расчету. Будь второй муж ровней первому, он и поступил бы, как тот, – женился на девушке.
Шли годы. Семейная пара, старевшая вместе, прекращала рожать детей задолго до менопаузы. Наступало время воздержания. Впрочем, честная жена предпочитала, чтобы муж иногда бывал в парильнях, проводя там время с «девушками на час», или даже содержал не слишком требовательную любовницу, чем еще беременеть в сорок лет.
Старая дева в доме отца или брата была дармовой рабочей силой или лишним ртом, в зависимости от нрава и ремесла. Зажиточная вдова жила за счет дохода и командовала зятьями. Хуже было вдове, которая была всем обязана детям: они давали ей это почувствовать. Некоторые выживали только за счет того, что собирали милостыню или торговали телом. Что касается младших сыновей, женитьбу которых не слишком поощряли, то это были слуги брата, их попрекали любой мелочью, словно чужих наемных работников, они подавались к капитанам, собирающим компанию.[13]13
Компания (compagnie) – в XIV–XV вв. административная и тактическая войсковая единица под командованием капитана, насчитывавшая от нескольких до свыше ста копий (прим. ред.).
[Закрыть]
Конечно, были исключительные семьи. Бывало, что мать рождала двадцать детей. Но это редкость. Чаще всего женщина, не умершая родами, могла гордиться, если подарила мужу шесть-восемь детей. Выживало два, три или четыре. Но это средние цифры, их надо раскидать: чуть больше детей было в деревне, где детские заразные болезни не всегда переходили в эпидемии, от каких страдали городские дети, чуть меньше в городе у бюргера-мальтузианца, намного меньше у бедняка, который не спешил жениться и чьи дети страдали как от плохой гигиены, так и от недоедания. Когда отцу приходило время задуматься о завещании, у него оставалось лишь два-три ребенка. Для всех социальных слоев Периге – кроме бедняков, которым оставлять было нечего, – в завещаниях 187 семей насчитывается всего 491 ребенок, еще живой в то время, когда отец составлял завещание, то есть в среднем 2,6 ребенка на семью.
Теперь общество поразил и угрожал ему голод, от ежедневного недоедания до смертоносного отсутствия пищи, после того как три века роста земледелия и повышения доходов понемногу выветрили память о голоде. Он заметно дал о себе знать во время страшного мора 1315–1317 гг. И однако Франция сороковых годов еще была страной, где каждый мог есть досыта, более или менее в свое удовольствие. Ели даже довольно прилично. Но теперь снова знали, что ничто не обеспечено навсегда.
Основу питания составляло «зерно» (ble's), злаковые, вид которых зависел от преобладающих в том или ином регионе почв. На столе чаще оказывался ячменный или ржаной хлеб, чем хлеб из белой пшеничной муки. Ели овсяную или ячменную кашу, гречишные лепешки. Если зерна не хватало, замечательные лепешки пекли из каштанов, а отвратительную кашу варили из желудей. Горох, бобы и вика, которые народ тоже считал зерном, представляли собой основное блюдо во многих трапезах. Что касается супа, его готовили из капусты, когда была возможность, или из «трав» (годилось все), когда наступали тяжелые времена.
Попробуем составить для поколения французов времен Филиппа VI нечто вроде «энергетического баланса». Добрую половину, почти три четверти его составляли мука и мучные изделия. На мясо и рыбу оставалось всего тридцать процентов у зажиточных людей и пять процентов у самых бедных из тех, кто не голодал. Эти пропорции, безусловно, значительно колебались в зависимости от года и от сезонных цен. Но тем не менее говядину, баранину и свинину ели довольно регулярно.
Главная роль здесь отводилась свинине – она служила регулятором распределения калорий в течение всего года. Ее солили, а запасы сала и мяса раскладывали на двенадцать месяцев. Кадка с солониной в хозяйстве успокаивала людей, знавших, что сезон на сезон не приходится. Людей, не имевших возможности съесть немного мяса раз-другой в неделю, было так же мало, как и людей, совершенно не знавших вкус белого хлеба. Не забудем о домашней птице, яйцах и, наконец, о сыре, этом дешевом белке. Они делали повседневное питание сбалансированным. Они защищали население от тяжелейшего авитаминоза.
К тому же была еще и рыба. Рыбаки из Дьеппа и Булони снабжали всю Северную Францию сельдью и скумбрией. Выбор был очень широким – от осетра, которого подавали на столы аристократов, до каракатиц, бедняцкой «рыбы», от копченой сельди, тяжелые грузы которой везли целыми обозами, до сельди «нувеле» (nouvelet), которую совсем свежей (что бы сказали мы об этой свежести?) на быстрой лошади доставляли на обильно накрытые столы, где бочковая сельдь выглядела бы жалко рядом с морским чертом, угрем и щукой.
Даже если современник Филиппа Валуа, чтобы не попасть на виселицу, воздерживался от браконьерства в лесу сеньора или в садках аббата, он все равно ел линя и карпа, равно как и крольчатину. В самых мелких ручьях, в самых крохотных прудах систематически ловили рыбу. Города наживались на своих рвах, сдавая их на год в аренду рыболовам-предпринимателям. Они брали плату за право удить из прибрежных домов, забрасывать сети в реку из пришвартованной лодки, ловить удочкой с моста.
Почвы и климат делали Францию страной, где вина всегда хватало. Виноградники встречались и в Котантене, и в Пикардии. Вино могло быть дороже или дешевле в зависимости от года и сезона, но часто бывало посредственным и очень плохо хранилось. Редкие вина оставались приятными на вкус до конца года. Тем не менее они были не столь подозрительными, как вода из рек и даже колодцев.
В дополнение к трапезе и для утоления жажды вино встречалось на всех столах и в любой таверне. Оно было наименее плохим из снадобий, какие предписывала медицина профессиональных медиков (mires) и народная. Им утоляли жажду летом и согревались зимой. Было бы ошибкой забывать об этой теплотворной функции вина – других тонизирующих средств в средневековом обществе еще не было.
Не все могли позволить себе гасконское или онисское, бонское или оксерское, словом, лучшие сорта, перевозка которых стоила дорого. Но парижане высоко ценили вино из Шайо и Аржантёйя, любители ланского встречались до самого Эно, ванвское и кламарское вполне устраивало нормандцев. Как на берегах Роны и Мозеля, так и в долине Луары росли отборные виноградники, продукция которых плохо переносила перевозки, но радовала окрестных жителей. Короче говоря, когда француз пьет только воду, значит, и вправду дела плохи.
Что касается ячменного пива, которое варили в самых северных районах, до английского ему еще было далеко. Но в Лилле или Валансьене цену гасконского и бургундского вина удваивали дорога на судах, телегах, прибыль разных посредников и купцов. Здесь пиво играло ту же роль, что в других местах вино: его пили за неимением лучшего.
Однако все это было очень ненадежно: если есть досыта, если пить сколько влезет, не останется никаких запасов. Ячменю постоянно отдавали предпочтение перед пшеницей из-за того, что на лучших землях ячменное зерно давало урожай от сам-шести до сам-десяти. Но это был уже предел развития. В большинстве случаев урожайность не превышала сам-три – сам-четыре. Рациональные приемы, которые позволили бы получать максимальный урожай с каждой парцеллы пахотной земли, например, севооборот, еще только зарождались. Лишь постепенно в северной Франции распространялось трехполье, сокращая площадь непродуктивных залежных земель. На бедных землях, особенно на Юге, двухгодичное чередование культур еще не сопровождалось разделом пашни на систематически чередуемые участки. Каждый поступал по своему усмотрению. Множились подъездные пути, которых было уже не меньше, чем пашен. А инвентарь зависел от размера клочков земли, которые постоянно дробились при наследовании.
Поэтому никто не был уверен в завтрашнем дне. Тем более выживанию крестьянина и снабжению горожанина грозил неурожай. Запасов не было. Чтобы разразилась катастрофа, хватало одного неурожайного сезона.
Последние иллюзии пришлись на 1300-е гг. Тогда есть досыта считалось нормальным. О голоде успели забыть. Три поколения по-настоящему не познакомились с ним – с детства Людовика Святого до детства Филиппа VI голод в королевстве не свирепствовал. Поэтому гнилое лето 1315 г. было воспринято как кара небесная: дурное обращение с папой, сожжение тамплиеров, повешение министра – все это взывало к возмездию. Моле, Климента V, Филиппа Красивого и Мариньи объединила смерть. Нескончаемый дождь летом, когда урожай гнил на корню, хорошо вписывался в картину катаклизма, легко объяснимого вмешательством высшего суда. Зимой цена на зерно утроилась. Следующим летом от апелляций к сверхъестественному отказались. Нужно было признать очевидное: хорошая погода – не постоянная данность, как считали прежде. Вторая зима была еще суровей первой: иссякли последние запасы. В некоторых городах на Севере уже умирали от голода, когда третье дождливое лето 1317 г. окончательно повергло всех в уныние.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































